Текст книги "По велению Чингисхана"
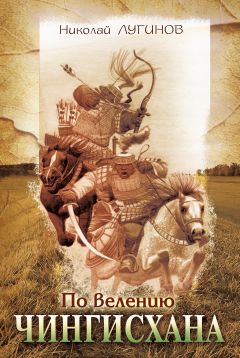
Автор книги: Николай Лугинов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 77 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
Глава вторая
На распутье
Спят на привязи собаки,
Спит корова в теплой стайке.
Спи, малыш мой, спи, любимый,
Баю-баюшки, мой милый.
Коновязь – коню подруга.
Одинок колчан без лука.
Спи, малыш мой, спи, любимый,
Баю-баюшки, мой милый.
Отдыхает меч в ножнах,
Пыль дорог – на стременах.
Спи, малыш мой, спи, любимый,
Баю-баюшки, мой милый.
Мудрость жизни – у людей,
Слава – у богатырей.
Спи, малыш мой, спи, любимый,
Баю-баюшки, мой милый.
Баир Дугаров
Прошлой тревожной весной Джамуха окончательно отколол свое разнородное войско от обескураженных поражениями найманских сил и устремился на север Алтая. Под его водительством шли в набег пятнадцать мэгэнов-тысяч, и они завоевали два небольших и слабосильных племени хабханас и тюбя, что мирно ютились в бассейне рек Ийэ Сай – Енисей, что означает «материнское лоно».
Ни большой добычи, ни надежного пополнения с этой победой получить не удалось – племена, не ведущие войн, изживают себя: мужчины цепляются за бабьи юбки, но и юбку удержать не в силах, когда приходит захватчик и забирает их дочерей, невест и жен, обращая жилища в пепел, женщин – в рабынь и наложниц, мужчин – в безродных рабов, прислуживающих новым хозяевам.
Эти не имели тучных отар и овец, а коней держали только ездовых; верблюдов, ослов, мощных упряжных волов они и в глаза не видели, а кормились от реки и леса – ловлей рыбы и охотой. Всякий сурт жил наособицу, и эта их разобщенность позволяла Джамухе думать, что собрать из лесных племен единое маневременное войско в короткие сроки было бы попросту невозможно. Каждый отдельно взятый из юношей и мужей был привычен к тяготам кочевой и дорожной жизни, сноровист в излюбленном занятии добычи рыбы и зверя, но из них невозможно было сколотить мало-мальски управляемые отряды, а организованность в войске главнее одиночного умения, сноровки. Да и военного азарта в лесовиках не наблюдалось, а мир их был ограничен невидимыми стенами умения довольствоваться малым и видимыми стремнинами быстрых холодных рек, бегущих на север, буреломными лесами, восходящими в скалистые горы, куда, возможно, ушли самые крепкие и многочисленные из родов, населяющих эту местность. Джамуха смутно пожалел о допущенных жестокостях своих наймитов и сотоварищей. Дурная слава легче самой быстрой крылатой стрелы и собрать рассеянные по тайге и горам племена, чтобы присоединить их к воинству, было не по силам Джамухе.
Люди, раскинувшие стан ниже по горному склону, жгли костры, и белесый дым поднимался к Джамухе, пощипывая его глаза, привычные к дыму. Может быть, это призрак слез, и не дым ест их?.. Разве эта малая и бесполезная победа не похожа на большое поражение? Но кто над ним, кроме Господа Иисуса Христа?.. Андай. Тэмучин-андай торжествует и смотрит презрительно на бывшего своего сподвижника светлыми крапчатыми глазами. Тэмучин, который никого не терпит на своем пути, но в то же время попутно укрощает пламя вражды, и на которого люди не таят зла… где набрался он небесной мудрости?.. Он разметал род джуркинов, но лучшие воины из них присягнули ему. В прошлом году до Джамухи дошли слухи о восстании мэркитов, которые по своей воле присоединились к нему, Тэмучину, после победы над найманами. И это восстание заглохло, как затихает в детском кулачке ловко пойманная навозная муха… Просторная спина у андая, широкая, как море Байхал, прячущее в себе буйных духов водной стихии. Джамуха не раз видел, как светлые глаза Тэмучина темнели от гнева и сдерживаемой ярости, но и вода в котле кипит, а стенки его остаются гладкими: андай давал страстям отстояться, уйти в осадок, в ил. А ил этот становился на редкость плодоносным – на нем, похоже, возрастали сады великой Империи и давали тень успокоения каждому, кто бросал сюда семя.
«А зачем же я?… – Голова Джамухи покоилась на седле, брошенном на молодую поросль травы, и взгляд был устремлен на вершины гор, на гордую седловину, где всадником был тойон Тэнгри – Бог Чингисхана. – Его мать Ожулун, говорят, завела еще одного приемыша… Зовут его Борогул, родом из джуркинов… Вокруг Тэмучина родные и сводные братья, множество детей… Я один, как отверстие сурта! Кто и за что меня проклял?.. Я один, андай…»
Джамуха простонал, не боясь, что его услышат. Он вспомнил свою жену девушкой, подобной весеннему цветку мака в степи, готовой к любви и послушанию, к боли и материнству – второй земной жизни всякой здоровой женщины. Вспомнил разбитый печалью Джамуха и то, как однажды ночью жена засмеялась во сне удивительно звонко и безмятежно, как и в юности не часто смеялась. Где была в тот момент ее душа, отягощенная пустым цветением тела, так и не давшим плодов? Жизнь кончена, бедная моя подруга! Именно в ту недавнюю ночь Джамуха увидел край пропасти и сухое дерево на этом краю… Богиня Иэйиэхсит – хранительница матерей – так и не повернулась к ней с ласковой улыбкой на божественном лике. Не помогли шаманы Хутуха и Баяруг, доставая свои белые камушки из сумок, омывая их горной водой и вздымая камушки к духам. Не помогли удаганки-знахарки, камлая над сухими травами, возжигая их и окуривая сурт Джамухи. И жизнь в этом среднем мире пуста, если человек не оставляет потомства. Бедная Ача-хотун! Уже и не помнится, когда светлело ее лицо в улыбке, когда звенел ее смех, хоть одним своим переливом напоминающий тот смех во сне. Еще в юности, понял вдруг Джамуха, на ее прекрасном личике лежала печать глубокой, все затмевающей скорби, и эта проступающая сквозь улыбку скорбь делала девушку еще более желанной для Джамухи: он хотел сделать Ача-хотун счастливой, самоуверенный жеребчик! И получил судьбу, в объятьях которой стонет от жалости и нежности к пустоутробной жене! О, сколько нечисти, уродов, пресмыкающихся перед силой, загрязняет подсолнечный мир! О, почему он, сильный Джамуха, вынужден притворяться веселым и смешливым в присутствии жены, чтобы не ранить ее терпеливое сердце даже намеком на то, что жизнь не удалась? И она, все понимая, принимает его игру: так и оберегают один другого, как две усталые лошади, уложив головы на шеи друг друга, хвостами отгоняют больно жалящие мысли. Вот и сыновья Мухулая будут служить Чингисхану, которому даже цзиньцы присвоили титул Джауд Хури – миротворец – не смешно ли?
Небо начинало светлеть.
Джамуха встал, поднял с земли седло и побрел к сурту успокоенный, словно додумал какую-то важную мысль до самого ее излета. Шатер был установлен у подошвы горы, и у выхода, обращенного на юг, крепко спал караульный. Он стоял, опершись на древко копья, и, уложив голову на кулаки, крепко державшие древко, похрапывал. Его юношеское щекастое лицо безмятежно улыбалось Джамухе. Отсечь ее, эту глупую голову?.. И – что? Почти половина людей, которых он увел за собой после отделения от найманов, рассеялась по пути. Кто умышленно, а кто выбившись из сил, но ясно одно: первыми соображают отделиться наиболее сметливые, проворные, быстрые на подъем. А среди оставшихся преобладают такие, как этот караульный – сони, тугодумы и неумехи – из чего выбирать? Все. Лучшие времена позади… Они там, внизу, где уже журчат талые воды и зеленеет степь, наполняясь гомоном солнцелюбивой живности. А здесь Джамуху окружают нависающие лесистые горы – мрачная, гнетущая душу сторона, где еще долго будут держаться снега по расщелинам. Лошади едва пережили эту зиму в снегах, и надо стоять здесь, пока не войдут они в силу после тебеневки.
Джамуха еще раз обошел вокруг спящего караульного и решил не будить того: разбуди – нужно наказывать, и наказывать строго, но до строгостей ли сейчас и поможет ли это наказание сохранить боеспособность войска? Спи, дурачок, спи, пока вблизи нет того, кто может оставить эти глаза закрытыми навечно, всего лишь раз взмахнув мечом… Там и отоспишься, если птицы глаза не вылущат.
Возраст ли это, но Джамуха становился все более беззащитен от мыслей о смерти и был не властен над ними. Он не то чтобы боялся смерти, но от ее дуновения ощущал что-то вроде магического обмирания своей жаркой и жадной до жизни души.
И не страх, не жалость к себе ужасали, а пугало то, что потерялась дорога, бывшая прежде ясной и широкой, как большие звездные тропы в хорошую для звезд ночь.
Он чувствовал себя большим человеком, он и был таковым, а потому брался за дела, в которые верил безоговорочно и безоглядно. Однако мог ли он решать только за одного себя, будучи военачальником? Нет. Увлекаемый интересами окружения, он, Джамуха, часто впутывался в чуждое своим интересам дело. Вот и приходится всю жизнь терять себя, возвращаться к тому, от чего бежишь, чему сопротивляешься. Будь ты хоть каким чистым и простым душою, все равно болезни и страсти окружения опутывают помыслы, передаются, как тарбаганья болезнь, липнут гнусом – и вот ты становишься предателем, ни разу не предав, обманщиком, не обманув, лжецом, не солгав… Вот они, горе и сожаление! Когда лучшая часть жизни позади, оказывается, что жил не по своей воле и желанию, а лишь глупо следовал чужому велению и начинанию. Так узнаешь конец, не ведая начала. Не так ли воспользовались его честолюбием Тогрул-хан, Тохтоо-Бэки и Сача-Бэки, превратив Джамуху в гончего пса кэрэитов и мэркитов, в бьющего сокола найманов? Не он ли, приняв за свою чужую ненависть, обратил копье против Тэмучина? Не он ли, Джамуха, кичился своей свободой от чужой воли, ставя свою волю превыше любой другой, живой или мертвой, но что это – воля? Свобода? Захотел – ушел, решился – сделал… Не так ли поступает неразумный еще ребенок, пачкая все подряд или входя в реку на нетвердых ножонках?… Непостижимым законам мироздания нужен жесткий закон жизни человеческих сообществ, который может постичь каждый человек и добровольно подчиниться ему, чтобы чувствовать себя свободным внутри этого закона. Иной свободы нет, есть лишь слова о ней, которые от многократного оборота теряют изначальный смысл и превращаются в свою же противоположность. Так стали противоположностью они, Джамуха и Тэмучин, побратимы-ханы, по-разному постигающими суть свободы, а посредине – жизни и судьбы многих и многих. Верно говорят мудрецы: с кем поведешься, с тем и судьбу разделишь.
Тот мальчишка, что выкапывал корни съедобных растений и ладил удочки на рыбу; тот, который прятал слезу над издохшими овцами, не зная чем, кроме ягод дикой рябины, накормить мать, сестер и братьев, когда скрывался от Кирилтэя – он уже тогда говорил Джамухе:
– Наша степь велика, и правят в ней десяток мелких и безмозглых ханов… Они не признают стыда и правды, как Кирилтэй… Ради жирного куша они плодят клевету, слухи, вражду между людьми и народами, потому что только война дает им этот кусок… Они попирают обычаи и нравы народов, выпестованные веками кочевой жизни, пресмыкаются перед сильным и помыкают слабеющими. К чему это ведет? Где конец этому самоистреблению? Он – в единстве перед лицом высшего закона… Это и есть свобода! Но кто, какой божий посланник, наконец, установит этот единый для всех закон, где же он?
Так говорил в их первую встречу сын Джэсэгэя-Батыра, и его плечи под овчинным тулупом подрагивали не то от холода, не то от волнения. С ледяной глади Онона несло снежной взвесью, а войлочные сапоги Тэмучина порядком поистрепались – он крепко сжимал ногами бока своей кобылки, грея ноги. Тогда Джамуха, сын вождя джайратов Кара-Хадана, угостил подростка сушеным мясом из своего дорожного кожаного мешка и сказал, как может сказать тринадцатилетний взрослый сопляку-одиннадцатилетке:
– Решившись однажды подчиниться кому-то другому в этом срединном мире и жить по его указке – разве это достойно ханских детей! Что это за высший закон?.. Что можешь знать о нем ты – изгой, не брезгующий есть сусликов и кору деревьев?
– Я ем то, что могу добыть. Я ем, чтобы не умереть с голоду и сохранить род, – и он протянул недоеденное мясо Джамухе. – Возьми, я могу обходиться без него.
– Я рад, что встретил тебя… – отводя его руку, начал Джамуха, но Тэмучин перебил:
– А высший закон тот, которому подчиняются звезды на небе и по которому они исчезают с восходом солнца… Тот, которому подчиняются реки, убегая строго на север… Тот, непостижимый рассудку мудреца, по которому муравьи возводят свои крепости… Птицы летят на гнездовья, рыба идет на нерестилища… Людям нужно найти свое место внутри этого закона… И только тот, кто предугадает и предвосхитит неумолимый и верный ход этого закона, будет победителем.
Он сунул остатки мяса под седло, чтобы не обидеть нового и единственного друга, сказав:
– Отвезу мяса Хасару…
Может быть, уже тогда, научившись заботиться о сородичах, он понял смысл ханской свободы, отличной от свободы простого воина или скотовода?.. Поддавшись соблазну вседозволенности, Джамуха на склоне лет превращается в хана-бродягу, бежит и теряет тех, кто безоговорочно следовал за ним и его знаменем. А что же андай Тэмучин? На просторах Великой степи он становится единственным владыкой. Еще пылят по ее окраинам смятенные остатки мэркитов Тохтоо-Бэки и найманов Кучулука, но эту пыль легко осаживает быстрое время, относит свежий ветерок: все, кто не с Тэмучином, – обречены.
* * *
«Как этот день похож на тот, когда мы впервые обнялись по-братски… – заметил Джамуха, глядя на холодные слоистые облака. – Но эта холодная весна как проклятие, а та была полна надежд!»
Какое-то несчитанное время Джамуха еще постоял, с отвращением глядя на вялые струйки дыма, вьющиеся из суртов, погруженных в снега и раскиданных внизу по долине.
Мало осталось и людей, и скота. Три племени, каждое из которых ушло и увело по мэгэну, угнали с собой стада, и пошли слухи, что андай Тэмучин принял их как друзей и даже не разоружил. Это говорит о нечеловеческой выдержке Тэмучина.
Во многих на войне вселяется дух илбис – дух кровожадности, приносящий помутнение рассудка, и Джамуха знал это по себе, часто срываясь в бездну темного безумия.
«Это я заживо сварил в кипящих котлах наследников вождей рода чонос, а такого на степных просторах не видало дотоле ни одно око… Я сварил их, как диких уток, которых привозил некогда в сурт бедного Тэмучина! Что кричали они в предсмертных муках? Они проклинали меня… Это с тех пор, однако, меня остерегаются вожди! И никто не придет ко мне с повинной, как идут к Тэмучину, а он, похоже, искренен, когда объявляет о забвении всех прошлых обид и измен – время подтверждает это, и его слову верят…»
Имя Джамухи – стрела, потерявшая оперение.
Имя Тэмучина – стрела со свистящим наконечником, сеющая панику в рядах недругов.
«Тэмучин с основным войском не стал возвращаться в родовое стойбище, а зимует у южного подножья Алтая – значит, он намеревается добить остатки беглых мэркитов и найманов… Он хочет обезопасить себя от возможных предательств со стороны бывших подданных найманов: пока жив родовой хан – мысли его бывшей челяди могут повернуть вспять. Их обычаи на их стороне, а Тэмучин чтит старые традиции. Не то что мы…» – грустно усмехнулся Джамуха и, облегченно вздохнув, сильно хлопнул спящего часового по плечу.
Тот проснулся, едва не упав на четвереньки. Шапка с его головы слетела, а руки искали ее на голове, ероша косицу. Глаза увлажнились от ужаса и стыда, рот раскрылся в немом крике.
– Караулишь? – спросил Джамуха.
– В-в-а…в-в-в-а-а…
– Карауль, карауль, – успокоил его Джамуха и вошел в сурт.
* * *
Днем прибыл вестник от лазутчиков.
Болтонгой, известный выносливостью и скороходностью, отмахал на своем столь же выносливом коньке расстояние почти в двадцать кес[2]2
Кес – расстояние в 10 километров.
[Закрыть] и преодолел несколько каменистых гряд всего с одной ночевкой в пути. Он повесил оружие у входа и сбросил на пол шубу, что была шерстью наружу. Джамухе показалось, что от разгоряченного тела вестника сквозь кожух шел пар, когда он стал говорить о перемещениях войск Тэмучина.
– Два тюмэна прошли прямо на запад. Похоже, преследуют найманов…
– Где сам?
– Кто сам?
– Сам хан с ними?
Болтонгой сделал обиженный вид:
– Как узнаешь? Все на их стороне, заелись! Чуть приступишь с расспросами – уже глядят с подозрением: не чужой ли? А мы в снегу по усы да за голыми скалами на ветру следили за тумэнами… Хорошо в последние-то дни пригрело, оттепель пошла и следов наших стало не видать – опал снег…
– Опал?
– Хорошо опал, – подтвердил Болтонгой.
– Хорошо бы голова твоя бестолковая опала! – рявкнул Джамуха. – Вы что, по пустоши бродили?! или в тех местах нет одиноких рыбаков, болтливых старух? Там нет охотников, каждый из которых имеет уши, глаза и язык? Чем вы занимались, скажи, глупая твоя голова!
Небольшое тело Болтонгоя замерло в дверном проеме, словно вытянувшись в струну. Он потеребил усы и, глядя в переносье гур хана[3]3
Главный хан.
[Закрыть], твердо сказал:
– Его не предают – так получается…
Теперь Джамуха отвел глаза, чувствуя всю определенность услышанного и несостоятельность своих требований к разведке. Он отошел к очагу, присел на корточки перед тлеющим валежником. Мысли его легко отлетели в прошлое, туда, в верховья Онона, где собирались войска для похода на мэркитов и где все они втроем: Тогрул-хан, Тэмучин и Джамуха – были охвачены острым предощущением победы и триумфа. Тэмучин же не только надеялся освободить Бортэ, но и сплотить людей. Даже молодые пастухи, что присоединились к новому молодому вождю в надежде обогатиться в набегах, и те казались опытному Джамухе не такими уж новичками. Они охотно подчинялись Тэмучину, хладнокровно перенесли переправу на плотах через Хилок. Средь них не нашлось паникеров и отступников – чем сплотил их андай?
– Не предаю-у-у-т? – делано удивился Джамуха, оборачиваясь к своему лазутчику и подзывая его к себе. – Что ж он, по-твоему, колдун?
Болтонгой с облегчением отметил перемену тона гур хана и заложил большие пальцы рук за потертый кожаный пояс, снимая тем самым невольное напряжение мышц. Он сказал, подходя к очагу:
– Его шаман Тэб-Тэнгри – очень сильный шаман.
– А-а-а! – отмахнулся вяло Джамуха. – Шаман может предвидеть ход событий, но не в силах изменить его…
– Кто его знает… Какой-то секрет, я думаю, есть: мы же годами ищем доверия, а чуть стоит расслабиться – нас предают! Что думать, гур хан? Андай твой пошел далеко в полководческой науке… Мне удалось узнать, что за несколько дней до прибытия основного войска высланные вперед сюняи уже готовят места ночевок, пастбища и корм для лошадей, облавную охоту или запасы еды… Они же и заранее ищут годные для продвижения вперед перевалы, дороги и броды… Как ты это назовешь?
Джамуха сидел молча и недвижимо.
Болтонгой продолжил, не в силах остановиться – так оступаются на темной тропе:
– Все это я видел своими глазами… Это правда. Или нужно кривить душой, чтоб угодить тебе, гур хан?
Джамуха снова промолчал. Огонь играл на толстых золотых пластинах пояса, который в том походе надел на него Тэмучин. Пояс этот был взят андаем в шатре поверженного Тохтоо-Бэки. «Не тесен ли он тебе, храбрый Джамуха?» – вдруг услышал он в себе голос Тэмучина и вслух ответил:
– В самый раз!
– В самый раз? – переспросил Болтонгой озадаченно, не получив прямого ответа на свой вопрос о душе. – Лгать тебе? Чтоб тебе понравилось?
– Я не призываю тебя лгать, – встал во весь рост Джамуха. – Но никому – слышишь? – ни одному зайцу в степи об этом не рассказывай. Надо крепить боевой дух войска… Еще не все потеряно, а судьба переменчива. Ничего не говори ни одному из тойонов, иначе вскоре загудит весь курень… Люди устали от этой непривычной местности, гнетущей душу и дух степняка… Устали, может быть, без боев, от уклонений и бега в неведомое. Им нужна простая цель!
Он ударил кулаком по кулаку. Как бы верша мысль и закрепляя ее, вступая в привычную и понятную жизнь. И, хотя он отвернулся от огней очага, в его глазах, смотрящих прямо на Болтонгоя, играли живые огоньки.
– Сколько тебе лет?
– Семнадцать, Джамуха, – с невозмутимо-каменным лицом отвечал юноша: он был готов ко всему, и это нравилось Джамухе. Он ценил в мужчине невозмутимость и выдержку.
– Кто твои родные? Живы ли?
– Отец погиб в битве с мэркитами. Остались мать и сестренка, чуть моложе меня.
– Лицом ты похож на Хопсугула-тойона…
– Хопсугул-тойон был моим отцом.
– Он был одним из лучших воинов в нашем роду джаджират! – сказал чистосердечно Джамуха и заметил, что не так уж бестрепетен Болтонгой, если на его юном лице засветился румянец смущения. – Лучшие идут первыми и первыми же попадают под топор войны… Из твоего донесения я понял еще и то, что ты умеешь средь большого птичьего гомона услышать запевалу… Ты можешь стать таким же великим воином, каким был твой отец Хопсугул-тойон, но всякое военное ремесло может развиться в человеке только при настоящем вожде.
Джамуха взял юношу под локоть и провел его к войлочным подушкам, на которых обычно восседали тойоны, приглашаемые на курултай. Оба присели друг против друга.
– Вот так-то, – сказал Джамуха, словно бы мысленно охватывая весь будущий разговор и уже ставя на нем точку. – Слушай же меня, Болтонгой.
– Слушаю, – порываясь встать перед гур ханом на колено, ответил юноша, но Джамуха легким толчком в плечо усадил его на отведенное гостю место.
– Много сделал для меня славный Хопсугул-тойон. Он старался возвысить мое имя, приумножить мои богатства и мое влияние, сам возвышаясь вместе со мной. Когда он погиб, то выяснилось, что ценой своей жизни он повернул ход сражения в мою пользу. Могу ли я позабыть такое, как неблагодарное животное? Из вождя малого джаджиратского рода я превратился в гур хана. Вырос и ты с тех пор, как он погиб, и стал моей стремительной стрелой, моей хитрой лисицей и бьющим соколом. Мои враги давно нашли бы способ расправиться со мной, но я не стал богат, мои богатства не соблазняют их, а такие, как ты, надежно защищают меня, хотя мы и превратились в беглецов, чьи убежища – каменные щели… Я в капкане, и назад мне ходу нет. Говоря о настоящем вожде, я имел в виду…
Болтонгой, кажется, потерял дыхание, когда гур хан сделал мучительную паузу.
– … Чингисхана. Говорю тебе: уходи от меня, обреченного, к нему. Там ты вырастешь в большого тойона.
– О-о-о! – округлил рот и глаза Болтонгой: он испугался того, что услышали его уши. Может быть, гур хан испытывает его преданность? Юноше и в голову не приходила мысль об измене. О самой возможности другой, иной судьбы…
– Нет, нет, гур хан! – заговорил он, стараясь не горячиться. – Я не уйду, пока есть ты: хан для воина – это судьба, это отец и мать! – так меня учили. Даже думать о таком – все равно что плевать на могилу отца!
Джамуха не был бы гур ханом, если б не мог остудить юношеский пыл, подобный тому, что начинал охватывать молодого воина, сидящего возле. Ему даже не нужно было напрягать мысль и облекать ее в высокие слова, чтобы убедить собеседника – сына своего боевого товарища – внять приказу вождя: так мощный лев, лениво ударив хлыстом хвоста по своему мускулистому телу, дает зарвавшемуся сеголетке представление о раскладе сил.
– Если то, что ты сказал – закон для воина, если хан для тебя и отец, и мать, то делай так, как я велю…
– Слушаю гур хан, – склонил голову Болтонгой, но в голосе его Джамухе послышалась сдерживаемая обида. – Ты гур хан, твое слово – закон. Скажешь умри – умру, скажешь иди – пойду…
– Завтра с рассветом отправляйся в путь. С собой возьмешь мать и сестренку. Держите прямо на юг. Думаю, тебе не составит труда отыскать войско Хорчу-тойона и ты не забудешь при его поисках об осторожности. Не нужно, чтобы вокруг тебя роился туман домыслов и чтобы в тебе заподозрили шпиона. Ты знаешь, кто такой Хорчу?
Не поднимая головы, Болтонгой ответил:
– Это тойон менгетей из нашего джаджиратского рода… Исправно служит Чингисхану…
– Так. Назовешь ему мое имя и скажешь: «Брат мой из братьев, тойон Хорчу! Болтонгоя, который передаст тебе это поручение, отправляю с надеждой, что ты сделаешь его своей правой рукой. Меня же одолели худые предчувствия и мрачные предсказания. Я боюсь не за себя, а за судьбу рода. Так стань здешним джаджиратам защитой и надежным укрытием – они не подведут тебя, как и ты, некогда подаренный мной своему андаю, стал моей гордостью. Пусть Господь Бог Христос помогает тебе, а мне уже ничто и никто не поможет!» Я сказал!
– Ты сказал – я услышал! – пробубнил, вставая, Болтонгой, и Джамуха удостоверился в услышанном, заметив в глазах юноши отчужденность, какая бывает у еще живых, но уже тронутых крылом смерти, раненых или обиженных насмерть…
Да и в душе Джамухи, словно кровоточащей все это время скитаний, в душе, из которой он только что вырвал еще одну живую частичку, уже начинала образовываться ткань отрешенности от срединного мира.
Он рванулся было обнять Болтонгоя, но побоялся боли, которую может нанести это человеческое движение души, надорвав тонкую ткань потусторонности и самоотрешения.
– Спеши! – сказал он, указав на выход из сурта.
* * *
Пришла нежная оттепель, задули теплые ветры, стал таять снег выше долин, а вместе с ним таяла и численность войска Джамухи. Неведомо как, слухи о том, что войско Чингисхана прошло мимо, преследуя обескураженных мэркитов и найманов, достигали становища и вымывали его плоть, обнажая скелет, уже явственно видимый внутреннему взору гур хана.
– Джамуха гур хан, мои нукеры готовы поотрубать головы беглецам, – бодрил коня Маргай-тойон, и конь его делал свечу, готовый к изнурительной скачке. – Прикажи: обезглавим вожаков-предателей, а остальных плетьми пригоним в орду!
Любимый конь Джамухи с черной полосой на спине, словно проникаясь мыслями всадника, только переминался с ноги на ногу под седлом и вяло помахивал ухоженным хвостом.
– Оставь им их головы, – отвечал Джамуха. – Пусть теперь отвечают за свои головы сами.
– Да как же так?! Глядя на них, и остальные разбегутся, а?
– Я никого не держу силой: кто хочет – пусть уходит, путь открыт и степь им войлоком! – он глядел на пепелища бивачных костров и осиротевшие коновязи – и это итог его жизни?
Но объезжавший с гур ханом становище старый воин Маргай-тойон не спешил верить словам вождя: он не единожды переживал подобные спады в настроении Джамухи и знал, что тот – не чета простым смертным. В нем жило могущество духов, а с этим нужно родиться, как с линиями на ладони. Один крик гнева такого избранника небес способен поставить на колени целые тумэны врагов – Маргай-тойон всем сердцем верил в это. И он ли один? Вожди всех племен, собравшись на совет против Чингисхана, подняли над собой на белоснежном войлоке именно Джамуху, а не кого-то другого, чьи возможности имеют человеческий предел. Кто-то из союзников уже пожалел о присяге и нарушил ее – не рано ли? Но тот ли Джамуха едет сейчас рядом с Маргай-тойоном и печально озирает тревожное становище, которому придает видимость прочности лишь белый ханский шатер у подножия горы? Этому ли человеку была принесена клятва верности? Такие мысли могли завести далеко, и старый воин тряхнул головой, как при умывании лица холодной водой горной речки, плюнул на ветер слева от себя в маску духов смущения: не-е-эт! Джамуха это Джамуха… И никто не скажет, что он надумал, дабы обернуть поражение победой.
Вот гур хан поднял руку и произнес:
– Снег опал – не пора ли устроить облавную охоту?
Радостью отозвались эти слова во всем существе Маргай-тойона.
– Хоп! – ответил он. – Дадим нукерам порезвиться!
– Собери два-три сюна… Остальные тоже пусть отправляются на охоту, но охрану стана усильте. Известите всех, кто живет отдельными станами: чадаранов, хатагы, салджетов, дюрбенов и унгуратов – пора охоты! – и Маргай-тойону показалось, что конь Джамухи заиграл под седлом.
– Уруй! – сказал он еще раз, подчеркивая свою готовность исполнять и действовать. – Когда выступаем?
– На рассвете!
* * *
Ача-хотун произрастала из корня древнетюркских ханов.
Иссыхала тонкая ветвь векового дерева, и в скорбной устремленности своей бездетной жизни она часто приходила к мысли: уж не отголосок ли ее судьба той тяжкой поступи предков, которая на необъятных просторах матери-земли растаптывала судьбы целых племен и народов?.. Горят небесные костры – Стожары. Отошедшие в иные миры люди становятся видимыми и невидимыми глазу звездами, а когда они падают – не есть ли это знак того, что наконец свершилось неведомое возмездие из глубины веков и на земле чей-то род прервался?
Прошла первая огневая охота после долгой зимы, и люди, сидящие у сытых костров, едят уже не сушеную баранину с подсоленной водой, а сочное парное мясо диких оленей и их детенышей. Ача-хотун едва не плачет: ей жаль детенышей и жаль Джамуху.
«Если бы он взял в жены другую! – печалится ее болящая душа. – Она родила бы ему кучу детей, и норов его изменился бы в отцовстве! Иной тропой направил бы он коня своей судьбы… И люди-изгнанники, что сегодня свежевали первую добычу весны, не боялись бы произнести слова о будущем, словно понимая, что общего будущего у них нет… Нет – потому что их вождь не стал отцом своему сыну, а значит, и им. Он остался мальчишкой, а виновата в этом я, Ача-хотун! Мой муж храбр и бесстрашен, он – истинный полководец, а не Чингисхан. Но андай, с детства приученный заботиться отцовскими заботами, умеет подчинить себе великих воинов, как малых детишек: кого игрушкой славы, кого умным словом, кого мыслью, летящей дальше самых легкокрылых стрел… Мой же любимый – изгнанник!»
Она слышала звучание струн хура, от которого затрепетала, как девчушка, на ухо которой шепчет запретные слова красивый раб-иноземец. Она знала, что люди, пирующие у костров, попросят ее спеть им, справедливо считая ее пение волшебным, и была готова запеть. Тогда река полной тишины станет безбрежной и никто не знает, куда откочует песня ее горькой и светлой печали. Не к тем ли небесным кострам, где еще не зажглась ее метка и еще не скатилась к земным кострам, возле которых еще десятилетия и века будут предаваться кратким земным радостям обнадеженные люди.
Ача-хотун взяла хур и запела.
Люди встали у костра плотным кольцом, околдованные ее голосом, который хотелось потрогать, как диковинную птицу, как сочную степную траву, как серебряную иглу, в ушко которой вдернуты разноцветные нити. Но что за чудо человеческий голос, если в нем нет стона и плача, нет стенаний, подобных шаманским, а душа слушающего пение не готова исторгнуть слезы. Уж не слеза ли – зародыш песни? Уж не песня ли – семя души певца, искусно вливаемое в чужие души и роднящееся с ними? Пой, хотун, пой… Пой, сирота! Расплескай до дна, опрокинь свою душу, в ней накопилось столько бессмысленных страданий и боли…
И лишь один человек казался невозмутимым – Джамуха гур хан.
* * *
Невозмутимость Джамухи была невозмутимостью канатоходца. По канату, натянутому над пропастью между смертью и жизнью, он шел, а пока шел – жил. Он уже не хотел, чтоб кто-либо следовал за ним, ибо раньше этот тонкий канат под ногами казался Джамухе широкой тропой от жизни к жизни, от подножия кургана – к его вершине. Иногда он мнил себя сильнее и могущественней всех, а нынче ему все чаще кажется, что есть Некто, по ладони которого он ползет, как божья коровка, а морщины и линии этой ладони кажутся ему горами, реками, долинами…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































