Текст книги "По велению Чингисхана"
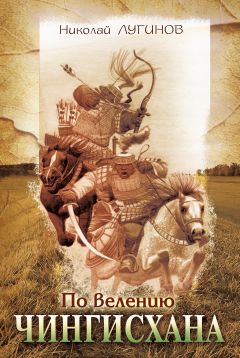
Автор книги: Николай Лугинов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 77 страниц) [доступный отрывок для чтения: 25 страниц]
Глава седьмая
Новая невеста
Поистине диво!
Настали подлые времена.
Дитя не признает родителей,
Родители отвернулись от детей.
Что защищать, за что стоять?!.
Но неумолимо, как и в прежние
Добрые времена,
В силе крепость решения –
Высоких владык оно окончательно.
По решению Одун-хана
Определили ей быть женой,
По указу Чингисхана
Постановили ей мужа.
Из олонхо П. Ойунского «Нюргун Боотур Стремительный»
Теплое местечко разжалованной младшей невестки пустовало – Ыбаха была отдана другому и ничем уже не напоминала о себе: ни мрачным видом, ни пустой сплетней, ни наушничеством. И когда Усуйхан-хотун передали, что ее кличет в себе Ийэ-хотун[6]6
Ийэ-хотун – ханша-мать. – Прим. автора.
[Закрыть], то при ее врожденной сметке нетрудно было догадаться, что близятся смотрины новенькой. Она надела ичижки из отбеленной выворотки и, сдерживая бурю чувств, хотела было бежать к сестре Усуй, чтобы наговориться всласть о девушке-мэркитке, что станет младшей ханшей, которой пока остается она, Усуйхан. Она заметила, что в сердце полыхнул детский жар ревности – так, наверное, бывает с маленькими неразумными детьми, когда в семье рождается еще один. И этот жар понудил ее переодеться в простые одежды служанки, чтобы не быть скованной нарядами ханум, которые не позволяют резвиться, хохотать и дурачиться, а привлекают к себе внимание челядинцев.
В этой простой одежде молодуха подбежала к сурту старшей сестры Усуй-хотун и уже потянулась рукой, чтоб отодвинуть полог, но караульная девушка перекрыла вход копьем. Тогда Усуйхан ловко поднырнула под копье и юркнула мышью в сурт, где и открыла перед сестрой лицо, сияя улыбкой и не обращая внимания на переполох, поднявшийся по ее вине. Усуй не удивилась ее проделке и быстро успокоила охрану.
– Я мэркитская до-о-очь! – завывала Усуйхан. – Я пришла к вам взять частичку вашего му-у-у-жа-а-а! Где он? Отдайте мне его усы-ы-ы!
Старшая сестра смеялась.
– Проткнули бы тебя копьем – вот и повеселилась бы мэркитская до-о-очь! Ыбаха бы тоже пора-а-а-довалась!
Нахохотавшись, сестры сели на кошму и какое-то время испытующе глядели в глаза одна другой.
– Да-а-а… – вздохнула старшая. – Она перед нами до сих пор кривляется, а уж новенькой-то от нее доста-а-нется… Надо будет помочь ей освоиться, да?
Младшая насмешливо поиграла бровью и полюбопытствовала:
– А скажи мне, сестра: почему нас должно так будоражить замужество чужой девушки?
– А потому, сестра, что чем сплоченней будем мы – жены хана, тем неуязвимее будет он, – отвечала Усуй. – И не вздумай соперничать в открытую, ревновать… Нечего выпячивать грудь вперед, тем более она у тебя маленькая.
– У меня – маленькая?! – возмутилась младшая и округлила глаза. Однако старшая знала, что это возмущение было притворным, что Усуйхан нужно играть. А потому не поддержала игру, а продолжала свое:
– Хан – солнце. Он дает силу и смысл бытия всем. Не будет его – мир всех его подданных потускнеет. Мы, его жены, должны это знать и понимать свою роль в жизни государства, особенно в устранении малейших недоразумений между племенами и народами, чтоб они не переросли в крупную распрю.
В одном из походов Усуйхан была с ханом и ни разу не получила от него порицания за что-либо неумное, или неумелое, или недостойное. Она вздохнула, вспомнив, как расчесывала золотые волосы хана в том походе, и как давно уже не видела его: ему некогда нежиться в ставке – он в степных разъездах.
– А то будет как с Ыбахой! – продолжала она, обращаясь к Усуйхан.
Та насторожилась и на мгновение стала сама собой – девчонкой-несмышленышем, чье единственное счастье – игра в куклы. Но тут же лицо ее приняло выражение ленивого равнодушия, и в голосе ее прозвучала как бы простая вежливость:
– А что же случилось с Ыбахой?
– С ней случилось то, чего я не желаю никому, – сегодня на смотринах ее место будет пустовать.
– Да-а? Ух-се!
– Будешь кривляться – пойдешь вслед, и я тебе не заступница…
Усуйхан стала серьезной. Даже усталой. Глаза ее увлажнились, когда она подняла взгляд на старшую сестру и, словно прося сочувствия, сказала:
– Я ведь только с тобой такая. Обними меня, Усуй. Мне почему-то стало холодно и страшно… Как хорошо, что нас двое…
– Сколько раз тебе говорю? Нас не двое у хана, а четверо, и все мы родные…
– Ладно-ладно. Потом нас будет пятеро, шестеро…
* * *
В урочное время невестки отправили Ожулун свои подарки, а повара унесли лакомые яства. Потом невестки и сами предстали пред очи матери-хотун, поклонились ей, усаживаясь каждая на свое место. Первой вошла отяжелевшая с годами Борте, за ней, по старшинству, Усуй и Усуйхан. Пустовало место младшей невестки Ыбахи, и в глазах остальных нескрываемо светился страх.
Ожулун понимала, что ни для кого не тайна участь Ыбахи, и без излишних словопрений сказала:
– Это делается не только ради сегодняшнего мира в семье, а для устранения дурных корней в потомстве хана. Вам понятно?
– Лучше отсечь гниющую руку, чем лишиться жизни от огневицы, – сказала и Борте.
– Так… Да, так… – робко отвечали младшие невестки.
– Ну и все об этом, – отмахнула рукой мать-хотун и, отведя эту же руку чуть назад, отмахнула еще раз: – Введите новую жену великого хана!
И та вошла, церемонно ведомая двумя служанками, почувствовала на себе оценивающие взгляды чужих женщин, нашла добрый взгляд Борте и остановила на нем раскосые черные глаза. В ее детском облике появилось выражение внутреннего достоинства и света.
– Как тебя зовут? – спросила Борте и улыбнулась девушке уголками губ.
Та ответила:
– Хулан… – и вопросы посыпались, как дождь из тяжелой тучи.
– Сколько тебе лет?
– Осенью будет семнадцать…
– Сколько у тебя матерей?
– Одна…
– Почему?
– Мы крещены перед Иисусом Христом…
– Сколько братьев-сестер?
– Нас пятеро. Один младший брат и три старших.
– По-монгольски понимаешь?
– Не совсем. У нас запрещали разговаривать по-монгольски.
– Ты приехала по своей воле или привезли насильно?
– Отец привез меня на смотрины. Стать женой великого вождя – вершина счастья для смертной. И я не хочу, чтоб меня отвергли!
Женщины оценили эту бойкость, зашептались, одобрительно кивая и улыбаясь, когда новенькую увели.
– Я думаю, что хан не станет подвергать сомнению наш выбор, – сказала Ожулун. – И впредь вы сами должны решать: на ком будут жениться ваши сыновья и внуки. Тогда благосостояние ханского рода будет стоять вечно, как богатырский курган.
А с наступлением нового утра Усуйхан занялась обучением новой невестки столь же новой для той жизни. Та стала жить в ее сурте, и это было по душе обеим.
* * *
Степь кажется бескрайней. Человеку, родившемуся в степи и выросшему в обычаях своего племени, мнится, что иного мира не бывает, а свой – незыблем. Таковой была и Хулан. Но, как ревностная ученица, она принялась учить язык монголов, чтобы правильно понимать все остальное. Люди говорят, что лучший учитель тот, кто сам недавно чему-то выучился, и Усуйхан, которая сама еще не так давно говорила лишь по-тюркски, с неменьшим рвением занималась с новенькой. И когда однажды утром прискакал нарочный с известием о том, что в гости к молодым невесткам затеялись идти мать-хотун Ожулун и Борте с Усуй, то они, как встревоженные квочки, заметившие кобчика, стали шумно метаться по жилищу, не зная, за что схватиться и какое угощение приготовить, – все их время до того было отдано обучению языку, а не умению готовить любимые блюда хана. Однако догадливая мать-хотун тайком передала через служанку, чтобы невестки готовили «исконное», и Усуйхан полегчало.
Черный работник притащил в плетеной ивовой корзине три только что выловленных рыбины немалых размеров, и две молодые хотун решительно подступились к ним с разделочными ножами. Серебристая чешуя сыпанула в траву, но не успела принять мертвенный радужный оттенок, как живые еще рыбы ударили перьями хвостов, туго затрепетали в тонких руках и ответом на этот трепет был истошный визг, вопли ужаса, на которые сбежалась вооруженная охрана. Рыбы бились в изумрудно-зеленой траве – хотун в объятьях друг друга, смеясь и плача. На помощь пришли девушки-служанки, и вскоре общими стараниями, будто при разделке туши верблюда, дело было завершено, и Хулан едва подавила в себе омерзение при виде разваленных внутренностей рыбы. Никогда ранее она не видела ничего подобного – ее племя не ело рыбы. Лицо ее было бледным, расширившиеся зрачки сверкали, как рыбьи чешуйки.
– Меня в первый раз вытошнило, а ты молодец! – похвалила Усуйхан. – А уток у вас тоже не едят?
– Я только слышала о таком… – пыталась улыбнуться Хулан, не зная, куда спрятать руки, и держа их перед собой на весу. – Слышала, что где-то дурные племена едят рыбу, уток, какие-то травы и листья деревьев…
– Давай-ка я полью тебе на руки из кувшина… – сказала Усуйхан. – И расскажу то, что было вначале… Эй, девушки! Воды!
И она стала рассказывать то, что рассказывали ей не так уж и давно:
– В далекие времена, когда умер Джэсэгэй-батыр, племена, признававшие его своим вождем и жившие совместно, бросили свою хотун с пятью малютками, а сами разбрелись куда ветер ни подует…
Хулан с тревогой посмотрела на свою наставницу:
– О! Что будет с нами?..
Усуйхан плеснула воды ей в лицо:
– Успокойся, несмышленыш: что даст небо, то и будет. И учись слушать, когда тебе говорят старшие… Так вот… Теперь подумай сама: как и чем она могла прокормить своих детей и не дать им умереть голодной, мучительной смертью? Каково было материнскому сердцу? Если б они могли съесть его, это сердце, она вырвала бы его и скормила им, а потом и сама умерла! Но она была нужна детям живой… И благодаря славной служанке Хайахсын, которая умела кореньями и травами, рыбой и дичью напитать деток, они все выжили. А мы должны научиться с благоговением вкушать пищу, спасшую этих великих и дорогих нам людей. Понятно тебе, Хулан?..
Та часто кивала.
– Жребий твой брошен, – продолжала Усуйхан. – Теперь ты – ханша всех мэркитов. И они признают тебя, если ты научишь себя быть ею. Все. Утирай лицо, руки… Идем к огню – пора готовить дичь…
Если бы сейчас Хулан увидела себя, то удивилась бы перемене в выражении лица. Перемену эту творили глаза, а они светились спокойной решимостью и счастьем.
Глава восьмая
У истоков Великого Джасака
Никого нет в срединном мире
Подобного доброму молодцу-удальцу,
Предназначенному от Одун-хана,
Служащего Чингисхану.
Во всякое время
Добронравный, светлоликий
Добрый молодец-удалец
Не поддается печали,
Не сгибается перед тяготами испытаний.
Все готов стерпеть,
Все вынести, верен предназначению.
Вот таков он, добрый молодец.
Якутская народная песня
Уже давно отгромыхали густые звуки вечернего барабана, играющего отбой. Подчиняясь режиму, все улеглись, никто не имеет права после отбоя передвигаться по главной ставке. Но не спал один человек. Сон не шел к хану… Мысли как непокорные скакуны, их не загонишь силком в стойло…
«…Ок-се! Эти стреломётные мэркиты! Этот ненасытный огонь, который питается кровью и просит все новой, молодой, глупой! Едва подует на костровище ветерком – и вскидывается пламя чужекровной вражды: роды, никогда не жившие вместе, не знавшие обычаев иных родов, всякое проявление такого незнания оборачивают поножовщиной. Так усуны, охраняющие ставку, однажды не по злому умыслу, а по незнанию нарядили мэркитов на рыбалку, а те искони не только не едят рыбы, а испытывают к ней отвращение до рвоты – что с ними поделаешь! Так в огонь бросают прошлогоднюю траву, и она шумно и ярко горит, не давая тепла, лишь чад, который щиплет и застит глаза. Мэркиты приняли рыболовный наряд как утонченное издевательство над своими обычаями и вспыхнули. Усуны же, эти медлительные барсуки, так ничего и не поняли. Ходят теперь, как стреноженные, да глазами похлопывают: а мы-то, де, причем? А мэркиты – птицы, которые глохнут, когда начинают петь, закатывая глаза, ухватились лапками за обычаи, как за ветки дерева. Только песни-то у них все боевые…
И татары не могут видеть себя со стороны. Вроде бы мирно сидят за общим столом, едят, пьют, веселятся и хохочут по всякому пустяку. И вдруг по такому же пустяку хватаются за ножи и сабли – лети, голова! распускайтесь, кишки! Однако стоило щелкнуть жестким, но единым для всех, поэтому справедливым бичом, и татары успокоились, забыли, снова веселятся как ни в чем не бывало. Мэркиты же затаят злобу и месть. Они копят мелкие обиды и приращивают их к обидам предков, словно богатство или скот, а лица их рано испещряются морщинами и шрамами. Их обычай кровной мести, разрушающий основы совместной жизни многих народов, нужно искоренить навсегда, пока он не испепелил их самих бессмысленной ненавистью. Иначе нельзя, ибо опробованы все иные разумные пути. Когда дурной обычай переходит разум, остается одно: во имя спасения многого выжечь малое огнем и мечом. Как их всех объединить, когда кэрэиты – несториане, найманы – и несториане, и буддисты, татары и джирджены – шаманисты, тангуты – «красные буддисты», уйгуры – буддисты-хинаянцы, несториане, «лесные народы» – тюрки и мы, монголы, с древних пор исповедовали Тэнгри – отца небесного и потому осуждаем нарушение клятвы, обман доверившегося и предательство.
Этого не велит делать нам всевышний Тэнгри. Так почему же не объединиться в великий ил вокруг одного закона – справедливого и благородного, основанного на древних, обкатанных временем обычаях, общих для многих народов или близких по духу, и быть послушными ему. Пусть каждый поклоняется своему богу-сыну, но все подчиняются единому порядку. Почему бы не вложить в этот закон все лучшее, что вынесли с собой народы из тьмы веков? В чем-то образцом могут служить и найманы, которые воспринимают даже устное распоряжение своего начальника как неукоснительное. А с тех пор, как Гурбесу-хотун назначена верховной правительницей всех найманов, стало возможным отзывать в ставку любого беглого и скорого на ноги наймана письменным распоряжением. И он придет, где бы ни находился его конь, или бык, или сурт – он привык подчиняться закону без принуждения: кнута или волосяного аркана. Он доверяет закону. Он привык жить по закону, как китаец.
Но как, скажите мне, верные тойоны, вознести новый общий закон на такую высоту? Силой? Уговорами? Объяснениями и разжевываниями? Ведь человек быстро понимает спиной, а головой – долго… Значит, для исполнения закона необходимо устрашение: смертная казнь отступникам?.. Значит, прошить этот закон нужно человеческими сухожилиями, а написать – человеческой кровью во имя того, чтобы она не текла реками в беззаконии?.. И на кого же опереться, умные мои тойоны, чтобы утвердить закон, соединяющий лоскуты племен и родов в крепкий тканый ковер? Где герои и богатыри, отборные скакуны, которые дадут отборное племя?
Да, человек, он и во сне человек…
Он и во сне боится воровства, подлости, вероломства, предательства, боли, страха за родных и близких. Всюду, даже в воровском обществе, среди разбойников в чести верность данному слову, прямота поступка, правдивость и надежность в деле, каким бы незначительным оно ни было. Это так. Значит, есть скрепы для закона. Есть и то, что Христос, Магомет, Будда, Тэнгри-отец – все они завещали своему творению добро, праведность, чистоту помыслов и дел. Значит, есть заповеданный свыше призыв к исполнению закона, джасака.
Все в иле подчинится порядку по доброй воле. Всходит солнце, и заходит солнце, и всякая птица поет в свое время, и поет вместе с другими, и замолкает: кто навечно, уловленный хищной птицей, а кто – до утра, чтобы вскормить птенцов и научить их попранию воздуха крыльями, но разве заметит мир, что кого-то из певчих не стало? Так же всходит и заходит солнце, так же поет природа, где все устроено в строжайшем, а потому и высоком порядке…
Трудная досталась мне доля… Тяжко быть правителем в этом грязном, наполненном подлостями мире. А стать праведным правителем еще труднее.
Можно быть очень простым, одним из многих. Жить спокойно, лишь бы самому было хорошо, да с соседями ладить. Но как стерпеть земную несправедливость, что творится вокруг? Как не возмутиться, не вмешаться, как не попытаться привнести добро и справедливость в мир, в котором господствует произвол, а не Божий суд…
Изначально нечто толкает меня в эту пропасть… Где, я знаю, пропаду когда-то, проклятый… Но это выше моих земных сил… Или… Или провидение толкает меня на вершину мировой славы… исполнителя Божьей воли… воли всех богов-сыновей и их отца».
* * *
Когда созывал на совет своих близких, хан не особенно рассчитывал на понимание ими ханских мыслей. Но и те, на кого он рассчитывал в своем видении будущих перемен, отозвались на его зов без промедления.
Командующий левого крыла Мухулай, заплетающий радужную косичку из сыромятных ременных полосок, потряс ею в теплом воздухе, говоря:
– Всевышний Тэнгри-отец всего и всех! Услышьте слова Чингисхана, как мы услышали их! Так и есть: нельзя жить вместе и быть порознь! Теперь у нас в подчинении так много земель и инородных людей, что они способны растворить нас самих, если не будет надо всеми вечного и единого для всех джасака! Над нами всеми – небо, единое небо, орошающее землю для всходов! А на небе – боги!
Тяжело поднялся командующий правого крыла брюхатый Боорчу. Встал сопящей горой, приковывая к себе внимание. Он сказал:
– Великий хан, ты глубоко прав! Людям нашего ила помогут выжить в веках только единые для всех племен и родов уставы. Спросите старика Усун-Турууна, он скажет, что такое управляться с многочисленными, как мошкара, племенами! Все знают, что он, Усун-Туруун, начальствовал над войском ставки, которое и было клубком мошкары!..
– Сколько всего родов было в этом войске, почтенный Усун-Туруун? – спросил Чингисхан, выискивая взглядом во тьме сурта старого полководца.
– Тридцать один, о, мой хан! – отозвался совсем рядом Усун-Туруун и встал чуть слева от ханского очага, теребя одной рукой седую поросль бородки, а вторую засунув за кушак.
– Ух-се! – удивленно воскликнул Хорчу. – Зачем надо было столько разнородного народа согнать в одно стадо, ответь?
– В стадо их согнали пастухи, – старик указал на Джэлмэ, потом на Мухулая. – А я хоть с трудом, но сумел сделать из них если не войско, то стаю хищников!
Мухулай согласно закивал:
– Мы основали секретную запасную орду. Вот и надо было, чтоб там находились представители всех наших родов. Шла война. Мы делали как сподручней… По разнарядке отозвали по два арбана с рода. Да и отправили к Усун-Турууну. На все ушло едва ли не двое суток. А уж как он их сплотил, да еще и провел без потерь в отдаленные места – это спросите у него сами.
Чингисхан увидел на лице старого воина довольную улыбку: кто ж не бывает доволен, когда люди отмечают и отличают его.
– Поучи же нас уму-разуму, почтенный старец!
– Ста-а-а-рец! – загоготали молодые тайоны, особенно любившие аксакала. – Этого старца еще женить да женить!.. – гудели голоса, перемеживаемые острыми шуточками:
– Старик-то старик, да не одну овечку остриг!..
– Не тот стар, кто сед, а у кого пустой кисет!..
– Наш старичок как хороший лучок: что ни девка – то и в цель!..
Хан властно остановил гомон движением руки и спросил Усун-Турууна:
– Почему они так говорят? Ты женолюб?
Старик невозмутимо отмахнулся от смолкшего, но еще висящего в воздухе смеха:
– Они шутят, мой хан… Людям надо пошутить… А о чем и как, зависит от того, что у них больше всего в голове.
Тогда хан поторопил:
– Рассказывай же, почтенный, свои секреты правления!
– Слушаюсь, мой хан. Отвечаю: секрет прост. Он таков: кем бы ты ни был, все равно не сможешь угодить всем тридцати с лишком родам! Будь ты о девяти косичках, а времени на сю-сю-сю и ля-ля-ля не сыщешь! Мне во время похода некогда было ходить в няньках, я распоряжался только исходя из насущных потребностей, только из соображений общей безопасности, хан.
Чингисхан встал, подошел к старику, который вместе с шапкой едва доставал ему до плеча, и попросил, а не приказал:
– Говори еще!
– О, мой хан! Есть в человеке нечто, стоящее выше рассудка. И сколько я ни думал, а решил так: всем не угодишь… Кто, из какого рода впереди, кто слева, кто справа, кто замыкает – не важно. Важно, чтоб их возглавляли, прежде всего, справедливые и только затем достойные тойоны. Такие, кто имеет волю все мелкие распри усечь, придавать им свойства раннего снега, который тает на крупе горячего жеребца… Тот, кто не доводит до слуха вышестоящего начальника сведения о дрязгах, а сам пресекает в зародыше.
– И где же ты нашел таких молодцов? – проявлял нетерпение хан, постукивая рукоятью камчи по левой ладони. – По каким признакам выделил тойонов?
– Всякий, имеющий голову, отличит кобылицу от верблюда, а умелого воина – от бабы, сидящей за выделкой кошмы…
– Справедливость… Сказать легко, но кто определит, где, по какой черте она проходит? Она неуловима… Но нужно вывести русло, вознести высокие берега из законов. Как? Вот это уже другая задача, – взгляд хана остановился на командующем всеми войсками Хубулае. – Как ты понял нашего старца, Хубулай?
В сурте стало тихо, как в дозоре: все онемели, зная сложность и неоднозначность таких вопросов. Но Хубулай считался одним из любимцев хана, и голову его не стягивал обруч страха, а язык не опухал от ворочания угловатых слов неуверенности. Он сказал не торопясь, с расстановкой, как бы приглашая других к размышлению:
– Один и тот же человек преображается в дни мира и в дни войны. Старый полководец Усун-Туруун управлял людьми в тяжелое и краткое время войны, а на войне, как ни странно, понять суть человека проще. В мгновения опасности он открывается и сам для себя, и для пытливого взора товарища. Но и лучший воин во времена мира становится иногда суртом, где живут злые духи, – ты замечал, хан? Значит, чтобы закалить и выковать народ, нужно, чтоб он многие годы подряд, многие десятилетия чувствовал запах опасности, саму опасность! Если ее нет на самом деле, то кто-то должен сеять зерна тревоги в благодатную жизнь! Только бой, хан, только война сделают нас большим, единым народом…
Чингисхан с каким-то новым интересом оглядел Хубулая, и камча в его руках успокоилась. Зато народ загалдел вразнобой.
– Боорчу! – повысил голос хан и нахмурился, восстановив тишину.
Боорчу встал, опершись на плечо сидящего перед ним Чимбая. Он улыбнулся, отдавая тем самым дань остроумию Хубулая:
– Хубулай хорошо сказал: во время войны, когда гремят барабаны подобно грому, а стрелы хлещут подобно ливню, – все делаются дружными и понятливыми, кроме самых бестолковых… Но и те вроде бы подтягиваются! А как только приходит мир, подобно полуденной истоме, человек словно засыпает, а просыпаются в нем жадность, злоба, зависть! Так это, хан!
Чингисхан снова обвел взглядом своих советников, и этот острый взгляд, как стрела, сбил наземь взметнувшиеся было из уст людей возгласы одобрения.
– Да… Это так, – сказал словно бы самому себе. – С сытой собакой не охотятся… И что же ты посоветуешь, Боорчу?
– Я тоже рассуждаю, что ни к чему брать в расчет эти различия… Нужны новые и одни для всех джасаки, хан… Мы с Джэлмэ вчера вечером долго толковали. Спроси его – он поязыкастей меня!
– Говори, Джэлмэ, – кивнул Чингисхан, садясь на кошму и показывая, что готов к длинной речи.
Однако Джэлмэ произнес всего лишь несколько слов, да и те были округлыми и считаными, как козий горох:
– Родов много – все их прадедовские погремушки во время ссор гремят, как боевые барабаны, и рассудок глохнет. Джасак же должен быть прост и понятен каждому, велик и нерукотворен, как смена времен года. Иначе как потребуешь от человека выполнить то, чего его рассудок, желудок его ума, не способен переварить? И для начала мы должны четко обозначить понятия добра и зла, а на них основать джасак. Так я думаю, хан!
Гул одобрительных возгласов, казалось, выплеснулся из-под сводов сурта:
– Отделить дурное от хорошего!
– Так! Верно-о-о!
– Где порок, а где достоинство-о-о!
На этот раз Чингисхан дал волю духоподъемной волне людских чувствований и сидел, потупясь взором, словно отсутствуя.
– Все? – спросил хан. – Загалдели, как вороний выводок… Что же, по-вашему, нужно утверждать и множить? Скажи, Джэлмэ!
– Бесстрашие, верность слову, простоту, правдивость… – сказал Джэлмэ, загибая пальцы, и стоило лишь ему призадуматься, как разгоряченные видением великой цели тойоны вступили в разговор, бросая в него слова, как в общий котел:
– Выносливость!
– Доброту! Спокойствие!
– Умение не терять рассудка в рискованном деле!
– Щедрость! Честность! Правдивость!
– Скромность! Взаимовыручка!
Уже перешли к обличению пороков, шумно, пылко, с воздеванием рук к хану и к небу, а хан, уверовав в своих людей и подкрепив их горячим участием свои замыслы, смотрел на белый войлок, которым был выстлан сурт, и видел строки великого Джасака, словно писанные по нему кровавой киноварью…
* * *
– Мы должны поставить дело так, чтобы люди сами приняли и одобрили джасак, который прежде всего стал бы гарантом справедливости, но без чрезмерных принуждений, и был бы не противен человеческой природе, – решил Чингисхан, давая указание Джэлмэ и Мухулаю собрать на совет ханских родственников. – Вы оба придите тоже, но держитесь в тени: вы знаете, как заносчивы некоторые из моих кровных… Будут коситься на вас, сердиться на меня, это будет мутить их мысли… А что я без вас? Бык на гладкой наледи…
И когда собрались родственники, то Чингисхан едва отыскал в тени сурта лица Джэлмэ и Мухулая, хотя и обладал острым по-соколиному зрением. Он заметил решимость на лице брата Хасара и его нетерпеливое поерзывание на кошме, увидел бледного от волнения Хачыана, покусывающего крепкими зубами хвост косицы; увидел и невозмутимую, но огненноглазую Ожулун-хотун, которая способна понять и большое, и малое в человеке. Он начал говорить, словно бы оттолкнувшись взглядом от родного лица матери – так журавль перед тем, как взлететь, отталкивается ногами от пустынной степи:
– Вы, наверное, уже слышали от наших болтунишек о новой ханской затее, но что это за затея – пустомели не объяснят. Скажу вам коротко, уважаемые родственники: чтобы выжить в веках, нужно в корне изменить нашу жизнь и ее неписаные обычаи и нравы на писаные, то есть незыблемые, единые для всех джасаки, законы. Моя цель – сделать единым народом союз племен, но пока ближняя цель – все подчинить военной организации: войска – передний край, все остальное – тыл. Все должны подчиниться единому закону, как бы ни назывался их род, их племя, их народ… А над законами будем думать вместе. Я сказал!
Гибко вскочил Хасар, и Чингисхан подумал: «Вот изжога!»
Озирая званых лихорадочно блестящим взглядом, Хасар начал говорить, обращаясь к ним:
– Я поддерживаю попытку брата изменить степную жизнь и укрепить ее единением… И как не понять, что нельзя жить по-старому! Мы, твои родственники, Чингисхан, были с тобой еще тогда, – он наконец-то сцепился взглядом с ханом, – когда не имели другой плети, кроме собственных хвостов, и не имели других нукеров, кроме собственных теней!.. Мы бедовали и побеждали вместе с тобой, мы не щадили ни тела, ни души, ни коня, ни жены, ни времени жизни, и по сей день мы верно служим тебе! И какая же нам за это награда, наш хан?! – Послышался ропот, в котором трудно было разобрать: осуждают ли, поощряют ли Хасара многочисленные родичи хана. Но хан молчал, и младшой продолжил:
– Ты прославился, тебя знает всякий в Великой Степи и за ее зримыми очертаниями! Вокруг тебя мухота – степные разбойники и безродные бродяги, осыпанные чинами и почестями! Даже те нищие пастухи-голодранцы, кому их бывшие господа, знавшие всю их подноготную, не доверяли даже овечью отару, стали у тебя ходить в мэгэней-тойонах! Видано ли такое? Это добром не кончится. Но пусть и так, пусть! Такова твоя воля! Но что имеем мы, твои кровные родичи? У нас нет ничего, кроме должностей, которые мы заслужили своим черным потом, крепостью сухожилий, остротой зубов и сабель! Справедливо ли это, Чингисхан, брат мой? И ты прав: пора жить по-иному! Пусть будет пастуху – пастушье, господину – господское! Я сказал!
И, еще раз оглядев знакомые лица, но не желая встречаться взглядом с глазами матери, Хасар сел с видом человека, свершившего дело всей своей жизни. Ропот возник снова, но встал младший брат хана, обычно бессловесный и исполнительный, и все удивленно замолчали: глядите-ка, у него, у Аччыгыя, тоже есть язык!
– Я ничего не скажу! – сказал он и сел, поправив на голове шапку так, словно проверял, на месте ли сама голова.
– Пусть скажет Хачыан! – крикнул Хасар.
И Хачыан поднялся, оправляя дорогой халат на широких плечах.
– Скажу коротко: я, Хачыан, понимаю, что небо не дало мне особых талантов и душевных сил… Я обычный человек! Но в моих жилах течет та же кровь, что и в синих жилах Чингисхана, – так великий Тэнгри разлил ее по нашей родове! Но я родной брат великого Чингисхана! Почему же тогда я не чувствую этого в отношении ко мне приблудных степняков, а?! Поэтому я согласен с Хасаром: в новом джасаке нужно определить лучшие места для близких. Для дальних, для очень дальних – установить, кто из них кто. И чего стоит ханская родня, если она перебивается, как нынче, едва-едва… – тут Хачыан понял, что перетянул тетиву и она может лопнуть на смех окружающим. Он вдруг смялся, глянул на мать и, усмотрев в ее глазах неодобрение, завершил свой наскок: – Ну, а что я еще могу сказать? Все…
И заговорили все разом, словно степная пыль взметнулась, и каждый боялся, что, принимая новые джасаки, обойдут его полной чашей. Слова их бились, как мухи в паутине, как рыбы в котле, опутанные корыстолюбием и тревогой.
– …мы, как верблюды – едим мало, а тяжести переносим большие!
– …и вымрем, и много будет валяться наших костей, чтоб их собирали в кучи и указывали путникам дорогу во время больших снегов!
– …и ноги опухнут, и зобы на шее вырастут! – мешанина выкриков и воплей, возгласов скорби и хихиканья, как нечто живое, шевелилось в мешке сурта. Один Сиги-Кутук, человек, знающий грамоту и пути звезд на небесах, пытался сказать, что задуманный Чингисханом джасак – это тропа в будущее, это сила, которая сотворит из глиняного месива с соломой и кизяком народ, но никто не стал слушать его со вниманием, ибо многие живут одним днем, а вся их жизнь так и остается одним днем, пусть она и многолетняя. Сиги-Кутук прозревал во тьме и бесконечности времени…
«Корысть… Вот туман, затмевающий даже самые светлые умы… Когда вмешивается личный интерес, теряешь разум… Именно это обернулось бедой, разрушившей многие государства.
Вот они сидят – потомки славного рода борджигинов, славу которого, начиная с Бодончора, умножали целые поколения ханов и полководцев. Неужели для того, чтобы сегодня их потомкам ощущение собственной родовитости, достоинства заслонило глаза, не давая увидеть истину? Неужели родовитость тоже может стать помехой на определенном этапе? Но ведь именно родовитость вызывает доверие других, служит гарантом основательности и силы рода. Значит, для дурака родовитость лишь повод для спеси, камень на шее, а умному она дает крылья. В то же время родовитость – это и большая ответственность, ведь во всем нужно соответствовать славе и достоинству своего рода. Значит, нужно ввести такой порядок, когда родовитость не дает возможности возвыситься…»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































