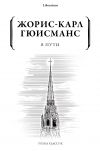Текст книги "Каникулы в барском особняке. Роман"

Автор книги: Николай Серый
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
10
Агафья озирала свою кухню и вдыхала приятный запах боровой и болотной дичи, изжаренной в собственном соку с добавленьем кедрового масла. Кастрюли, ковши и тёрки были надраены содой и светились; серебряная утварь тускло мерцала за матовыми стёклами в шкафах. Агафья любила стерильность во всём…
Чирков требовал от своей служанки, чтобы вечером она смотрелась, как домоправительница в замке наследников рыцарей-пилигримов. Но хозяин чётко не объяснил, какие бывают там домоправительницы… И теперь на Агафье было тёмное облаченье с серыми кружевами на рукавах и на длинной юбке; белели кипенью и хрустели от крахмала чепец и передник. Чёрные густые волосы с редкой проседью были уложены в замысловатую причёску… Агафья очень не любила свои чёрные лаковые туфли на низких каблуках, ибо часто у неё начинались в этой обуви спазмы сосудов и ныли ноги. Но приходилось эти туфли надевать, ибо они соответствовали представлениям хозяина об идеале домоправительницы…
Она повернулась и медленно вошла в столовую, озарённую закатом; там Кузьма величаво сервировал на сиреневой скатерти ужин. Агафья смотрела на крохотные подпалины от утюга на рукавах его коричневого костюма. «Нацепил кучер красный галстук, – размышляла она, – раньше не таскал он такого. Куёт бродяга своё счастье, и красный галстук, как горящий уголь в горне. Кузьма – крапивное семя и репей в нашем хозяйстве, а не пашня и нива… Но ведь и я – не жито в амбаре. Кузьма на меня похож своей участью, долей. Мы – неприкаянные. И наверняка возмечтал он о власти над табунами тех, кто сбрендил от проповедей хозяина. Кузьма норовит лягать и взбрыкивать… и, несомненно, он шустро поднатореет в доносах и кляузах… Но по нраву мне этот шельмец… и нам полезно быть заединщиками…»
И вспомнилась ей скирда сена возле горного студёного ручья; бычки и коровы паслись тогда поодаль… Агафья вдруг ощутила во рту вкус редьки и квашеной капусты, которые она ела в тот день… Волки в тот день загрызли коричневого кудлатого пса Полкана, и брат Агафьи добил собаку из древнего кремневого ружья. Затем братья секли батогами саму Агафью в наказание за то, что она допустила к отаре стаю волков, хотя имелось в овчарне старое капсульное ружьё. Стерпела Агафья истязанье без стенаний и слёз; досель оставались на её теле борозды и шрамы от той ужасной порки…
Истерзанная Агафья впервые тогда задумалась о своём будущем. Ей было уже пятнадцать лет, но она едва умела читать. И ничего не читала она, кроме божественных книг. Она была навеки обречена в своей религиозной общине на полную покорность, ибо таков удел всех женщин их секты…
С колыбели Агафья покорялась деду, умершему с пеной у рта и в судорогах. Она была слепо послушна отцу, который споткнулся о борону и погиб, напоровшись на вилы. Она рьяно подчинялась братьям, пристрелившим верного старого пса Полкана. А братья, забавляясь, ошпарили её кипятком. И мать её была всю жизнь безропотно покорна мужикам…
За школьную парту уже поздно садиться: ведь Агафья – почти невеста. Но только с большим трудом она складывает цифры, а ведь есть ещё какие-то дроби. Нет, позорно ей учится с малышами-оболтусами… Но сколько можно ей терпеть розги и кнут?…
А как сладко живут их попы!.. В почтении и холе!.. Но ведь бабе не стать попом… Хотя и гуторят, что в иных сектах и баба – за попа!.. Найти бы такую веру!..
И Агафья ушла из своего утлого селенья на поиски такой веры. Искала очень ретиво и долго, не чураясь самой омерзительной работы. Приходилось быть санитаркой и клизмы ставить; и часто она мыла и полоскала облёванное больничное бельё. Но в религиозной общине приучили её быть опрятной, и не допускала Агафья неряшливости даже после самого тошнотворного труда. И однажды её направили за её чистоплотность на кулинарные курсы… И вдруг проявилось у этой невежественной санитарки редкое дарование к стряпне…
Замуж Агафья не вышла, ибо мужчин отпугивали её чёрные глаза, вылезавшие из орбит в минуты гнева… Пыталась она сколачивать и собственные религиозные группы, но очень многих устрашала её мрачная истовость, и поэтому быстро распадались сектантские ячейки…
И снова Агафья искала хлыстов, ибо в их секте женщина могла стать попом… И однажды весной на вокзальном перроне, замызганном плевками и окурками, она случайно услышала, что партию хлыстов завезли в сумасшедший дом в дальней станице Раздольной. И для разведки о хлыстах поспешила она устроиться на работу в этой клинике; там Агафья и встретилась с Чирковым, который прикатил во главе инспекционной комиссии. Его страшились и ублажали; яства ему готовила Агафья. И он благоволил к ней за кулинарные изыски; она же перед ним благоговейно пресмыкалась. И он забрал её с собою…
До дряхлости ей было ещё очень далеко; поджарое, жилистое тело полнилось упругостью и силой…
Невзлюбила она Аллу, которую мысленно обзывала чистоплюйкой; ведь лилейные ручки этой феи не обременялись грязной работой… И служанка яро завидовала образованности Аллы…
А вот Кузьма симпатичен был служанке, ибо он временами напоминал ей верного пса Полкана, особенно если надевал коричневый костюм, как теперь…
И она его угрюмо спросила:
– Разве тебе разрешили взять помощника?
Кузьма загремел посудой и басовито ответил:
– Я пока не спрашивал разрешения на это. Не докучай мне пустяками, не подтрунивай. Я не сомневаюсь, что я получу дозволение использовать хлопчика в нашем хозяйстве. Незачем баклуши бить.
– Опасная кутерьма может начаться… Я предчувствую беду, чую кручину… Рано ты куролесить начал. Глупо затевать преждевременный конфликт с шефом…
Она подошла к окну и отодвинула занавеску из серебристой парчи. Он посмотрел на себя в зеркало и спросил:
– Ты полагаешь, что я поступил опрометчиво?
– Самонадеянно ты поступил. Хозяин ревнив ко власти. Обидеться может, что без него всё порешили. Ведь покусились на его авторитет…
Кузьма притулился к буфету из резного палисандра и молвил:
– А тебе, тётка Агафья, печали в этом нет. Трындишь, что беду чуешь? А по мне, так лучше беда, чем копошенье в навозе. Тоска и скука! Хозяева болтают о важнейшей акции, но никак до неё не дозреют. Я ведь не глухой, и не стану я пробкой затыкать уши. Хозяева трусливо колеблются, ссылаясь на необходимость закулисных манёвров. Но ведь ничего не происходит. А я – патрульный и боевой офицер, и я привык к риску. Я хочу их толкнуть на отважный шаг. Я хочу рискованной катавасии!
– Ты рисковал достаточно. И теперь ты без квартиры и без пенсии…
– Как, впрочем, и ты. И тебя хозяин приютил из милости…
– Никогда у меня собственной коморки со скарбом не было. А у тебя было всё это. Я в школе не училась, и я с трудом читаю по складам. А есть ещё какие-то дроби… А тебя учили педагоги усердно и долго. Глянец на тебя, как на горшок, наводили. И что в итоге?.. Ноль и пустота! Какой же прок от твоей отваги? А ты опять рискуешь. Не хватит ли? Себя пожалей, не лезь рожон…
Он насупился и ответил:
– Я не сделал ничего чрезвычайного. И какая кара мне будет? Только словесное порицание… Попеняют, укорят… Надоело мне в этой ватаге быть на последнем месте. Все помыкают мною, даже ты… Вот и нашёл я того, кто пониже меня стоять будет…
– Никогда я не была к тебе излишне придирчивой…
– Ладно, давай замнём… Но всё-таки мне обидно… Я не такой продукт, чтобы зря протухнуть…
– Ты хорошо знаешь, что есть очень много тех, кто пониже тебя пребывает. Ведь тебя не превратили в скотину, мычащую молитвы. А ведь хозяин может превратить тебя в животное за непокорство. Так гончар неудачный кувшин превращает в комок глины. И с тебя облетит весь лоск, как чешуя с дохлой змеи, и будешь ты червяком на брюхе перед хозяином, каясь, ползать… Зарождается у него бес подозрительности!.. Так могу и я быть заподозренной невесть в чём! И он замесит меня, как тесто для блинов. Ты подхалимничай, винись и кайся… Ты шкуру свою спасай!.. Да и мою тоже… Оборонятся нам холуйством и хитростью надо…
И Кузьма, решив, что она права, спросил:
– И что же мне сказать хозяину? Как объяснить, почему пленник без конвоя по усадьбе шастает?
– А где узник теперь?
– В парниках. Там на клумбы и грядки навоз он раскидывает. Парня нужно опять заточить в камере! Но я уже не успею. Хозяин со свитой скоро будет здесь. Вот если ты, тётка Агафья, сама парня в подвал загонишь…
И она хрипло и насмешливо обронила:
– А ты не боишься, что моя помощь твою вину усугубит?
Он удивился:
– Почему же?..
– А по кочану!.. На плечах у тебя вилок капусты или голова с мозгами?.. Если пытаешься вину загладить, то, значит, понимаешь, что нашкодил. Но если не ведал о запрете, то и греха нет. Прикинься простачком. Дескать, решил, что незачем забулдыгу даром кормить, ведь денег харчи стоят. Пусть-де кормёжку отрабатывает. От стаи собак никуда не убежит он отсюда. Перед хозяином разыграй удивленье. Я не понимаю-де, в чём моя вина… Не балаболь опрометчиво…
И Кузьма снова решил, что она права, и благодарно ей кивнул; она же грустно улыбнулась и пошаркала на кухню. Он принялся булатным штопором откупоривать бутылки со старым вином; продолжалась подготовка к торжественной вечерней трапезе…
11
К ужину первый пришёл Кирилл, обряженный в сине-чёрную клетчатую блузу из прозрачного шёлка и серые штаны; его белые ботинки поскрипывали. Он сел на своё обычное место за овальным столом и уткнулся взором в пустую тарелку; проворные пальцы Кирилла теребили льняную салфетку…
Вскоре появилась чопорная Алла в голубом просторном платье по щиколотку; спина и грудь были укутаны красной пелериной; сверкала на плече золотая брошь с выпуклым рубином.
Кузьма, моргая, столбенел возле коричневых полированных дверей, а когда появился Чирков, то юрко засеменил ему вослед к хозяйскому креслу. Алла и Кирилл быстро и почтительно встали и слегка поклонились, а затем, повинуясь небрежному хозяйскому жесту, уселись вновь.
Чирков облачился к ужину в крапчатый атласный костюм без галстука; замшевые туфли хозяина отличались очень толстой подошвой; пальцы были унизаны драгоценными кольцами… Он вальяжно уселся за стол, и воцарилось молчанье; Кузьма внёс яство…
Они с аппетитом ели дичь, усыпанную толчеными ядрами земляных орехов; пили вино из древних кубков. Вкушали на десерт бублики с маком, яблочное желе и брусничную шипучую воду… Сотрапезники болтали о пустяках, но все были напряжены…
Наконец, Чирков обратился к Кузьме:
– Ответь мне, драгоценный виночерпий и чашник: дрыгался ли, плясал ли от радости кургузый наш пленник, получив по воле твоей свободу?
Кузьма изобразил мимикой изумленье и замер в подобострастной позе; слуга отвечал по наитию, не ожидая от самого себя таких слов:
– Пришелец не обрёл свободу. Я же ничего не посмею предпринять без вашего, мой господин, согласия. Я словно рычаг в ваших руках… ваша кувалда… Но я почуял, что пленник очень боится крестьянской, чёрной работы. И я, чтоб его дополнительно помучить, погнал его удобрять навозом землю. Покорней после этого станет. Свора матёрых собак получила команду стеречь его, не выпуская из парника. Простите моё рвенье.
Агафья, стоя в кухонных дверях, услышала эти фразы слуги и подумала:
«Лучше нельзя было ответить. Теперь у стремянного больше шансов избежать кары за свои фокусы. Пожалуй, он выкрутится на этот раз…»
Для Чиркова оказался неожиданным такой ответ слуги, хотя хозяин и готовился мысленно к разным вариантам грядущего разговора. От Кузьмы ожидались дерзости, за которые мало словесно отчихвость, а нужно сурово покарать муками тела…
Чирков озадачился и спросил:
– А почему ты, Кузьма, решил, что устрашает пришлого обормота грязный крестьянский труд?
И слуга ощутил вдохновенье, и постарался скрыть его от хозяина. Поза Кузьмы осталась чрезвычайно почтительной, а голос, хоть и басил, но был елейным. Слуга сказал:
– У парня бзик… особый комплекс неполноценности… Страшит его тяжёлая и грязная работа, ибо его превращает она в подобье матери, которая всю жизнь тяжко вкалывала в грязи… И страшится сын повторить в свой черёд её участь…
Чирков внезапно ощутил злость и пытался скрыть её за иронической гримасой; негодующим взором уставился он на графин с брусничной водой…
Больше всего взбесило Романа Валерьевича то, что он пытался скрыть свою злость от челяди. Он быстро понял, что попытка скрыть своё чувство не вполне ему удалась, и что прислуга и сотрапезники наверняка заметили его озлобленье.
Впервые после распада Империи ощутил Роман Валерьевич необходимость утаивать свои подлинные чувства. А в имперские времена были ему ханжество и лицемерие привычны. Приходилось ему имитировать заботу о пациентах, которые не были ущербны разумом, но отрицали полезность и нравственность Империи. Роман Валерьевич оказался весьма способным к мимикрии. Он успешно долдонил с трибуны высокопарные лозунги и ругал опальных вельмож. При вручении орденов и юбилейных медалей приходилось ему скрывать свои способности диагноста, ибо он, едва окинув лекарским оком одутловатые лица и квелые рыхлые фигуры, мог безошибочно определить время смерти любого сановника, а государственные лидеры очень боялись узнать истину о своём здоровье. И поэтому случалось порой, что кремлёвские врачи, опасаясь их мстительного раздраженья, не столько их лечили, сколько пичкали их бесполезными витаминными таблетками и успокоительной болтовнёй…
В эпоху Империи Чирков был важным в иерархии звеном, но вольности ему особой не давали, требуя неукоснительного соблюдения неписаных обрядов, ритуалов и правил. Притворство негласно считали главным доказательством лояльности… Но после того, как удалось ему создать собственную церковь, исчезла у него нужда в притворстве. И появилась у Чиркова роскошная возможность давать волю любым чувствам, которые его обуревали. И был он уверен, что от него стерпят всё: и злобные шалости, и гнев, и капризы. И настолько он верил в незыблемость собственного авторитета, что позволял себе даже подшучивать над собою. Вот-де и оратор я хороший, и собственную церковь я сварганил, а не могу на бумаге излагать мессианские свои идеи…
И вдруг ему пришлось унизительно утаивать свои чувства перед челядью!.. Ему, чья глобальная миссия преобразит мир!.. И Роман Валерьевич злился всё пуще…
И вдруг он задумался о том, что же именно его злит. И припомнилось ему, что в последнее время он во всём соглашался с Кузьмой. И сообразил, наконец, Роман Валерьевич, что его обозлило осознание именно этой своей уступчивости, которая наверняка замечена другими. Обозлило его ещё и то, что Кузьма совершенно точно определил психический комплекс пришельца. И Чирков впервые позавидовал смекалке своего слуги и чрезвычайно рассердился на себя за это…
И взвинченный Чирков размышлял при общем молчании:
«Они учатся у меня, присматриваясь к моей методике. Ведь они уже видели специфические реакции людей после моих опытов. И уже сами могут поставить они психический диагноз. И они, вероятно, видят меня совсем не таким, каким я сам себя воспринимаю. Неужели я теперь им кажусь сумбурным и взбалмошным? Неужели в их ораве меня уже критикуют? Разумеется, критикуют не люди-брёвна, лишённые разума, а те, кто в моём окружении пригрелся и занимается моей канцелярией…»
И все эти нахлынувшие мысли быль столь мучительны и тревожны, что захотелось Чиркову немедленно убраться в свои апартаменты, а не предаваться обычному своему балагурству после ужина. Чирков вытер салфеткою рот и забубнил:
– Канва твоих мыслей, Кузьма, имеет верную психологическую подоплёку. У пришлого есть такой психический комплекс. Это очевидно. Пусть работает в навозе и грязи, если это ему особенно мучительно. Хаживал и я студентом на овощные базы, где я сортировал гнилой картофель. И богатые белоручки трунили надо мной за это… Пускай и он… как бишь его?.. ах, да… Осокин!.. потрудится на моих фермах… Но статус его остаётся неизменным: он – узник. И жить он будет в подвале. И знай, Кузьма: ведь я тобою не обманут. Ты его вызволил, чтоб иметь хотя бы одного подчинённого, которым мог бы ты помыкать. И тебе, мой бесталанный Кузьма, толики власти захотелось… Я не обманут…
И внезапно все сразу: и сотрапезники, и он сам, и его челядь подумали о том, что ему нельзя было произносить эти слова… Ему полезно было притвориться обманутым; Чирков это понял и, вскочив, покинул столовую…
После ухода хозяина пытался Кирилл подтрунивать над слугою:
– Ну, что же, Кузьма, не удалось тебе охмурить хозяина. Я тебя понимаю: ты бывший офицер и привык муштровать подчинённых; без них у тебя хандра. Но простит ли Роман Валерьевич попытку его обмишурить?
Кузьма по-солдатски вытянулся во фронт и ответил:
– Я не смею лгать благодетелю и патрону.
Кирилл пристально взирал на слугу: у того ни один мускул на лице не шелохнулся. Алла молвила:
– Сквозняк портьерами колышет, и я озябла. И уже поздно. А ведь мне ещё предстоит записать сегодняшние речи моего дяди, иначе они к утру потускнеют в памяти.
Кирилл настороженно встрепенулся и спросил:
– Алла, неужели отныне ты будешь систематически записывать в тетрадку разговоры нашего шефа?
– Да, мне оказана такая честь.
Агафья, стоявшая досель в кухонных дверях, гневно, но тихо засопела, резко повернулась и вышла прочь. Кузьма, усмехаясь краешком рта, вытягивался в струнку. Кирилл пыжился и пытался иронизировать:
– А ты преуспела, Алла. Витиеватой вязью отчеканено будет на твоей погребальной урне: «Она записала разговоры Романа Валерьевича Чиркова». Ты окажешься после кончины на скрижалях мировых религий…
– Не суесловь о смерти, – попросила она с выраженьем кротости на лице.
– Пожалуй, – согласился Кирилл и, вскочив, удалился вихляющей походкой из комнаты.
Кузьма слегка поклонился Алле и произнёс:
– Поздравляю вас.
Она ему невесело кивнула и велела:
– Убери и вымой посуду. Загони Осокина в его камеру. И больше не провоцируй дядю своим психологическим трюкачеством.
– Я понял.
Она медленно встала и вышла из столовой. Кузьма, тревожно супясь, начал убирать посуду…
12
Осокин в парусиновой робе понуро сидел с вилами на скамейке возле парников; две овчарки лежали рядом на крохотной лужайке и, ощерясь, смотрели на него. Сумерки сгущались, а ветер крепчал и пах болотной тиной.
«Дадут ли мне сегодня пожрать хотя бы чёрствую корку? – думал Осокин. – У меня с рассвета макового зёрнышка во рту не было. А уже вечерняя заря… Попал я в плохую катавасию… Пожевать бы колбаски с чесноком и салом… и хорошо бы чарочку перцовой горелки перед сном тяпнуть… Я изнемог от этой изнурительной и вонючей работы в навозе…»
И Осокину вспомнилось, как его мать, выслушав его описанья тягостей сапёрной армейской жизни, сказала ему: «Больше никогда не занимайся грязной и тяжёлой работой. В юности и армии, возможно, простительно это, но в гражданской взрослой жизни – постыдно. Не уподобляйся мне. Если ты, сынок, хотя бы ещё один раз запачкаешь себя грязным трудом, то уже никогда не заползёшь ты в приличное общество. Я надрываюсь, чтоб не надрывался ты…»
И Осокин начал бояться уподобиться своей матери; она же работала дворничихой, и не позволяла сыну помогать ей. И казалось Осокину, что если он возьмётся за лопату, совок или метлу, то будет обречён на беспросветную судьбу своей матери. И поэтому избрал он стезю мошенника…
Он размышлял:
«В столице я ещё мог сойти за интеллектуала. Ведь я торгую не украденным на чердаках бельём, а иконами. Я шлялся по притонам, вернисажам и клубам и гомонил там… и порой я тасовался в богемной кутерьме художников… Но, пожалуй, всё это в прошлом. Теперь меня могут и верёвкой связывать, и на аркане таскать. Могут меня дёгтем и смолой измазать. И принудили меня копошиться в навозном дерьме. А ведь мне завещала мать, как фетиш, никогда не заниматься такой работой. И что же теперь со мною будет?.. Какой мне выпадет здесь жребий? И кто я такой?..»
В дальнем конце аллеи появился Кузьма, который шагал неспешно и важно. Осокину вдруг припомнилось изображение пиратского капитана на гравюре в детский книге; пленник вскочил и, тиская обеим руками навозные вилы, весь напрягся…
Кузьма, наконец, приблизился, а сумерки уже столь сгустились, что цвет его коричневого костюма был почти неразличим. Осокина вдруг поразило, что лицо бородача оказалось смущённым и даже перекошенным, хотя осанка Кузьмы осталась гвардейской. Собаки встали и, переминаясь на сильных лапах, тихо зарычали.
Осокин держал вилы зубьями вверх; его вдруг затошнило от здешних миазмов. Кузьма подошёл к пленнику вплотную и молвил:
– Я вижу, что умаялся ты. Очень трудно без тренировки раскидывать навоз; я по себе это знаю. Гнусное занятие!..
И Осокин, ощутив нежданную симпатию к слуге, сказал умилённо и выспренне:
– Навоз, как удобрение, помогает свивать прекрасные гирлянды цветов!
– Завтра будешь сбрую для кареты ладить. Хозяин обожает кататься в коляске, запряжённой рысаками. Станешь ты у меня и шорником, и плотником. Попрошу для прочих работ пригнать «людей-брёвен». Эти хозяйские холопы работящи и покорны, как волы…
– А почему здесь людей обзывают брёвнами?
Кузьма хозяйственно прошёлся по двору, попинал ногами кучу хвороста и неожиданно для себя заговорил откровенно:
– Ты вилы держишь, как копьё. Будто пронзить меня хочешь. Я не скрою: хотел я из тебя жертвенного козла сделать. Но ведь я не стал тебя потрошить, и даже слабенькой оплеухи я тебе не отвесил… Ты спросил, почему здесь людей называют брёвнами? Такой термин придумал хозяин; непредсказуемы зигзаги его мысли. Но есть определённый смысл в этом названии. А я бы к словечку «брёвна» прибавлял бы ещё эпитет «восторженные». Они почитают хозяина, как Бога! Они полагают, что он может воскресить мёртвых. Есть у хозяина особые приёмчики, которые разработали психиатры ещё в эпоху Империи… Славная была эра!..
И оба они во мгле сели рядом на скамейку; Осокин отшвырнул ненавистные вилы и спросил:
– А почему вы хотели превратить меня в жертвенное животное? Неужели намеревались моей кровью повязать хозяина с собою?
– В десанте был подобный ритуал. Я сам сбросил пленников с вертолётного борта; этим командиру меня и повязали… А здесь я захотел быть мотором всего дела и повязать кровью тутошних главарей. И добавить им убийством решимости…
– А как меня собирались прикончить?
– В нашем капище… как лазутчика… при скопище тех, кого хозяин секты не лишил ещё разума… Огромным хозяйством нельзя управлять с помощью идиотов, и поэтому некоторым членам нашей секты разум ещё сохранён. Они – как снасти, кормило и якорь для корабля новой веры!.. И я подумал, что, совершив вместе с ними сакральную жертву, я их повяжу кровавой круговой порукой и заслужу за это особую благодарность хозяина. И усугублю его доверие ко мне…
Осокин содрогнулся и спросил:
– А почему вы отвергли эту затею?
– Я испугался, что почуют они сладость крови; ведь они уже сейчас невменяемы от рабской покорности им. Они властью одурманены, как наркотиком, но крови ещё не пили. А пролитая кровь заражает страстным хотеньем лить её и впредь. Я был на войне и знаю это… Я не могу заглянуть в магический кристалл, но я прекрасно представляю, что с ними будет, если крови они попробуют. Это будет гремучая смесь, ибо лишатся они всяких нравственных препон и тормозов. И я первый от этого рискую пострадать: ведь я приближен к ним. Некоторые уже козни мне строят… Если вкусят они крови, то меня непременно убьют. А вот если они к крови не приохотятся, то меня просто превратят в «человека-бревно», а такие по-своему счастливы…
Осокин криво усмехнулся во тьме и возразил:
– А я не хочу такого счастья; я не желаю стать восторженным бревном. Какая, в сущности, разница между растительным бытиём и смертью? Я не обладаю сложным духовным миром, но я не хочу утратить то, что есть во мне. Пусть я не Лев Толстой, с его рефлексией и самоанализом, с его великолепным дневником, составившим эру в литературе. Я – примитивнее, проще. Но и во мне есть то, что я не хочу потерять. Я не желаю, чтоб у меня были похищены воспоминанья о моих мечтах. Я помню, как я бродил на окраине города возле ресторана «Застава» и мечтал, что я буду здесь смаковать на кутежах драгоценные марочные вина, а не пить в подворотне сивушное зелье из аптечной микстуры на спирту… Если я стану человеком-бревном, то какая разница: счастлива эта особь или нет? Вокруг меня шныряет множество людей, но разве интересно мне их душевное состояние?.. По-вашему: я не прав?..
– Говори мне «ты», – тихо молвил Кузьма, – ведь у нас примерно одинаковый возраст…
– Хорошо, я, пожалуй, перейду на «ты». Ведь ты мне сулил своё соседство по флигелю.
– Пока не будешь ты моим соседом, – отозвался смущённо Кузьма, – хозяин всё переиначил. Он по-прежнему считает, что ты лазутчик, и велел тебя содержать в подвале.
– Вот как!.. Пусть, ладно!.. Но я не хочу, как пещерный житель спать на жердях. Я не претендую на постельное бельё, перину или подушку, но выдать могли бы матрас из соломы. И верните мне торбу: там есть мыло и бритва… не привык я ходить со щетиною на лице…
– А ты горло себе не перережешь… чтоб не стать человеком-бревном?..
Осокин ответил неуверенно и с запинкой:
– Я пока не знаю. Жутковато умирать, но перспектива стать восторженным олухом мне претит…
– Перестань о смерти суесловить, – решительно сказал Кузьма, – ибо ничего ты не знаешь о ней. А я был на войне, в этой кровавой бузе, и я видел смерть воочию. От бойни у меня мысли взвихрились, и я влез в неоплатные долги. Кредиторы вознамерились меня убить, но здешний хозяин вызволил, и теперь мне нет хода отсюда. Сразу прикончат за долг. А ты, если драпанёшь с этой каторги, то будешь вольным соколом.
Осокин хмыкнул:
– Неужто моё положение здесь более предпочтительно, нежели твоё?
– Пока ещё нет. Тебя псы стерегут, и ночевать ты будешь в подвале. И на ужин дадут тебе постную баланду и кашу без масла. А я буду яства вкушать…
– Объедки!..
– Зачем ты так?.. Я ведь с душевностью к тебе обращаюсь…
– А кстати: почему?.. Чем я вызвал у тебя внезапную приязнь ко мне? Ты – импульсивен, но не глуп. И должен понимать, что такая откровенность со мной – рискованна… Мне ведь незачем тебя жалеть: на заклание хотел меня отправить, на плаху… Моей кровью чаял ты обагрить жертвенный алтарь… А теперь ты станешь меня, как сельский бригадир, эксплуатировать на фермах и впредь…
– Неужели донесёшь ты хозяину о разговоре этом? – хмуро и прямо спросил Кузьма.
И вдруг Осокин решил, что лгать теперь нельзя, и подумалось ему, что имеется в его организме неосознанная высшая мудрость, перед коей обычный разум – пошлое ничтожество… И преобразилась для Осокина реальность, и обычные парники с бутонами и цветами вдруг ему привиделись закоулком таинственного мира под управлением Провиденья… Мир забарахтался, заискрился, и Осокину показалось, что лунные тени кувыркаются. И струйки ветра мнились ему дыханием Божества, а далёкие зарницы – грозными зеницами Вседержителя…
Осокин уже не размышлял, и обычный разум казался ему помехою в жизни, а думы, запечатлённые в памяти, мнились до безобразия пошлыми. И сполохами прорывались в него мысли извне, словно их вибрирующими пучками гнал из космоса Всемирный разум…
И Осокин постиг наитием, что была его смерть очень близка. А спасло его только то, что в миги решающей и роковой беседы он был абсолютным рабом, не желающим ничего, кроме хозяйской ласки. Он не притворялся, а воистину был полным рабом и в мыслях, и в инстинктах, и в душе. И поэтому он не фальшивил, когда твердил о своём восторге перед хозяйским величием. И поверил ему Кузьма не только разумом, но и подсознаньем. А подсознательная вера крепче любой другой веры… И подсознательно Алла поверила Осокину, а тот теперь вдруг постиг наитием сущность этой женщины…
Она средь мужчин искала себе раба настолько ей преданного, чтобы оказался он способным ради блага своей госпожи и саму её приструнивать, усмирять и карать…
И вдруг сознание Осокина отключилось, прервав его бесконечные мысленные речи; прекратилось его внутреннее витийство, которым он тщился себя оправдывать. Замер его внутренний диалог с воображаемым спорщиком. И в таком состоянии, которое вдруг Осокину показалось чрезвычайно комфортным, он заговорил:
– Ты спрашивал о вероятности моего доноса на тебя. Но зачем мне здесь ябедничать? Я не стану здесь словесной трещоткой и не растреплю хозяину о беседе нашей. Мы с тобой здесь в равной опасности, и, пожалуй, нам нужно быть союзниками. Но зудит у меня кожа на ногах, а моя обувь пропитана зловонной жижей. Я хочу разуться, и мне лицо ополоснуть надо. И я настырно прошу дать мне пожрать. Я очень голоден: во время сегодняшней канители мне даже постного борща похлебать не дали…
– Эта канитель могла оказаться смертельной для тебя, – молвил Кузьма и встал со скамейки. – Пойдём со мною. В подвале есть горячий душ. Постельного белья не обещаю, но принесу рогожу и дерюжный матрас. Дам чистые шаровары и рубаху… и приготовлю тебе ужин… И ты уж не взыщи: из объедок…
Осокин вскочил и откликнулся:
– Мне теперь недосуг кочевряжиться и брезговать!
И они стремительно пошли к особняку, и шагал Осокин чуть впереди… После горячего душа Осокин в чистой одежде и в своей камере, где уже на полатях лежали рогожа и матрас, поел жирную кулебяку из оленьего фарша и булькающую уху с налимьими молоками… Затем Кузьма проворно вынес из камеры посуду и, заперев щеколдою двери, пошёл на кухню; там Агафья и слуга, чокнувшись, выпили залпом без закуски по чарке водки и молча расстались…
И скоро в особняке все крепко уснули, ибо предельно были изнурены сегодняшним днём… И только сторожевые псы, рыча, сновали по усадьбе…