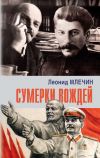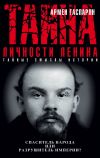Текст книги "Записки о революции"

Автор книги: Николай Суханов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 131 страниц)
Показывая им подлинник революционной конституции, я в двух словах рассказал о положении дел в области высокой политики. Меня снова перебивали криками, возгласами, вопросами о монархии и династии. Я призывал к борьбе за республику и, наскоро ретировавшись, продолжал путь в правое крыло.
Милюков был удивлен моей любезностью, когда я вручил ему копии и оригиналы наших деклараций. Рукописи так и остались у него…
– Слухи о разгроме университета оказались вздорными, – мимоходом заметил я, передавая документы.
– Да, да, – отвечал Милюков как бы на свои собственные мысли, – все идет хорошо. Все хорошо.
Я также находил, что все идет как нельзя лучше. Думские апартаменты сейчас также почти опустели. Дело было кончено.
Были кончены и все дела четвертого дня революции. Можно было подумать об отдыхе и пище. Мы распрощались с Милюковым, чтобы в недалеком будущем встретиться снова, уже в Мариинском дворце и уже не в качестве «контрагентов», а в качестве представителей сторон, борющихся не на живот, а на смерть. Наше соглашение было уговором об условиях поединка.
Было около 11 часов. В это самое время господа Гучков и Шульгин, только что приехав в Псков, в салон-вагоне вели беседу с царем об отречении его от престола. Как известно, царь решил отречься еще утром, после доклада генерала Рузского, говорившего ночью по прямому проводу с Родзянкой. Я уже упомянул, что царь тогда же утром составил на этот счет телеграмму, но не послал ее, так как получил известие, что к нему в Псков едут члены думского комитета. Царь ожидал их в течение дня.
А господа депутаты тайно от народа ехали в Псков, чтобы от имени революции убедить царя сохранить династию путем передачи царских прав сыну Алексею, а фактической власти – брату Михаилу.
Царь за день, однако, передумал, и после длинной речи Гучкова, весьма дипломатично и осторожно ломившегося в открытую дверь, он заявил, что уже сам решил отречься от престола, но не в пользу Алексея, с которым он не в силах расстаться, а в пользу брата, которого прочили в регенты.
Это застало думских делегатов врасплох. Однако они не замедлили сообразить, что для них и руководимых ими групп такой оборот дела представляет еще большие выгоды, а вместе с тем они не поколебались от имени России санкционировать эту попытку надеть на страну и революцию это более надежное монархическое ярмо. Они заявили, что преклоняются перед отцовским чувством и не возражают. Около 12 часов они уже увозили в Петербург акт об отречении в пользу Михаила. Напрасно…
Но так или иначе, этим актом увенчивался великий переворот 1917 года. Теперь была ликвидирована династия, а с ней и монархия. Теперь была создана новая революционная власть и заложены основы нового порядка. Российское государство, российский народ теперь уже вышли на новый светлый путь, и мировому пролетарскому движению уже открылись новые перспективы.
Я шел в это время на ночевку по пустынным улицам «Песков». У костров грелись военные и штатские патрули, новые милиционеры и всякие добровольцы «революционного порядка» с винтовками, пистолетами и значками. Они добросовестно останавливали изредка проносившиеся автомобили, требовали пропуска и рассматривали документы. Появился в Петербурге некий «черный автомобиль», мчавшийся, как говорили, из конца в конец столицы и стрелявший в прохожих чуть ли не из пулемета. Его ловили, но не могли поймать.
На улицах не чувствовалось тревоги. Уже не было на улицах бездомных, голодных солдат. Переворот завершился, и столица, а за ней вся страна начинали жить новой жизнью и переходить к очередным делам.
Кое-где чернели одинокие, накренившиеся грузовики и другие автомобили, завязшие в снегу. Немало погубили их в эти дни. И не эти жертвы стоили внимания…
Но каких жертв вообще не стоила великая победа, все еще похожая на сладкую мечту и на волшебный лучезарный сон!..
Июль-ноябрь 1918 года
Книга вторая
Единый фронт демократии
3 марта – 3 апреля 1917 года
1. Ориентировка
«Безответственные» наброски. – Новый порядок. – Самоорганизация Исполнительного Комитета. – Характерные черты комиссий. – Ю. М. Стеклов. – В. О. Богданов. – Л. М. Брамсон. – К. А. Гвоздев. – Г. М Эрлих. – Н. Ю. Капелинский. – Моя «органическая» работа. – Труженики и политики. – Ориентировка. – Переход на мирное положение: в «ведомствах», в армии, у промышленников. – Работа Исполнительного Комитета: помещение, пропитание. – Вопрос о трамвае. – Первое столкновение с солдатскими вольностями. – Офицеры в Исполнительном Комитете. – Отречение Николая II. – Наша позиция. – Неясность. – «Услуга» Николая Милюкову. – Хлопоты с Михаилом Романовым. – Рыцари народной свободы. – «Борис Годунов» наизнанку. – Керенский на подмостках. – Недемократический демократ. – Передышка от Совета. – Н. С. Чхеидзе. – Гельсингфорсские события. – В правом крыле. – Контроль. – Амнистия. – Керенский на важном совещании. Керенский в борьбе направо. Керенский рвется к власти. – Петербург: анархия и порядок. – Радостная встреча. – В хвостах. – Рассказ Никитского. В градоначальстве. Митинг о политической экономии. Офицеры. Совет и война. – Арестанты. – «Идейный» филер. – Радиотелеграмма Милюкова
С этого времени, с 3 марта, кончается сплошная цепь моих воспоминаний, когда в голове запечатлелся чуть ли не каждый час незабвенных дней. С пятого дня революции начинаются провалы, пустоты, которые заполнить я не могу. Начинают сливаться и путаться дни, а затем и недели. Отныне я не сумею описывать их «подряд», не сумею весной и летом 1919 года вести подробный «дневник Февральской революции».
При помощи газет я, правда, легко восстанавливаю сплошную цепь событий. Но это не есть цель моих записок: я не пишу истории. Личные же воспоминания вырывают из этой цепи лишь отдельные, хотя и многочисленные, эпизоды, которые, быть может больше, чем прежде, мне придется спаивать между собою публицистикой; придется эту беспримерную в истории трагедию, эту чудесную эпопею, называемую русской революцией, разбавлять скучными рассуждениями в бессилии воспроизвести ее не только в целом или основном, но и в том виде, как она катилась непосредственно перед моими глазами, бурля, сверкая, оглушая, переливаясь всеми красками, как исполинский водопад.
Но не только нет возможности, нет и нужды предлагать читателю «дневник» семнадцатого года. Эпизоды, какие я помню, и без того составят слишком длинную вереницу, какую рискует не преодолеть читатель. Ну что ж! Пусть то будут крупицы для трудолюбивого и искусного историка… Хуже, что эту вереницу рискую не преодолеть я сам, не доведя до конца своих воспоминаний. Ну что ж! Буду записывать, пока позволяют обстоятельства.
3 марта на улицах висели декларации «От Временного правительства» и от Совета, как было условлено, на одном листе. Новый революционный статус был создан. В окончательной победе революции уже ни у кого не могло быть сомнений.
Все наличные сведения из провинции говорили, что переворот произошел во всех центрах страны и старая власть ликвидирована повсюду более или менее легко и безболезненно.
Армия так же мгновенно признала новый строй. Царские генералы, видя безнадежность борьбы, стали поспешно принимать защитную окраску и делать вид, что они переродились. Черная сотня сгинула в подполье. Высшее чиновничество также распылилось в мгновение ока. У царского режима еще до формальной ликвидации Романовых не осталось ровно никакой опоры и никаких надежд.
Контрреволюция существовала, но она была в скрытом виде, подобно революции до революции. Она грозила отнять и ликвидировать в будущем народные завоевания. Но она более не угрожала перевороту, который был благополучно завершен к 3 марта.
Не угрожала ему больше и «анархия» в столице, где еще далеко не было порядка, но где уже были силы для его водворения в ближайшие дни. Не угрожал и голод, ибо наличные запасы были в целости, а в работе транспорта переворот не создал ни сучка ни задоринки. Создалась и начиналась новая жизнь, «новое счастье» и новая борьба…
Исполнительному Комитету Совета рабочих депутатов приходилось вплотную приступить к «органической работе». И для этого было необходимо основательно самоорганизоваться, выделить специальности, устранить чересполосицу и противоречивость распоряжений, избрать ответственного («государственного») секретаря, озаботиться правильным ведением протоколов и т. д. А затем на очереди стоял вопрос о ликвидации военно-революционных действий, о переводе революции на мирное и «нормальное» положение, причем это сводилось по преимуществу к ликвидации забастовки на заводах, в городских предприятиях, в типографиях… Надо было, кроме того, оформить и редакцию «Известий».
По-прежнему терзаемый внеочередными заявлениями и экстренными делами, Исполнительный Комитет избрал из своей среды ряд комиссий или, быть может, точнее, разбился на отделы для самостоятельного решения разных категорий дел.
Уже по одному названию комиссий можно судить о том, насколько несовершенна и, так сказать, беспринципна была наша организация, призванная обслуживать революцию при первых ее шагах. Комиссии были: канцелярская, по возобновлению работ, по разрешению выхода газет и распределению типографий, автомобильная, финансовая, продовольственная, районная и текущих дел.
Как видим, одни из этих комиссий имели постоянное и, так сказать, принципиальное назначение, другие – временное, техническое, вспомогательное и совершенно специальное; одни – всероссийское, другие – только городское. В частности, последняя из названных комиссий – текущих дел – была, как помню, создана по особому моему настоянию для приема в ней и для избавления пленума Исполнительного Комитета от «внеочередных» и «чрезвычайных» дел.
При выборах в комиссии по-прежнему еще не замечалось сколько-нибудь интенсивной борьбы партий. В этом отражалось столько же единство целей и единый дух демократии, сколько «несознательность» деятелей в тот момент, то есть слишком смутное понимание будущих процессов революции. Ведь не только в эти дни, но и много спустя, уже после того, как вопрос о взаимоотношениях партий и Советов не раз обсуждался, многие стремились и надеялись сохранить навек единую «советскую платформу» для всей демократии… Смешно сказать, но грех утаить, что, в частности, Стеклов льстил себя надеждой и, размечтавшись, не раз говорил мне о том, как он пройдет кандидатом Совета в Учредительное собрание.
В те дни, 3 марта, даже такая политически ответственная комиссия, как агитационная, была составлена по выборам из оборонца Эрлиха и двух большевиков – Красикова и Шляпникова, тогда как большинство Исполнительного Комитета составляли меньшевики-интернационалисты.
Еще любопытнее, что ответственнейшее дело редакции «Известий» и составления для этого коллектива было поручено Стеклову. Оборонческое меньшинство Исполнительного Комитета далеко нельзя было уже тогда считать слабым, а Стеклов был человек большевистского происхождения, хотя и писал в шовинистско-плехановском «Современном мире». Тем не менее ни одна из групп не настояла на образовании «коалиционной» редакции или хотя бы на ответственном выборном коллективе. И не в пример прочим комиссиям литературно-редакционная была составлена из одного Стеклова… Впрочем, он добросовестно кооптировал редакционный коллектив, неоднократно, но безуспешно приглашал туда меня и составил редакцию из интернационалистов – Цыперовича, Авилова, из оборонца и будущего заграничного делегата Гольденберга и не помню, кого еще.
Подобное отношение Исполнительного Комитета к такому важному делу, как редакция официального и центрального органа революции и демократии, также может объясняться в первую голову лишь отсутствием в тогдашнем руководящем учреждении сколько-нибудь резкой дифференциации и партийной борьбы.
Стеклов же был тогда весьма выдающейся фигурой революции и вынес на себе действительно огромное количество самой ответственной работы. При своей достаточной образованности, литературном и ораторском опыте, при своем очень большом революционно-политическом (российском и европейском) прошлом Стеклов в те времена проявлял огромную энергию и активность. Он был неутомим и очень разносторонен в своей тогдашней работе. Притом тогда еще не успели проявиться другие свойства этого деятеля, определившие впоследствии его дальнейшую судьбу.
Прежде всего, Стеклов всегда неприятно тяготел ко всякому большинству вообще. С началом партийного расслоения в Совете это совершенно дискредитировало полезного (если и не столь приятного) деятеля революции, на которого при таких условиях нельзя было надеяться его единомышленникам и от которого всего было можно ожидать.
Это свойство Стеклова вытекало не только из личного тщеславия. Основной причиной было, пожалуй, то, что Стеклов, в сущности, не имел никаких «взглядов», а в лучшем случае имел только «направление». Ни его эрудиция, ни его политический опыт, как это ни странно, не устранили его основных качеств: его политической бесплодности и мелкости, мелочности его политической мысли.
«Политика» Стеклова в те времена едва ли не исчерпывалась его полицейским умонастроением: тащить, не пущать, запретить, ущемить. Когда же дело доходило до «высоких» проблем, то Стеклов либо не вносил ничего, либо метался, путал и «не решался». В частности, это было с вопросом о войне. Не стоит здесь говорить об этом подробно. Но именно отсутствие твердых принципов и широких горизонтов приходится отметить, говоря о деятеле, игравшем весьма видную роль в первый период революции… С этим деятелем мы, впрочем, еще встретимся не раз.
Чисто техническое дело – управление делами, канцелярская комиссия – было поручено Б. О. Богданову. Это было правильно в том смысле, что Богданов был чрезвычайно энергичным, распорядительным и опытным организатором, имея для этого подходящую в данной обстановке тяжеловатую, чтобы не сказать грубую, руку (при своей сравнительной молодости)… Впрочем, этой своей роли Богданов, насколько помню, почти не выполнял и скоро бросил это дело для других функций.
Но было бы неправильно думать, что Богданов был пригоден именно к роли «управляющего делами» в отличие от иных областей работы. Напротив, не в пример Стеклову, предназначенному в идейные вдохновители Совета посредством «Известий», Богданов, обреченный канцелярщине, был политик. Он интенсивно и, я бы сказал, интересно мыслил, совершая любопытную эволюцию, чтобы не сказать «экивоки» в области «высокой политики».
И наконец, это был человек, способный к неутомимой «органической работе» в различных ее сферах. Вообще это весьма интересная фигура и один из столпов работы Исполнительного Комитета в течение всего первого и меньшевистско-эсеровского периодов революции до самого октябрьского переворота.
Богданова я знал довольно давно и хорошо еще по «Современнику», по всяким организациям, музыкальным кружкам и чисто личному знакомству. Это был не блестящий, не выдающийся, но полезный писатель по специальным вопросам и на редкость неаккуратный сотрудник, с которым лучше не связываться редактору.
В политике мы всегда были разных устремлений, а с началом воины разошлись основательно, до полного литературного разрыва: Богданов был оборонец из группы Потресова и жестокий враг моего «пораженчества»… Затем, когда наша прогрессивная и более дальновидная буржуазия занялась культом бургфридена и в интересах его попыталась легализировать оборонческое течение в рабочих социал-демократических кругах, Богданов стал секретарем рабочей группы при Центральном военно-промышленном комитете.
Во время же революции мы видим его на самых разнообразных и ответственных постах, где он то нащупывал правильные пути реальной социалистической политики и проявлял здравый практический смысл вместе с классовым чутьем, то снова, ослепленный мертвой догмой и партийной злобой, посильно толкал революцию к пропасти, а страну к развалу.
В Богданове удачно и недюжинно соединилась политическая мысль с неустанным «органическим» кропотливым трудом.
«Это рабочий вол», – говорил про него Чхеидзе, наблюдая, как он битые часы подряд выстаивал председателем Совета в изнурительной борьбе с «народной стихией», потрясая звонком в одной руке, величественно дирижируя другой и выкрикивая охрипшим голосом:
– …тех прошу поднять, прошу опустить…
Это был «рабочий вол», во многих случаях незаменимый и во многие критические моменты бывший рабочим центром столичной советской организации. Но его политическая мысль шла большей частью по неправильным путям и в конечном счете не сослужила ему хорошей службы.
Важнейшее дело советских финансов было поручено старому трудовику, петербургскому адвокату, известному политическому защитнику Л. М. Брамсону, заслуженному самоотверженному деятелю и отличному человеку. Не в пример прочим трудовикам, не выдержавшим испытания революции и почти без исключения продавшим свои «демократические» шпаги правому крылу, Брамсон «органически» слился с Советом и неустанно работал в нем до конца. Его демократизм, напротив, выдержал испытание блестяще. Но пример этого старого адвоката не вызвал подражаний даже среди более молодых, более плебейского происхождения «трудовиков», неудержимо тяготевших к «правительственным сферам».
Свое трудное и неблагодарное «финансовое» дело в течение всех восьми месяцев, до самого октября, он выполнял не только с успехом, но, можно сказать, с блеском. Насколько трудно было положение тогдашнего советского «министра финансов», видно уже из того, что советский бюджет в те времена, когда Советы были «частными учреждениями», составлялся в своей львиной доле из доброхотных даяний. Вначале, пока деятельность развернулась еще не широко, пока расходы еще были невелики, а «всеобщий энтузиазм» заставлял умиленную и «несознательную» буржуазию развязывать кошельки, дело еще кое-как двигалось, через пень колоду. Но потом приходилось туго.
Свои обязанности по финансовой комиссии Брамсону пришлось делить с К. А. Гвоздевым. Это был также один из главных советских работников и одна из интереснейших фигур первых месяцев революции.
Не менее «рабочий вол», чем Богданов, Кузьма Гвоздев, занимаясь советскими финансами, размениваясь на мелочи, вроде заведования автомобильным делом, с первых же дней стал главной основой всего дела труда в центральных советских учреждениях.
Надо представить себе всю сложность условий победоносной глубоко демократической революции, которая сделала пролетариат фактическим хозяином положения, но вместе с тем оставила в неприкосновенности и основы буржуазного строя и даже формальное господство старых господствующих классов; надо понять всю сложность и противоречивость этих созданных революцией условий, чтобы оценить, насколько трудным, ответственным, щекотливым было руководство делом труда в ту эпоху; какого опыта, твердости, такта, сноровки требовало это дело между молотом и наковальней среди протестующих, бунтующих, вечно грозящих забастовками и локаутами рабочих и предпринимателей.
Положение Гвоздева было тем труднее, что при наличии всех перечисленных свойств в распоряжении Гвоздева не было еще одного, которое могло бы оказать ему незаменимую услугу, – не было популярности. Самородок-пролетарий, он возглавлял правое оборончество, социал-реформизм и оппортунизм в практике рабочего движения военно-революционной эпохи. Это течение не имело никакого кредита…
Взятый от заводского станка в политические лидеры и министры, а затем с министерского кресла через тюремную камеру вновь переданный заводскому станку, Кузьма Антоныч по праву занял место «советского» министра труда; но взятый из гучковско-коноваловского «военно-промышленного» гнезда, Гвоздев в соответствии с этим, по своему направлению, по тенденциям и тяготениям не мог не держать курса на достойного члена Временного коалиционного правительства и на весьма подходящего министра труда (без кавычек) в кабинете Керенского. Ни подобный тип рабочего деятеля, ни подобный курс не могли ни создать популярности среди искони большевиствующего великорусского пролетариата, ни тем более поддержать популярность махрового соглашателя и капитулятора перед буржуазией в эпоху революции…
Подобно Богданову, К. А. Гвоздев не был только «рабочий вол», а его соглашательство не было, не в пример многим циммервальдцам, тупым и прямолинейным. Во многих и многих случаях Гвоздев обнаруживал не только здравый смысл, но и большую гибкость мысли. Он был часто оригинален и всегда интересен этой бьющейся мыслью. И я всегда с неизменным интересом и, скажу, с немалой пользой внимал не особенно красным и бойким, довольно корявым речам моего постоянного противника в Исполнительном Комитете.
Да не один я, а и все руководящие сферы справа налево прислушивались, когда Кузьма Антоныч начинал речь со своей урезонивающей манерой и своим неподражаемым, органически с ним слитым первобытным говором:
– Господа… ведь теперича… мы занимаемой… дело в тем, что…
Не встречаясь с ним до революции, но достаточно о нем наслышанный, я, конечно, был сильно предубежден против этой «вредной личности». Но при первых же столкновениях с ним в работе и в личном знакомстве я не замедлил раскаяться в своем предубеждении, найдя в Гвоздеве отличного товарища, хорошего человека, искреннего социалиста, с которым было приятно иметь дело как с противником и еще приятнее как с соратником…
Ему весьма было не чуждо самолюбие, которое перешло в болезненное под влиянием травли, разрыва со своим братом рабочим, под влиянием «министриалистских» неудач. Меня вместе с «Новой жизнью» он считал отпетыми губителями революции и говорил со мною со скорбным видом и горестным негодованием. Но все же не в пример другим с Гвоздевым я сохранил приятные личные отношения «до конца», до октября. К этому времени он окончательно перекочевал из Таврического дворца в Зимний. Но – не «помогли» ему его «ляхи»…
Конечно, Гвоздеву пришлось быть главным работником комиссии по возобновлению работ, избранной 3 марта. Из прочих наиболее ответственных комиссий в «агитационной» Шляпников и Эрлих, два партийных человека, левый большевик и правый меньшевик-бундовец, изображали из себя лебедя и щуку.
Шляпникова мы уже знаем. С Эрлихом также не раз встретимся в дальнейшем. Это был сотрудник «социалистического» «Дня», интеллигентный, знающий, добросовестный и деятельный работник, впоследствии командированный за границу представлять русскую революцию и организовать социалистическую конференцию в Стокгольме…
Вначале он, несомненно, выделялся из правого советского крыла самостоятельной мыслью и стремлением держать свое оборончество, свой ревизионизм, свое «соглашательство» в пределах логики и здравого смысла. Про этого оборонца из подозрительной газеты нередко приходилось говорить тогда, что он лучше циммервальдцев. Но когда дифференциация советских элементов окончательно произошла и правое крыло окончательно сформировалось под предводительством циммервальдца Церетели, Эрлих совершенно погряз в нем, утратив свою физиономию «разумного оборонца» и всякую физиономию вообще.
Таковы были комиссии, созданные 3 марта, и таковы были их главнейшие деятели. Секретарем Исполнительного Комитета был избран корректный и аккуратный Н. Ю. Капелинский, деятель рабочей кооперации, участник вышеописанных предреволюционных совещаний рабочих организаций и член Временного Исполнительного Комитета. Затем, с образованием правого большинства, он как будто обнаружил к нему тяготение, но ненадолго: когда политика этого большинства достаточно кристаллизировалась, а его политиканство достаточно дало себя знать, Капелинский был отброшен ими вновь налево, для неизменного пребывания на левом крыле «меньшевиков-интернационалистов».
В комиссии не были избраны другие видные деятели Исполнительного Комитета – ни Чхеидзе, изнемогавший под бременем «представительства» и истекавший торжественными речами; ни Скобелев, специализировавшийся на поездках по неблагополучным местам; ни Соколов, порхавший по всем уголкам революционного Петербурга, присутствовавший во всех закоулках одновременно и приносивший в Исполнительный Комитет сенсацию за сенсацией.
Меня в мое отсутствие почему-то назначили в комиссию по рассмотрению вопросов о выходе периодических изданий. Затем, на следующий день или, быть может, 5 марта, были дополнительно образованы две комиссии – иногородняя и законодательных предположений. Меня назначили и в ту и в другую. А кроме того, в один из этих же дней была образована крайне важная, упомянутая выше, комиссия труда, в которую я также вошел вместе с Богдановым и Гвоздевым.
Увы, ни в одной из этих комиссий я почти не работал. У меня сохранились воспоминания только о двух, максимум – трех днях «деятельности» по части выхода периодических изданий и распределения для них типографий. Пренеприятные воспоминания!
Типографии, их число, размеры, оборудование и хозяйственное положение надо было знать. Мы этого ничего не знали. Между кем и на каких основаниях распределять их? Можно ли и должно ли вытеснять из них старые печатные органы? И не угодно ли мотивировать это людям, заинтересованным как в органах, так и в типографиях?.. Сколько, наконец, газет можно поместить в каждую типографию и как поделить их, когда несколько сторон – хозяева, рабочие, газетчики, претенденты – дают противоположные показания?..
Еще хуже обстояло дело с разрешением газет, ибо я стоял за разрешение всех газет, но не имел на это права. Как обеспечить удовлетворение справедливых претензий и как установить, что ныне справедливо?.. И т. д.
Через два дня, измучившись и со всеми разругавшись, я бросил это дело, взмолившись перед Исполнительным Комитетом. Но все же дня два-три я разбирался во всем этом с осаждавшими меня представителями партийной прессы, старых газет и типографов и, ни в чем не разобравшись, подписывал всякие разрешения, запрещения и предписания.
Комиссия законодательных предположений, о которой подробная речь будет дальше, стала сразу в несколько ложное и никчемное положение и почти не работала. Не помню, посетил ли я хоть раз иногороднюю комиссию, получившую, наоборот, очень большое значение.
Но хорошо помню, что ни разу не посетил комиссию труда, где (при отсутствии министерства труда в то время) сосредоточилось все насущнейшее дело регулирования положения труда в новых условиях. Эта комиссия быстро превращалась в самостоятельное большое учреждение, в котором шла огромная непрерывная работа. Но я в ней совершенно не участвовал. Ежедневно по нескольку человек, осаждавших меня как члена комиссии, я отсылал в комнату № 7 за авторитетными разъяснениями и помощью. Но сам так ни разу и не заглянул в нее и даже, хорошо помню, не знал, где помещается комната № 7.
Такое положение дел имело довольно фундаментальные (хотя и вполне субъективные) причины. Во-первых, я сознательно не хотел зарываться в «органическую работу», имея в перспективе «Новую жизнь»: Тихонов уже где-то бегал по городу, искал денег, наводил справки в типографиях, мобилизовал журналистов и уже теребил меня, вызывая из заседаний и требуя моего участия в этой работе по организации газеты. Работы здесь предвиделось много. А во-вторых, дело было в том, что по своим настроениям, а может быть, и по натуре я обнаруживал тогда слишком мало склонности к кропотливым «органическим» трудам в учреждениях революции.
Все мои устремления и мысли были в сфере «высокой политики». Все мои усилия были направлены к тому, чтобы перескочить через все экстренные и неотложные текущие дела, как бы они ни были насущны, и наблюдать революцию с птичьего полета, рассмотреть из-за деревьев лес, обслуживать, как должно, общие проблемы, которые с такой силой, так внезапно поставила перед демократией новая жизнь… Таковы, повторяю, были мои субъективные стремления. На практике из этого выходило немного.
Да простит мне мою дерзость почтенная Клио, но я все же вспоминаю защитительную речь Карно перед героями термидора, речь, где Карно описывает работу Комитета общественного спасения и его отдельных членов. Карно свидетельствует, что эти последние разделялись на две категории: «тружеников», заваленных свыше человеческих сил текущими делами, не ведавших никакой общей политики и фактически не ответственных за нее, и «политиков», всецело определявших общее направление политики и целиком ответственных за общие мероприятия Комитета общественного спасения…
В рассказе Карно центр тяжести заключается в том, что Комитет общественного спасения имел в своем составе людей, не ответственных за его политику. Я же хочу сказать, что в нашем Исполнительном Комитете были люди, почти чуждые всякой «органической работе». И едва ли я не являлся крайним выражением этого типа.
Я принадлежал к числу тех, про кого впоследствии председатель Чхеидзе говорил, злобно косясь в мою сторону:
– У нас тут есть товарищи, которые не работают, а только приходят на предмет политического воздействия…
И сейчас среди вермишели и нудной черной работы случайного характера я был по преимуществу занят «высокими» проблемами… Революционное правительство теперь создано, общее положение демократии в революции теперь установлено, общий характер взаимоотношений между Советом и Временным правительством уже более или менее ясен. Словом, установлена и ясна общая политическая ситуация.
Но необходимо безотлагательно определить, что надлежит делать, какую линию взять Совету в этой вновь сложившейся ситуации. Было необходимо наметить линию текущей политики, наметить ряд очередных практических шагов советской демократии во внутренней политике и во внешней. Было необходимо уяснить себе, как надлежит теперь использовать уже совершившийся переворот, во-первых, для дальнейших политических и социальных завоеваний российской демократии, а во-вторых, для ликвидации войны, то есть тем самым для мирового пролетарского движения.
Но в данную минуту перед центральным советским учреждением стоял ряд важных, чисто практических вопросов, к решению которых было необходимо приступить немедленно. Ими и занялся 3 же марта Исполнительный Комитет.
Это был ряд вопросов, связанных с переходом столицы на «мирное положение». Во избежание излишней неурядицы и затруднений в хозяйственной жизни было необходимо пустить в ход все учреждения и предприятия.
Что касается правительственных учреждений и армии чиновников, то забота об их надлежащем функционировании лежала всецело на новом правительстве: на то оно и было призвано к жизни с точки зрения советской демократии, чтобы безотлагательно наладить государственную машину нового строя.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.