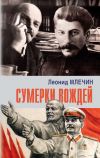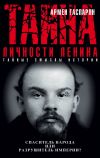Текст книги "Записки о революции"

Автор книги: Николай Суханов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 87 (всего у книги 131 страниц)
Но все это было предварительно, начерно. Вспомним, что мы ведь ждали пленума ЦИК, созванного в июльские дни для окончательного решения вопроса о власти. Правда, после июльских дней вопрос о власти был уже решен. Мало того: это решение состояло в том, что ЦИК в „неправомочном составе“ отказался от участия в высокой политике, передав все свои права кружку Керенского-Церетели. Но так или иначе депутаты, вызванные телеграммами, съезжались, и пленум должен был состояться. Его задачей – с точки зрения мудрости и добросовестности „звездной палаты“ – ныне являлось не окончательное решение политических проблем, а окончательное утверждение того факта, что отныне Совету не пристало вмешиваться в высшую политику. Собственно говоря, с точки зрения „звездной палаты“, при данных условиях пленум ЦИК был совершенно излишен: делать ему было нечего и приходилось думать о том, чем бы занять его – более или менее безобидным.
Сессия пленума открылась в воскресенье, 16-го. Белый зал был почти заполнен депутатами объединенных центральных исполнительных комитетов. В порядок же дня „звездная палата“ для начала поставила действительно безобидную тему: доклады с мест. Очень интересен, объективен и корректен был доклад меньшевика Венгерова, специалиста по военным делам, прибывшего из армии. Как и другие представители фронта, от утверждал, что армия не может ни наступать, ни воевать – совсем не по причине злонамеренной большевистской агитации, а прокламированные ныне репрессии – расстреливания, аресты, смертные казни и преследования армейских организаций – не поведут к добру… Интересны были и многие доклады из провинции. Они вскрыли картины полнейшего безвластия, разрухи и начавшегося разочарования масс; способность коалиции отвечать на требования народа одними репрессиями совсем не „спасает страну и революцию“. Провинциальные члены ЦИК принадлежали исключительно к правящему блоку, но они вкусили подлинной жизни и принуждены были силой вещей делать выводы. Они призывали Совет к твердости, а массы к сплочению вокруг него… „Звездной палате“ слышать все это было не особенно по вкусу. Такой пленум был решительно ни к чему.
Но доклады с мест были не более как интермедией. Центральным пунктом был все-таки вопрос о власти, который снять было нельзя. Вопрос этот был поставлен на следующий день при столь же торжественной обстановке и переполненных хорах… Подходя к Таврическому дворцу, у самых ступеней портика, в том самом месте, где ровно две недели назад сидел в автомобиле арестованный Чернов, я встретил Троцкого, также идущего в заседание. Я от души обрадовался этой встрече и не преминул тут же высказать мое удовольствие: исчезновение Троцкого в течение послеиюльских дней, особенно после его письма (от 10 июля), меня шокировало и удивляло… Троцкий в ответ на мои приветствия сделал вид, что появлению его нечего придавать значение, так как оно в порядке вещей.
Заседание, однако, не представляло ни малейшего интереса. Характерны были разве только отдельные штришки… Несмотря на то что все ожидали обсуждения вопроса о власти, Чхеидзе предоставил слово Дану „для доклада о событиях 3–5 июля“. Я потребовал сначала дать мне слово „к порядку“. В запальчивом и раздраженном стиле я настаивал, чтобы вместо доклада об июльских днях гг. министры в первую голову дали пленуму отчеты и, в частности, поведали бы нам о том, какие эксперименты проделываются в Мариинском дворце над созданием революционного правительства…
На крайней правой зала стоял взволнованный Троцкий, который потребовал слова против моего предложения. Было очевидно, что ему надо просто занять трибуну – для своих целей. Чхеидзе, не дав Троцкому слова, заявил в ответ мне ледяным тоном, что гг. министры выступят в общем порядке, когда они того пожелают, а собрание подняло руки.
Затем экономический отдел ЦИК усиленно хлопотал перед президиумом о том, чтобы его представителю, правому меньшевику Череванину, было предоставлено в пленуме слово для доклада об угрожающем экономическом положении страны. Доклад лояльнейшего сторонника Церетели должен был заключать в себе некоторые разоблачения действий клики Керенского; кроме того, экономический отдел, как мы знаем, вообще „не понимал линии Совета“, будучи подозрительным по своему критическому направлению. И Череванину слова не дали.
Наконец Мартов от имени фракции меньшевиков-интернационалистов после немногих, но ярких вступительных слов внес резолюцию об отмене смертной казни. Резолюцию сняли, как неуместную в данном заседании. Предложили обсудить этот вопрос сначала по фракциям.
В докладе Дана и в последующих речах июльские события перепутались с проблемой власти, а травля большевиков – с акафистами коалиции. Был блестящ Мартов и совершенно неистов Либер. Но останавливаться на всем этом решительно не стоит. Возвращение Церетели к защите смертной казни и прочих „суровых мер борьбы с анархией“ уже не вносило ныне ничего нового. Не любопытна и резолюция, объединившая в себе все предыдущие послеиюльские резолюции ЦИК – о „спасении революции“, о большевиках и анархии, о неограниченных полномочиях и коалиции живых сил.
Следует упомянуть разве только о добавлении к этой резолюции, которое был вынужден принять пленум после докладов армейских делегатов: констатируя, что под предлогом восстановления военной дисциплины делаются попытки разрушить армейские организации, ЦИК предлагает не допускать таких попыток и призывает сплачиваться вокруг Советов всех рабочих, солдат и крестьян…
Любопытно было также эпизодическое выступление Троцкого. Взяв слово по существу обсуждаемого вопроса (точно неизвестно – какого), Троцкий вернулся к делам июльских дней. Читатель помнит мою личную версию в четвертой книге, а потому я приведу его слова без всяких комментариев.
– Неправда, – говорил Троцкий, – что большевики организовали выступление 3 и 4 июля. Накануне, 2-го числа, я на митинге удерживал пулеметчиков от выступления и на других митингах я говорил то же. Единственным нашим лозунгом был „Вся власть Советам!“. Это говорили мы тогда, это я говорю и теперь. Но к вооруженным выступлениям, к авантюрам мы не звали… Когда кадеты вышли из министерства, чья-то преступная рука инсценировала попытку ареста Керенского и Чернова (крики с мест: „Это сделали кронштадтцы, краса и гордость революции!“)… Кто присутствовал при этой попытке, тот знает, что ни рабочие, ни матросы не видели и не слыхали того, что происходило у колонн Таврического дворца. А именно – у колонн находилась кучка негодяев и черносотенцев, которые пытались арестовать Чернова. И еще раньше, чем они пытались это сделать, я говорил Луначарскому, указывая на них: вот это – провокаторы (Луначарский с места: „Верно!“). И на этой клевете строится 3/4 всей конструкции этого якобы вооруженного восстания… Ведь не было ни попытки со стороны демонстрантов захватить какой-либо стратегический пункт или политический центр. О восстании тут говорить не приходится… Создается невыносимая атмосфера, в которой вы так же задохнетесь, как и мы. Я говорю об атмосфере клеветнических обвинений (голоса: „Правильные обвинения!“). Здесь, в зале, есть люди, бросающие обвинения Ленину и Зиновьеву в том, что они – наемники Вильгельма. Ленину, революционеру, всей жизнью своей доказавшему свою преданность пролетарскому делу! Дело революционной диктатуры – расправиться с большевистскими вождями, если они совершили преступление против революции. Но не позволяйте в этом учреждении говорить об их подкупности. Ибо это голос подлости…
Троцкого так или иначе дослушали до конца. И то хорошо. Но в общем центральный день пленума, конечно, ничего не внес в наличную конъюнктуру. В общем он подтвердил Керенскому и „звездной палате“: чего изволите… это было в тот самый день, когда Керенский – где-то там, в неведомых сферах – признал „приемлемыми“ условия контрреволюционных кадетов, коих он призывал володеть революцией.
В общем пленум ЦИК тут ничего нового не дал. Но в частности кое-что дал. В речах провинциальных людей слышны были весьма „вольные“ и протестующие ноты. Они, как мы видели, даже склонили большинство к довольно дерзкой – специальной резолюции, защищающей армейские комитеты… Но и в основной резолюции имеется место, где определенно подчеркивается, что соглашение с буржуазией возможно только на почве последовательно проводимой программы 8 июля… О, правда, это немного! Это значит только то, что полномочный орган демократии еще имеет какое-то свое мнение насчет „комбинаций“ премьер-министра. Из этого ровно ничего не следует, и „полномочного“ Керенского это ровно ни к чему не обязывает. Но нельзя сказать все же, что это мнение ЦИК, выработанное на фракционных заседаниях, силами партийной оппозиции прямоскачущему министру Церетели, – ни к чему не обязывало самого Церетели. Его это партийно-советское постановление все же обязывало. И, очевидно, этим-то и объясняется его выступление перед журналистами с выше цитированным заявлением: заявление это, как мы знаем, всунуло палку в колесницу премьерских „комбинаций“ и произвело смуту в рядах почтенных контрагентов Керенского.
Но пленум ЦИК продолжал и дальше чуть-чуть портить обедню премьера и его камарильи.
Со следующего дня, с 18-го числа, Временное правительство обосновалось, как мы знаем, в Зимнем дворце, а первый министр там и поселился. С этого же дня и ЦИК начал понемногу перебираться из Таврического в Смольный…
После долгих поисков резиденции для будущего Учредительного собрания пришлось остановиться на том же Таврическом дворце. Но он нуждался в большом ремонте, а, в частности, Белый зал не мог вместить всего предполагаемого состава „конституанты“, исчисляемого примерно в 1000 человек. Дворец поэтому нуждался в перестройке, которая была поручена архитектору Щуко. Родзянко же, доселе мнивший себя здесь хозяином и льстивший себя надеждами на фактическое восстановление в правах, уже давно и не без ехидства заявлял в печати, что Таврический дворец „необходимо нуждается в ремонте и дезинфекции“…
Хозяйственные люди ЦИК уже давно подыскивали подходящее помещение для центрального советского органа. Это было нелегко. И в конце концов Н. Д. Соколов, который взялся за это дело, остановился на Смольном институте, ныне эвакуированном от благородных девиц. Туда предстояло перенести центр русской и мировой революции. И с 18-го числа туда уже начали переезжать некоторые отделы… Мне было очень жаль расставаться с Таврическим дворцом.
В этот день на шесть часов вечера было назначено следующее заседание пленума. Но оно не состоялось. Оппозиционные настроения внутриправящих фракций дали себя знать; провинциалы и фронтовики „мутили“ заскорузлую столичную публику, терроризированную июльскими днями, а в частности и в особенности фракциям задала работу резолюция нашей группы, внесенная накануне Мартовым, резолюция об отмене смертной казни. Во всяком случае, фракционные заседания к шести часам не окончились и продолжались до глубокой ночи.
Я, конечно, не участвовал в работе „лабораторий“ меньшевистско-эсеровского блока. Но целый день в Таврическом дворце передавали сенсации о заседаниях фракций. Речи говорились и о власти, и об общей политике, и о частных вопросах, особенно задевших сознание партийных масс. Много времени занял опять вопрос о Государственной думе: я уже упоминал, что в эти дни происходили ее „частные совещания“ с откровенно контрреволюционными, неслыханно разнузданными речами. Пуришкевич именовал „полномочный орган демократии“ шайкой проходимцев, фанатиков и немецких агентов, называвших себя „Исполнительным Комитетом“, а остальные восклицали зычным хором: разогнать все Советы и комитеты!..
Этого решительно не мог вынести слух даже лояльных элементов блока. И говорили, будто бы фракции на этом пункте раскололись: одни требовали немедленных решительных мер против своры Родзянки (против этого источника вдохновения Керенского), а другие, во главе с Гоцем и Церетели, требовали умеренности, воздержания, выжидательной позиции. Эти – ничего, выносили.
Но желание – отец мысли, а оппозиционное раздражение – отец политических разногласий. К вечеру в кулуарах говорили, что обе руководящие фракции раскололись и по вопросу о смертной казни. Это было серьезнее. Во-первых, казалось бы, что это средство спасения от Вильгельма должно было объединить в восторженных чувствах всех „патриотов“, то есть межеумков и обывателей советского блока: это была линия очень большого сопротивления для советской крамолы. Во-вторых же, это дело, в случае капитуляции ЦИК перед Мартовым, ставило в невыносимое положение „звездную палату“ и всю коалицию: ведь Церетели с похвальной храбростью так громогласно афишировал себя защитником смертной казни и, надо сказать, уже взял все это дело на себя… При таких условиях хлопот было много.
„Звездная палата“ делала, что могла: она затягивала дело, разлагая боевое настроение в атмосфере бездействия и нудной толчеи. В Таврическом дворце было возбуждение и даже летучие митинги, как в большие дни. Но заседание все не назначалось; оно так и не состоялось – не только 18-го, но и 19-го, до позднего вечера.
А тем временем, испытывая неожиданное давление (и от кого же? – от ею же вызванного духа! от ею же созванного пленума!), „звездная палата“ видела себя вынужденной оказать, со своей стороны, давление на министра-президента… Конечно, ни с отменой смертной казни, ни с разгоном Государственной думы нечего было соваться к Керенскому. Но приходилось почтительнейше доложить, что если не сделать каких ни на есть уступок, если, скажем, продолжать самодержавную вакханалию с портфелями, если полностью удовлетворить кадетскую контрреволюцию и формально отказаться от только что подписанной программы 8 июля – то кто знает, что может случиться в результате? Вон ведь что говорят провинциалы и фронтовики! Вон северный областной съезд Советов два-три дня назад вынес прямое порицание ЦИК за капитуляцию перед буржуазией! Ведь если так пойдет дальше, то советский блок может расшататься. А ведь за советским блоком, в руках которого – имя Совета, по-прежнему стоит и вся реальная сила, и армия, и крестьянство, и рабочие массы. Ведь все они шли в сторону большевиков именно в силу ненависти к политике коалиции. Теперь большевики притаились. Но кто знает?.. Кто знает, не придется ли и впрямь… отменить смертную казнь и распустить Думу, если будет продолжаться так, как теперь.
Эти мысли, собственно, не были новы для „звездной палаты“ и до пленума. Мы знаем, что в ее собственной среде завелась некая „левая“ – в образе, главным образом, Дана. Начав свою линию с 6 июля, Дан продолжал ее до сих пор. Это видно хотя бы и по передовицам советских „Известий“ того времени. В моменты самого дикого разгула репрессий их редактор обращал свои стрелы направо и протестовал против дальнейшей капитуляции… Но Дан был в меньшинстве (если не в единственном числе) в „звездной палате“. После эфемерного успеха, достигнутого при помощи Керенского в тот момент, когда тому надо было устранить Львова, Дан был уже бессилен в своей крохоборской борьбе. И только сейчас, после давления пленума, „звездная палата“ была вынуждена заговорить с Керенским языком Дана.
Разговоры эти начались после того, как Керенский обещал удовлетворить кадетов, отказавшись от программы 8 июля, и продолжались в течение суток – до вечера 19-го числа. Но, как мы знаем, в течение этого срока разговоры ни к каким результатам не привели. Не таков был Керенский. О, этот человек был тверд как камень! Раз он сказал, что будет отвечать только перед своим разумом и совестью, то с этого его уж не сдвинешь! Раз он так сказал, то уж он никого не станет слушать – кроме Милюкова и Родзянки.
Заседание пленума возобновилось только в среду, 19-го, в 10 часов вечера. „Звездной палаты“ налицо не было. Гоц, Церетели, Дан были, очевидно, заняты в Зимнем… Но какой же порядок дня? Вероятно – смертная казнь?..
О нет, это дело было замазано, затерто и снято с очереди. Но зато пленуму было дано „удовлетворение“: в порядок дня были поставлены отчеты министров-социалистов. Правда, это не были политические отчеты. Если бы было так, то сюда бы включался и вопрос о смертной казни и о репрессиях, и о финляндском сейме, и обо всем том, что составляло сущность контрреволюционной политики второй коалиции. Обо всем этом должен был бы докладывать если не министр-президент, то, по крайней мере, министр внутренних дел. Однако доклада Церетели, которого не было налицо, совсем не предполагалось. Налицо были „экономист“ Скобелев, продовольственник Пешехонов и селянский Чернов. Ясно, что „отчеты“ должны быть не политические, а „органические“ … Но все же это были „отчеты“, которые пригодились, чтобы заткнуть рот расходившейся оппозиции. В тонкостях разбираться не к чему.
По поводу этих отчетов в заседании 19 июля будет небесполезно отметить в двух словах, как обстоит дело с творческой революционной работой второй коалиции, далеко ли подвинула она осуществление программы революции на трех ее основных фронтах: земли, хлеба и мира, a priori это, конечно, вполне ясно. Но зачем же произносить приговор на основании априорных умозаключений?
Чернов был встречен бурной овацией большинства. И говорил он в весьма свободном, оппозиционном тоне, косвенно направляя стрелы против правительства, а прямо и решительно – против кадетов. Чернову на этот раз было чем похвастаться. На фронте земли, при второй коалиции, за демократией числилась победа: 14-го числа как-то совершенно внезапно был наконец принят правительством декрет о запрещении земельных сделок без разрешения земельных комитетов и без утверждения министра земледелия. Это была действительно победа; это был акт, который был предметом вожделений, борьбы и волнений огромных крестьянских масс; это было ближайшее требование Совета. И коалиция наконец пошла на эту уступку ужасному Чернову…
Как и почему это случилось, мне неизвестно. Правда, не только советские министры, но и эсер Керенский уже давно и публично обещал этот акт. Быть может, взамен покорности и прижима большевиков он согласился выбросить эту подачку. Но это было тем более неожиданно, что друг Керенского, новый министр юстиции Ефремов, только что успокоил помещичьи сферы, заявив себя решительным противником проекта о земельных сделках. Послеиюльская пресса встретила это с полным „удовлетворением“.
Но тем более негодовала, рвала и метала она теперь… Разве это не дневной грабеж? Необходима немедленная и полная сатисфакция!.. Разумеется, надо сейчас-де устранить Чернова. Да ведь он же участвовал и в циммервальдских конференциях! Он же пораженец! И трудно, очень трудно, даже совсем немыслимо здравому рассудку поверить, что Чернов… ну, если не за деньги, как Ленин, то будто бы не на службе, или если и не на службе, то будто бы не агент… ну, а если и не агент, то не пособник или не сторонник, – ну, словом, не верный слуга Вильгельма… Особенно тщательные исследования на этот счет, в самых великосветских выражениях, производились на „совещаниях Государственной думы“. А так как создание министерства полномочным Керенским было кровным делом Родзянки, то ясно, что как бы там ни говорили официальные кадетские органы, но общественное мнение России решительно не может претерпеть Чернова в министерстве.
Победителю Чернову ничего не оставалось, как пускать в эти сферы парфянские стрелы из пленума ЦИК… Как-никак, но ему на этот раз было чем похвастаться. Вопрос только вот в чем: какова будет судьба вожделенного декрета? Это определялось весом земельных комитетов на местах. И вот именно сейчас поступили сведения о том, что в провинции, после июльских дней, начались аресты земельных комитетов агентами коалиции… В „органической работе“ первого кабинета Керенского, видимо, надо строго различать теорию и практику.
Чернов же на трибуне ЦИК имел большой успех. Его и проводили, как встретили, большой овацией.
На фронте хлеба, как мы знаем, должна была производиться двоякая работа: во-первых, собственно продовольственная – по проведению хлебной монополии, по усовершенствованию продовольственного аппарата и, во-вторых, общехозяйственная – на основе известной нам программы Исполнительного Комитета 16 мая… О чисто продовольственных делах докладывал министр Пешехонов, который с первого же слова объявил положение угрожающим. Об этом писали и говорили очень много. Армия уже давно перебивалась кое-как, и огромное дезертирство было в огромной степени связано именно с голодом. На местах начинались голодные беспорядки. Снабжение крупных центров падало день ото дня. Рынки быстро пустели и требовали бешеных средств, которые имелись только у буржуазии. Карточный же паек уже был вполне голодным. В Петербурге он равнялся тогда для лиц, занятых физическим трудом: хлеба 11/2 фунта в день, крупы 3 фунта в месяц, мяса 1 фунт в неделю, масла 3/8 фунта в неделю и 5 яиц в неделю. Но опять-таки это была только теория, которая далеко не совпадала с практикой.
Что же надо было делать? Как думал помочь, что проектировал, над чем работал советский министр Пешехонов?.. Он требовал „не только твердой, но и единой власти“, которая справилась бы с анархией и прекратила бы законодательство на местах. Иных проектов ЦИК не услышал.
– Вы знаете, – говорил Пешехонов, – какая опасность кроется в расстройстве хозяйственной жизни страны. При крайне неуравновешенном состоянии народной психики, при склонности масс поддаваться демагогическим призывам нам угрожает серьезнейшая опасность: не давая хлеба, крестьяне во многих местах начинают упрекать Временное правительство в неумении организовать народное хозяйство. При таких условиях мы можем прийти к катастрофе.
Я привел эти слова не для полемики, а для характеристики советской делегации» в министерстве. Комментировать тут нечего… На самом деле ясно, что делу могло помочь только решительное вмешательство государства, но осуществить его не только не умела, но и не хотела вторая коалиция. В этом направлении не было сделано по-прежнему ровно ничего реального. Поговаривали о разных монополиях и взятиях под контроль. Но эти разговоры с избытком компенсировались жесточайшей травлей против самой идеи «регулирования». Вбивая осиновый кол в программу 16 мая, вся буржуазия хором вопила о «свободе». А ведь теперь в министры снова протискивались биржевые тузы; тут было действительно не до «регулирования».
Правда, на этих днях предполагалось открытие Экономического совета… Не знаю, какими судьбами в состав советского представительства были включены Рязанов и я (всего было четверо или пятеро, но кто были остальные – не помню). 21 июля мы отправились на открытие в Мариинский дворец. В довольно торжественной обстановке премьер Керенский произнес довольно невразумительную, но очень «благожелательную» речь, в которой без надлежащего повода подчеркивал, что государственное управление отныне будет все более сосредоточиваться в одних (конечно, его собственных) руках, каковым фактом не следует смущаться… Но Керенский не пояснил, не следует ли этому смеяться.
Почтив рукопожатием каждого из присутствующих, министр-президент оставил председательствовать Прокоповича, а сам удалился к себе в Зимний дворец. Первое заседание Экономического совета было, конечно, посвящено организационным мелочам и привычным, пугающим докладам о критическом положении страны, особенно транспорта. Дальше началась академическая говорильня, которая демонстрировала практическую беспомощность. Никаких сомнений быть не могло: в наличной общей конъюнктуре это учреждение было ни к чему. Ни о каком «регулировании» не могло быть и речи. Теперь шел уже не саботаж, а прямое искоренение революции.
Как далеко ушло у нас дело с «организацией народного хозяйства и труда», недурно иллюстрирует и такой факт. Разговоры на эти темы в правительственных учреждениях направлялись, главным образом, в сторону организации снабжения деревни, которая без этого перестает давать хлеб. Но так как это дело было безнадежно, а деревня вопила, то селянский министр Чернов напал на плодотворную мысль: устроить « железный день» для деревни. Чернов объявил, чтобы все, кому дороги интересы отечества, несли в такой-то день, в указанное место гвозди, подковы, дверные скобки и всякий железный хлам. Все это для нужд деревни!.. Вот это и было «регулирование промышленности».
В заседании пленума ЦИК 19 июля было наконец предоставлено слово на эту тему докладчику экономического отдела, меньшевику Череванину. Докладчик при всей своей лояльности коалиции был вынужден придать своему выступлению форму «запроса», обращенного к правительству. И действительно, он раскрыл перед ЦИК удручающую картину. Он рассказал, как ввиду явного саботажа коалиционной власти неизбежный в революции процесс регулирования хозяйственной жизни силою вещей переходит к самочинным демократическим органам. Это – организация снабжения, которое создается на местах приблизительно по одному типу, слагаясь мало-помалу в довольно стройную систему. Однако эта творческая деятельность демократии встречает активное противодействие со стороны правительства, главным образом в лице члена министерства г. Пальчинского.
Этот господин, один из преданнейших и способнейших наемников российского организованного капитала, являлся в те времена главным воротилой коалиционной экономической политики. Занимая одновременно несколько важнейших должностей, он продолжал политику царского режима и расхищения народных производительных сил. Под его давлением Экономический комитет (исполнительный орган Экономического совета) в первом же своем заседании отказался утвердить Московский районный комитет снабжения, который уже успел предотвратить развал металлургической и текстильной промышленности Московского района… Между прочим, в качестве руководителя важнейшего учреждения по топливу (Осотоп) Пальчинский держался с таким цинизмом по отношению к демократическим организациям, что из этого учреждения принуждены были уйти не только представители Совета, но и делегаты старых земств и городов (Земгор); но зато в нем остались представители Государственной думы и Государственного совета…
Докладчик экономического отдела предлагал пленуму ЦИК обратиться с запросом к министрам-социалистам: намерены ли они терпеть дальше такое положение дел и принимают ли они меры к решительному пресечению деятельности г. Пальчинского?
Правому меньшевику Череванину отвечал его товарищ по партии, большой экономист и притом циммервальдец, министр труда Скобелев. Не в пример интерпеллянту, он утверждал, что Временное правительство относится к демократии вполне благожелательно; но, конечно, самочинных действий оно признать не может; надо подождать, пока Экономический совет выработает общие положения и общегосударственные законы. Надо подождать… Спасение же в сильной власти. Да, ни в чем ином. И демократия это поймет и коалицию поддержит…
Так обстояло дело на втором главнейшем внутреннем фронте. Прибавлять тут нечего. Разве только присовокупить случайно попавшуюся сейчас на глаза газетную заметку: того же 19-го числа Гоц на Невском судостроительном заводе призывал рабочих подписываться на «заем свободы». Вот это реальное дело для государства!
В пленуме ЦИК не было доклада о нашей внешней политике, о революционной политике мира: дипломатия не была уделом «подотчетного» министра-социалиста и находилась в руках Терещенки. Но все же посмотрим, кстати, что происходило при второй коалиции на этом самом важном из всех фронтов.
Можно ли сомневаться в том, что для мира теперь ни правительством, ни Советом не делалось ровно ничего. Теперь о мире даже не говорили — хотя бы в тех лживых словах, которых так много произносили раньше. За более важными делами теперь забыли о мире. Вся послеиюльская обстановка способствовала тому, что говорили теперь не о мире, а о войне «в согласии с доблестными союзниками»…
Вся советская работа для мира выражалась ныне разве только в деятельности советских делегатов за границей. В то время они находились в прекрасной Франции, где газеты травили их, как свора собак. На родине революций им приходилось более туго, чем где-либо. Правда, их принимали, с ними заседали на банкетах разные высокопоставленные лица. Но, разумеется, ни о каких дипломатических успехах тут не могло быть речи. В вялых трафаретных репликах, в набивших оскомину формулах о борьбе за право и справедливость французские правители «отводили» все «представления» русских пацифистов. Все их предварительные дипломатические открещивания от сепаратного мира решительно не помогали делу…
Конечно, делегаты, собственно, не для того и приехали, чтобы кривя душой поставить международных пиратов «на точку зрения русской революции». Конечно, настоящий сферой их воздействия были социалисты. Но и здесь, при всем своем щедро проявленном оппортунизме, наши делегаты добились не многого. Все их усилия были направлены, собственно, в одну точку: на Стокгольмскую конференцию. Французская социалистическая партия, как мы знаем, согласилась участвовать в ней. Но из этого ровно ничего не последовало. Ведь правители ее не желали, а действительной борьбы не велось… На этих днях Стокгольмская конференция была снова «окончательно» назначена на 27 августа.
Борьба же не велась в Европе прежде всего потому, что русская революция, этот самый могучий фактор мира, уже была в качестве такового ликвидирована до конца. Перед лицом мирового империализма дело обстояло теперь так, как будто в России незыблемо стоит до сих пор царское самодержавие. Русское наступление, смертельно ранив развернувшееся европейское движение в пользу мира, подвело незыблемый фундамент под будущие «Брест» и «Версаль»…
Именно в половине июля состоялась союзная «конференция по балканским делам», давно рекламированная Церетели. Разумеется, к миру она не имела ни малейшего отношения и о мире там не было сказано ни одного слова. Порок уже открыто отказался платить дань добродетели. Но, если угодно, я продемонстрирую, как на «балканской» конференции говорили о войне. «Перед закрытием конференции, – сообщало агентство Гаваса, – члены ее сочли нужным сделать следующее единодушное заявление: союзные державы ныне объединены теснее, чем когда-либо, для защиты прав народов, в особенности на Балканском полуострове, и решили сложить оружие лишь тогда, когда будет достигнута цель, по их мнению, господствующая над всеми другими целями, то есть сделать невозможным повторение преступных нападений, вроде того, ответственность за которое падает на империализм центральных империй»… Когда международные разбойники и убийцы так говорили в 1914 году, это было еще полгоря. Но сейчас, после русской революции, это была катастрофа.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.