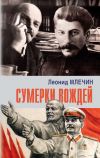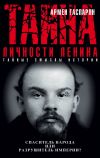Текст книги "Записки о революции"

Автор книги: Николай Суханов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 36 (всего у книги 131 страниц)
Мне было скучно и немного забавно. Но я не придал всему этому значения… Другие посмотрели не так. Уже в первом часу ночи, как только кончил Стеклов, нас созвали на экстренное заседание Исполнительного Комитета. Не помню, кто именно, основываясь на полной неудовлетворительности доклада, потребовал вторичного доклада на ту же тему от имени Исполнительного Комитета под видом содоклада. Это встретило сочувствие, но вызвало протесты Стеклова и требования с его стороны «предъявить доказательства».
Долго препирались насчет ценности стекловского выступления и наконец постановили: назначить на завтра содоклад. Большевики, прельстившись «контрреволюцией» и ожидая худшего, чем ноль, голосовали против… Но кто же сделает содоклад? Не могу сказать, по чьей инициативе, но было постановлено поручить это мне.
Меня это совершенно не устраивало. Во-первых, было несколько неудобно перед Стекловым, хотя его доклад я признавал неудовлетворительным и высказал это в заседании. Во-вторых, для меня было ясно, что я ни в каком случае не могу ныне выразить взгляды Исполнительного Комитета, от имени которого приходилось выступать. Большевики в данном случае едва ли имели основание особенно опасаться… Но делать было нечего: других кандидатов не обнаруживалось, было поздно, я обещал завтра утром представить тезисы.
– Что вы сидите, как будто вас к смерти приговорили. – закричал мне Богданов, видя меня в удрученном состоянии, – ведь вас в люди выводят!..
Выводят в люди? Об этом. признаться, у меня не было никаких мыслей. Честолюбие и т. п. я себе, вообще говоря, далеко не считаю чуждым. Но применительно к такого рода выступлениям мне почему-то не приходило никогда в голову, что Богданов был прав. Единственный раз я стремился выступить в Совете: это было 14 марта. А затем я всегда был скорее не прочь уклониться, чем пользоваться (довольно легкой) возможностью мозолить глаза на трибуне… И сейчас меня не «сагитировал» Богданов. Я с удовольствием уступил бы ему честь завтрашнего содоклада.
Мне снова пришлось выйти вместе с Церетели из Таврического дворца. Я стал говорить ему о ложности моего положения в качестве докладчика Исполнительного Комитета… Я сказал ему несколько слов к характеристике моей левой позиции по отношению к Временному правительству. Но Церетели перебил меня словами:
– Вы, конечно, должны говорить о необходимости соглашения с буржуазией. Другой позиции и другого пути для революции быть не может. Ведь вся сила у нас. Правительство уйдет по мановению нашей руки. Но тогда погибель для революции.
Я ручаюсь, что передаю смысл реплики совершенно точно, а может быть, буквально. Разумеется, для меня это все было ни в какой мере не приемлемо. Но интересно сейчас было не это. Нет, куда идет и куда ведет этот злосчастный «циммервальдец», эта поистине роковая фигура революции?..
Утром 31-го я явился в Исполнительный Комитет с моими тезисами, заведомо безнадежными. Тезисы были таковы: Временное правительство – классовый орган буржуазии, Совет – классовый орган демократии, мелкобуржуазной и пролетарской; отношения между этими органами вытекают из законов истории и из фактически сложившегося положения дел в революции: это отношения классовой борьбы между Советом и Временным правительством; таковая борьба фактически происходит и должна происходить впредь, в ней сущность сложившихся и должных взаимоотношений; борьба вытекает из самого факта развертывания демократической программы, из самого факта расширения революционных завоеваний; формы же этой борьбы в данный момент не должны быть направлены к прямой ликвидации существующего правительства, а должны выражаться в давлении, контроле и мобилизации сил.
Я показал тезисы Каменеву, который их в общем одобрил. Затем показал Церетели, который решительно отверг их, как выражающие взгляды меньшинства. Собрали кое-как летучее заседание и большинством голосов постановили – предоставить мне с моими тезисами выступить в качестве очередного оратора, но не в качестве докладчика Исполнительного Комитета… Я записался в качестве очередного оратора.
Прения продолжались долго и носили несколько иной характер, чем прения о войне. Для разжигания шовинизма здесь почва была куда менее благоприятна, и, наоборот, здесь открылось поле для классового инстинкта всех менее сознательных элементов. Ораторы левой с успехом били в точку подозрительности по отношению к правительству враждебного класса и в точку сплочения вокруг «собственных» Советов. Скоро стало ясно, что равнодействующая идет левее резолюции Исполнительного Комитета.
Хорошо выступал Каменев, призывавший отнюдь не к «свержению», а к «недоверию» и сплочению. И снова забирал вправо Церетели, говоря о «необходимости соглашения с буржуазией» и спускаясь уже до очень низких ступеней оппортунистской… тривиальности, вроде: «Разум народа понял, что демократическая республика есть та общая платформа, которая может объединить и пролетариат, и буржуазные классы. На этот путь соглашения и стала буржуазия…» Взяв под защиту кабинет Гучкова – Милюкова, Церетели стремился резко отграничить его деятельность от иных, особых, действительно зловредных, безответственных кругов буржуазии. Эти безответственные круги действительно подкапываются под народное дело, натравливают солдат на рабочих и т. д. Но правительство с ними борется и идет навстречу демократии даже во внешней политике… «Нельзя рассматривать Временное правительство как группу людей, преследующих классовые интересы… Должно быть общенародное единство воли, ибо когда между пролетариатом с его Советами и буржуазией в лице Временного правительства возникнет конфликт, то тогда общенародное дело погибнет». У нас есть комиссия для «установления контакта с Временным правительством, и не было случая, чтобы в важных вопросах правительство не шло на соглашение…».
Не правда ли, достаточно далеко зашел этот человек в дебри «соглашательского», слепого шовинизма на другой же день после своего появления, еще в марте месяце, еще на первых порах, при свежих силах революции, когда даже серая мужицко-обывательская масса сохраняла энтузиазм и остатки боевого духа? Мы должны отметить эти выступления Церетели – они в дальнейшем пригодятся нам.
Но сейчас делегатская масса действительно еще шла впереди Церетели. Общественное мнение съезда определилось в пользу согласительной резолюции по равнодействующей выступлений. Заработала межфракционная согласительная комиссия, затем долго и бурно заседали фракции, и наконец создали платформу, объединившую весь съезд…
В качестве внефракционного человека я только случайно зашел в некоторые фракции. В маленьких комнатах была давка, шум и бестолочь… Насколько помню, был момент совместного заседания двух фракций: меньшевиков и эсеров. Если я в этом ошибаюсь, то не ошибаюсь в том, что между этими фракциями было достигнуто предварительное соглашение насчет резолюции. Этим было положено начало знаменитому советскому блоку – меньшевиков и эсеров, державшему в руках всю советскую политику, всю судьбу революции в течение многих месяцев, державшему крепко и не желавшему выпускать даже тогда, когда руки стали совсем слабы, омертвели и готовы были рассыпаться в прах от ничтожного порыва ветра.
А вместе с тем сообщали о том, что два дня назад был заключен и другой блок – между всеми «народническими» фракциями в советских органах: эсерами, энесами и трудовиками. Если эсеры до сих пор представляли крестьянство, то отныне они слились воедино с заведомо буржуазными группами. Вся правая Исполнительного Комитета от энесов до меньшевиков включительно отныне, стало быть, представляла собой единое целое. Налево оставались большевики, внефракционные единицы и меньшевики-интернационалисты, сохранявшие свободу действий.
С другой стороны, на совещании впервые выступал оратор от левой части эсеров и солидаризировался с Каменевым. Не был ли это «циммервальдец» Гоц?.. Нет, этот лидер эсеров сначала выжидательно помалкивал в Исполнительном Комитете, пока Александрович направо и налево агитировал за него, всячески его со своей стороны выдвигая и проводя в разные комиссии. Но скоро Александрович сильно охладел к этому делу и злобно отмахивался, ворча какие-то ругательства, когда его, дразня, спрашивали про Гоца… Вероятно, Гоц хлопотал о «народническом блоке», а не о левой части эсеров.
Зато Александрович, грозя на ходу кулаком, радостно крикнул мне:
– Камков приехал! Вот теперь…
Из-за границы действительно появился будущий лидер левых эсеров Камков. Он и выступал от левой части на совещании. Эсеры-интернационалисты, уже задавленные «мартовскими людьми», воссоздали свою ячейку. В Исполнительном Комитете у них, однако, по-прежнему был один Александрович.
В прениях о Временном правительстве с достаточной рельефностью проявилось течение в пользу образования коалиционного правительства. Особенно хлопотали об этом правые народники (Брамсон), которые даже собирали подписи о том, чтобы вопрос о коалиции был немедленно поставлен в порядок дня совещания. Но в конце концов из этого ничего не вышло. Не созрело… А Чхеидзе, как огня боявшийся, всякой «министериабельности», даже устроил скандал энергичным коалиционистам за попытку дезорганизации съезда.
Резолюция согласительной комиссии была наконец одобрена фракциями и была поставлена на голосование в пленуме. Стороны, сняв свои собственные резолюции, в двух словах комментировали свое отношение к ней и говорили о сладости компромисса во имя единения. Каменев заявил, что он счастлив голосовать за единую резолюцию… Ни одного не было против. Торжественные аплодисменты покрыли этот вотум – единственный в советской истории.
Я не присутствовал во время голосования. А потом попрекал Каменева:
– Как же вы допустили, что в этой резолюции нет никаких указаний на классовый характер существующей власти? Ведь на это было указано даже в первой резолюции Исполнительного Комитета. И как же вы не внесли поправки насчет признания законности борьбы?..
Каменев махнул рукой… Конечно, это было неважно.
Вечером 31-го заседания не было… В этот вечер приезжал Плеханов. Исполнительный Комитет организовал торжественную встречу, и большинство почтенных лиц – участников совещания должно было участвовать в ней. Вместо обычной работы совещания в этот вечер был устроен род встречи между провинциально-фронтовыми делегатами и Петербургским Советом – торжественное заседание в Народном доме, куда должен был прибыть с вокзала и Плеханов.
Я не поехал на вокзал, не знаю хорошо почему, но весьма возможно, что это было на «фракционной» подпочве: я довольно неприязненно смотрел на приезд Плеханова, опасаясь его вредной роли в будущих событиях. Я не сомневался, что он будет играть в них роль достойную его – и количественно и качественно. Вообще, я мог как угодно высоко ценить Плеханова, но чувствовал себя чуждым сегодняшнему торжеству.
Я отправился прямо в Народный дом и застал там печальную картину. Необъятный полутемный зрительный зал имел пустынный вид: весь Совет, вместе с потонувшими в нем членами совещания, разместился в огромном партере, амфитеатре и бельэтаже. В президиуме же, на сцене, сидело несколько человек – безымянных солдат из Исполнительного Комитета, которые и руководили собранием.
Говорились приветствия из провинции – бесконечный ряд. Они всем невыносимо надоели, но собранию было нечего делать, и председательствовавший солдат вызывал все новых ораторов, спрашивал, нет ли новых желающих сказать приветствие Петербургскому Совету. Было удручающее впечатление полной заброшенности Совета его руководителями. Не было налицо ни президиума, ни обычных его заместителей из Исполнительного Комитета, не было никаких докладчиков, ни порядка дня. Была масса, предоставленная самой себе, но, естественно, лишенная инициативы в силу существования у нее присяжных, на то избранных, к тому приставленных руководителей. Были низы – без начальства, где-то наверху делающего свои какие-то дела.
И такое настроение начинало кристаллизоваться в Совете, изнемогающем от тоски и нелепости положения. Начались нетерпеливые возгласы, выкрики против Исполнительного Комитета. Кто же и зачем призвал сюда их, занятых людей? Казалось, вот-вот после взрыва негодования Совет разойдется…
Но наконец с запоздавшего поезда, после бесчисленных приветствий на вокзале, влекомый Чхеидзе, но без всяких других участников встречи, поехавших прямо домой, из-за декорации появился Плеханов. Чхеидзе рекомендовал его несколькими не очень складными, но очень горячими фразами. Последовала шумная овация, которая затем стихла в ожидании, что Плеханов что-нибудь скажет собранию. Но Плеханов, измученный дорогой и встречей «начальства» на вокзале, неподвижно стоял в шубе в глубине сцены и не сказал ни слова. Совет расходился в молчании и едва ли в хорошем настроении.
Увы, эта картина советского заседания вызывала мрачные ассоциации самого общего характера. Эта оторванность советского «начальства» от советских масс проявлялась не только в отдельных случаях и в отдельных заседаниях. Она уже начинала чувствоваться вообще… Недоразумения «технического» свойства были хроническим явлением и впредь: сплошь да рядом, когда собирался «начальством» же созванный Совет, было некому председательствовать, было некому доложить по объявленному вопросу или было просто нечем «занять» Совет. Потом «техника» стала лучше. Чхеидзе неизменно занимал президентское кресло, и докладчики были мобилизованы.
Но дело-то было в том. что источник зла был не в одной «технике». В это время, к концу марта, уже чувствовалось отсутствие внутреннего контакта, отсутствие идейной и организационной связи с низами. Начиналась и здесь роковая трещина, которая дала себя знать впоследствии.
Дело было не только, а может быть, и не столько в оторванности Исполнительного Комитета от «рабочих и солдатских депутатов». Эту трещину между верхами кое-как удавалось замазывать еще долгое время. Но сейчас уже замечался разлад или замечалось отсутствие спайки между советскими руководящими сферами и действительными массами петербургского пролетариата и гарнизона. Более наблюдательные члены Исполнительного Комитета это уже формулировали в то время. Слепые игнорировали до конца. Если бы они не игнорировали, конец, пожалуй, мог бы быть и не столь позорным для нового советского большинства.
Кажется, на другой день утром в мое отсутствие Плеханов сделал визит Исполнительному Комитету. По-видимому, это был первый и последний визит Плеханова в руководящие советские сферы. Вопреки моим ожиданиям, болезнь не позволила ему занять подобающее место в Совете и в революции. Может быть, ему помешала не только болезнь. Между позицией Плеханова и позицией Совета была настолько резкая грань, что Плеханов счел нужным воздержаться от всяких попыток участия в чуждом учреждении… Я лично полагаю, что эта грань с образованием нового большинства была совсем не так резка: между «мамелюками» и большевиками она, несомненно, была значительно резче. Но все же новое большинство также не обнаруживало склонности идти навстречу контакту с Плехановым: оно не хотело компрометировать себя в глазах масс. Оно правильно полагало: можно делать, по не следует говорить, не надо афишировать.
Участие Плеханова в событиях 1917 года ограничилось его писаниями в крошечной, малочитаемой и совершенно невлиятельной газетке «Единство». Его единомышленники составляли небольшую группу, не представленную в Совете именно ввиду ее полной ничтожности… С Плехановым я лично так и не познакомился до самой его смерти.
Вместе с Плехановым приехали давно ожидаемые именитые гости – французская и английская делегации: М. Кашен, Мутэ, Лафон, О'Греди, Торн, Сандерс. В 20-х числах нас посетил еще один знатный иностранец – первый пионер, исследователь неведомой российской революционной почвы из высокопросвещенной Европы. Это был Брантинг, шведский социалистический лидер. Однако эта знаменитость, посетившая Исполнительный Комитет, говорившая приветствия, пытавшаяся начать деловую политическую беседу, прошла у нас совсем мало замеченной. Приняли, поговорили, как сотни других делегаций, и сейчас же забыли.
Этого совсем нельзя сказать о французских и английских гостях. Их мы не только давно ждали. О них мы были очень много наслышаны. И не с хорошей стороны. Какими бы они ни были честными и благородными гражданами, какими бы они ни были убежденными социалистами, для нас, не только для циммервальдцев, но и для наших советских оборонцев, прибывшие англо-французские деятели были фактическими делегатами союзных правительств, были агентами англо-французского капитала и империализма. Нам было хорошо известно их «священное единение» со своими правящими сферами, виновниками войны и рыцарями международного грабежа. Мы были достаточно осведомлены о шовинизме и о крупной, глубоко вредной роли этих деятелей в их странах и в рабочем движении, вернее, в борьбе с рабочим движением Англии и Франции в период войны.
Между прочим, с характеристикой этих союзных парламентских социалистов к нам обратился из-за границы Мартов, предостерегая против них советские сферы. Но и без того наши сердца далеко не были раскрыты перед гостями. Напротив, мы были сильно насторожены против них и готовились к отпору? даже к весьма активной обороне, если не к нападению.
Ибо было ясно: гости приехали не для выражения чувств перед русской революцией, не для приветствий, не для братания, не для личного знакомства и изучения. Главная их цель была в другом – в агитации среди нас против германского деспотизма, в воздействии на нас авторитетом «более зрелых товарищей», в привлечении нас к союзу с Рибо и Ллойд Джорджем для борьбы «за право и справедливость». Именно для этого их снарядили в Петербург, избрав самых «лучших», самых надежных для правителей из всего «социалистического» и «рабочего мира» союзных стран. Других не только не снарядили, но и не пустили «приветствовать русскую революцию».
Их покушение представлялось ни в какой мере не опасным, их давление безнадежным. Мы чувствовали себя слишком сильными – и убеждением, и авторитетом. Союзные гости, не будучи друзьями, не представлялись нам и достойными противниками, скорее – докучливыми ходатаями перед победоносной русской демократией от перепуганной союзной буржуазии. Тем более мы лишены были к ним всякого пиетета, тем более жалкой и неприятной казалась нам их роль.
На другой день по приезде гости явились с визитом в Исполнительный Комитет. Нервные, волнующиеся французы и тяжелые непроницаемые англичане прибыли в сопровождении своих соотечественников из сфер местных посольств. Их встретили молча. Они пришли сегодня только для приветствий, которые были покрыты более чем сдержанными, не более чем вежливыми аплодисментами. От французов говорил Кашен, от англичан – О'Греди. Им очень хорошо отвечал Чхеидзе, удачно построив ответное приветствие и взяв очень твердые ноты насчет задач русской революции в области достижения мира. Речь Чхеидзе была демонстративно встречена долгими рукоплесканиями.
Надо думать, гости и раньше, до своего визита, были достаточно осведомлены о господствующих в Совете настроениях. Теперь они вполне могли ориентироваться в обстановке для предстоящей «деловой работы»… Подвижные, улыбающиеся французы уже заводили частные разговоры и знакомства. Пока говорили все больше комплименты. Англичанам это было не под силу – и по характеру, и по лингвистическим причинам…
Аудиенция длилась недолго, несмотря на переводы каждой речи. Гостей со всей предупредительностью проводили до выхода и обратились к очередным делам. Гости вышли от нас, вероятно размышляя о трудности задачи: в самом деле, как же сломать лед?
Совещание уже переходило к деловым докладам. Их предстояло еще немало, а между тем энергия уже иссякала, внимание и прилежание ослабли.
Был очень интересен доклад Венгерова о солдатских делах и правах. Для далеко стоящих людей он открывал новую область, где происходила своя местная революция. О солдатских вольностях, благодаря исключительной роли солдата в событиях, заговорили с первого момента, и общие декларации были известны всем. Но даже авторам этих деклараций была неведома та область солдатского быта, солдатской службы, солдатской муштры, которая сейчас перестраивалась сверху донизу…
Совещанию предстояло еще кропотливое и большое дело избрания Всероссийского Исполнительного Комитета: это был центральный организационный, а по существу, пожалуй, государственно-правовой вопрос. Приближалось дело и к земельному докладу. Что-то происходит в земельной секции?
Там было неблагополучно. Туда были для урегулирования отношений командированы я, как аграрник, и Церетели, как высший авторитет. Эсеровские солдаты, больше молодые интеллигенты, были готовы принять большинство положений аграрной резолюции Исполнительного Комитета. Они принимали отсрочку «безвозмездного отчуждения частновладельческих земель до Учредительного собрания»; принимали земельные комитеты; принимали обработку комитетами пустующих земель при помощи владельческого инвентаря; принимали «борьбу со всякими попытками самочинного разрешения на местах земельного вопроса» и, наконец, приветствовали «прекращение впредь до разрешения Учредительным собранием земельного вопроса всякого рода сделок по покупке, продаже, залогу и дарению земель». Все эти основные положения Исполнительного Комитета секция принимала.
Но она решительно не соглашалась установить минимальный размер для конфискуемых владений, требуя, чтобы все земли, включая и мельчайшие крестьянские участки, были обращены во всенародное достояние.
Это требование соответствовало программе эсеров, но противоречило всем остальным социалистическим программам. Напрасно мы с Церетели убеждали разгорячившиеся головы на все лады. Напрасно предлагали пойти на компромисс с блоком всех остальных, марксистских и народнических партий, компромисс несущественный теоретически («до Учредительного собрания!»), но сейчас способный иметь практическую важность: ибо покушение со стороны революции на земли черноземных крестьян, особенно хуторян, могло породить немалую передрягу… Но ничто не помогало. Собрание секции кончилось торжественным обещанием лидеров устроить в пленуме грандиозный скандал и сорвать резолюцию Исполнительного Комитета… Примирились на том, что резолюция будет предложена и принята условно, с тем чтобы она была передана для обсуждения на места.
Около полуночи Чхеидзе, Дан и я направлялись из Таврического дворца в автомобиле с работы на покой. Я снова ехал к знакомым на Пески: домой по-прежнему приходилось заглядывать очень редко.
– Смотрите, что это? Что это? – вдруг закричал Чхеидзе и высунулся из окна.
На улице стояла толпа с зажженными свечами в руках, слышалось пение, колокольный звон…
– Да, ведь это Пасха! Начинается пасхальная заутреня!
Все мы, особенно вконец измученный Чхеидзе, были бы не прочь попраздновать и отдохнуть. Но пока работали, не разбирая дня и ночи, не только не соблюдая праздников, но и не подозревая о них.
В первый день Пасхи, 2 апреля, когда Станкевич делал в пленуме совещания свой доклад об Учредительном собрании, стараясь вскрыть перед невнимательной аудиторией различные юридические тонкости, в заседании появились Плеханов и иноземные гости. Чхеидзе здесь, на людях, в не деловой, а только торжественной обстановке приветствовал гостей значительно теплее, чем вчера.
Кашен говорил блестяще, кратко, сильно, с подъемом, с волнением, с неподдельным энтузиазмом. Его бурное французское красноречие, его гимн в честь великой революции воскресили романтику первых дней и захватили собрание… После Кашена говорил О'Греди с иным колоритом, но с той же искренностью, заставившей, между прочим, англичанина вспомнить о боге, которому «рабочий класс всего мира, дети и потомки их в течение многих поколений будут молиться и благодарить нынешнее русское поколение за его великое дело…» Гостей шумно и долго благодарили за их теплые слова.
Желая тщательно подготовить встречу и не вполне уверенный в ней, Чхеидзе «отрекомендовал» затем Плеханова. При создавшемся настроении дружные приветствия были обеспечены, и небольшой сектор большевиков во главе с Каменевым принимал посильное участие в чествовании отца российской социал-демократии.
Плеханов говорил первую большую речь к русской революции, к живой революции, слушавшей его, говорил с увлечением, с остроумием и с большим тактом. Он, конечно, не мог обойти больных вопросов, делавших его, Плеханова, «изгоем» в среде его собственных учеников. Но он с большим искусством миновал наиболее опасные подводные камни, стер углы, пошел далеко навстречу – и победил аудиторию.
Овации возобновились. Плеханов взял за руки француза и англичанина, желая изобразить… единый фронт международного социализма среди победной революции. Увы! Здесь не было и его слабого подобия. Но было торжественно и дружно в Белом зале.
А на следующий день, 3 апреля, тот же Плеханов, вместе с лидерами большинства, произносил новую, заключительную речь при закрытии съезда. Он видел в съезде залог правильного пути революции; он приветствовал принятые решения, особенно «золотые слова о войне»; он призывал держать взятый курс и не уклоняться в стороны. Дурные ауспиции!
Совещание кончилось, участники разъезжались, растекаясь по всему лицу, по необъятной шири российской революции…
Благожелательные напутствия Плеханова звучат печальными предзнаменованиями. Но в них содержатся едва ли основательные упреки совещанию перед лицом истории. Нет, неправильно, несправедливо, нельзя поминать лихом этот мартовский «неправомочный» съезд. Во всяком случае, это был лучший советский съезд, отнюдь не положивший пятна на эту лучшую, лучезарную эпоху, на эту светлую страницу в истории государства российского, когда народные силы были необъятны, когда они были готовы к борьбе, и когда так велики были шансы на близкую и полную победу.
Мартовский съезд не мог обеспечить единый фронт демократии против буржуазной реакции и империализма. Но он сделал все, что мог сделать съезд: он декларировал единый фронт и призвал силы демократии к сплочению вокруг Совета для борьбы за укрепление и расширение революции.
Этого мало: мартовский съезд сплачивал демократию на пролетарской платформе Циммервальда. Содержание Циммервальда, правда, уже выдыхалось из практики Совета. Но постановления съезда еще сохраняли дух классовой международной солидарности и классовой международной борьбы. Перед лицом социал-патриотических рабочих масс Европы это имело неоспоримое значение. И престиж русской революции, держащей в руках знамя мира, был высок в глазах международного пролетариата. Мартовский съезд не подорвал этого престижа и не запятнал этого знамени.
Но съезд этот был не только лучшим по декларированным принципам. Он был и самым плодотворным в других отношениях. Этот съезд официально формулировал и закрепил от имени всероссийской демократии ближайшую программу революции. Эта программа выражалась словами: мир, земля и хлеб.
Это была ближайшая, минимальная программа. И это была программа необходимая — такая программа, не выполнить которую революция не могла, если только она продолжала быть революцией и не была ликвидирована реакционными силами. Мир, земля и хлеб – это было уже не расширение и не углубление революции. Это была ее необходимая сущность, это была объективно сложившаяся конъюнктура, вытекшая сама собой из первоначального толчка, из самой природы первоначальных событий, из условий ликвидации царизма. Отказ от мира, земли и хлеба означал смерть, удушение революции. Борьба против этих требований, борьба за их сокращение, за их смягчение означала борьбу против революции темных реакционных сил. Борьба за частичное выполнение этих требований и за частичные уступки в деле мира, хлеба и земли означала полную выдачу революции во власть реакционной диктатуры. Ибо революция – это были освобожденные народные силы и народные интересы, которые без этого минимума обойтись не могли, которым он был необходим целиком; компромиссы, отказы, задержки на этой почве были разрушением народных сил, уничтожением всех основ революции. Это было объективно и непреложно. И для каждого участника событий в это время уже должна была кристально выясниться альтернатива: либо решительная борьба и скорейшая победа в деле мира, земли и хлеба, либо удушение революции и беспощадная диктатура капитала.
Земля — это был исконный, непреложный крик хозяина русской земли, крестьянства, подавляющего большинства русской демократии и всего населения страны. Хлеб было непреложное требование авангарда, гегемона и главной основы революции – пролетариата: требование это означало, во-первых, минимальный жизненный уровень рабочего в условиях достигнутой им победы, а во-вторых, требование хлеба на деле означало регулирование народного хозяйства, без которого хлеба добыть было нельзя.
Первым же и важнейшим лозунгом революции был мир. Если революция не кончит войну, то война задушит революцию. Это должно было быть очевидно не только для циммервальдца, поборника братства народов, но и для каждого демократа вообще. Продолжение и затягивание войны заведомо отнимало у народа и хлеб, и землю, и всю революцию. Затягивание войны означало разрушение народного хозяйства, означало голод, бестоварье, реакцию крестьянства и торжество контрреволюции. Затягивание войны означало всеобщую разруху, гражданскую войну и ликвидацию всех завоеваний. Мир был основным требованием, поглощавшим остальные, превращавшим их в единый, в триединый лозунг революции.
Но ясно: мир был не только требованием международного социализма и российской демократии, он был не только вопросом жизни и смерти революции. Он был насущнейшим требованием всей страны в целом: это должно было быть требованием нации… Ибо было очевидно: сама революция возникла непосредственно как реакция на неслыханные тяготы войны. Бедная, отсталая, неорганизованная, придавленная царизмом страна не выдержала войны. Ее экономика надорвалась, ее производительные и организационные силы оказались недостаточными для данного объема мирового конфликта…
Разве не должно было быть очевидным для патриотов, для наших националистов, что продолжение и затягивание войны ради империалистских целей, ради каких бы то ни было приобретений означает бесславную потерю национального достояния, если не гибель государства? Разве не было очевидно, что в дальнейшем надорванные силы поправить нельзя и достигнуть победы при объективно созданной конъюнктуре немыслимо?.. Страна в целом не могла выдержать этой войны. И не продолжение ее, а именно прекращение, именно решительные шаги к миру, именно скорейшее его заключение были самым надежным путем к защите национального достояния, самым верным средством действительной обороны страны…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.