Текст книги "Лицей 2019. Третий выпуск"
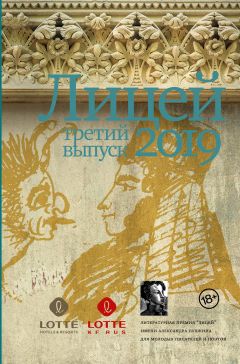
Автор книги: Оксана Васякина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Ылай – значит мутный
Рубцовск запечатлелся послеродовым рубцом на моей памяти. Таким шероховатым, мутно-зелёным, цвета речной воды, из которой в детстве мы с двоюродным братом ловили природно-вялых карасей.
Если бы я смог ребёнком с высоты голубиного полёта посмотреть вниз, на город, что бы я увидел? Степь. Кирпичные коробки-дома, вытянутые во фрунт, жёлтые пятна тополей, две заводские трубы и змеящуюся, окаймлённую забокой речку, текущую в неизвестность. Не помню, спрашивал ли я тогда у родителей, умею ли я летать. Наверное, не спрашивал. Очевидность, как оттиск бытия в человеке, впитывается с молоком матери. И, вероятно, мне было ясно, что летать я не умею. Я ползал, потом робко ходил, хватаясь за предметы. Потом ходил твёрдо, научившись переставлять предметы с места на место. Завязывались деловые отношения с материей посредством необходимости. Как маленькое человеческое существо, я имел необходимость в детском горшке, в тарелке манной каши, в родительском тепле. Я был требовательным ничем, интуитивно чувствуя себя значимой тварью в деле продолжения человеческого рода. И мне нравилось, что меня называют Кашей. Каша – это жизнь, тепло и продолжение рода. Позднее я понял, что я вовсе не Каша, а – Паша, Павел. И это открытие поселило во мне смутную мысль о моей значимости и чуждости. Павел мыслился как таинственный двойник и “странный друг”. Правда, потом этому другу пришлось несладко – в детском саду, в школе. И лучше бы ему, то есть мне, было оставаться безличной и беспомощной Кашей, но однажды мальчику подарили китайские часы с музыкой, и он узнал, что есть время, которое идёт вперёд…
Время шло быстро. Я рос, стены деревянного дома узились, надвигался потолок. Я рисковал быть раздавленным в маленькой комнате с кроваткой и грустным медведем, если бы не обнаружил летний двор с землёй и травою, с пугливыми курами, мухами и золотыми жуками. Шлёпая босым по двору, я впервые внимательно посмотрел на небо, которое, будучи степным, не отличалось многообразием. Выцветшее небо, без облаков, без яркого солнца, а в середине неба – за чередою низких шиферных крыш посёлка – гигантские серые дома, стоявшие на краю мира. Взрослые говорили, что до них идти “всего ничего”, но взрослые часто обманывают, и я им не верил.
Затаив мысль о небе, однажды я спросил у большого дяди из родни: а что там, за небом, есть ли у неба (подразумевая космос) конец? Дядя что-то горячо объяснял мне и жестикулировал, но что именно, я не помню. Помню только, что от него пахло сырыми сосновыми дровами – перегаром. Тогда же я вполне обрёл тождество с именем и ощутил возможность смотреть на мир “своими глазами”. Не знаю, хорошо ли это – рождать первые смыслы? Быть может, жизнь ребёнка потому и чудесна, что бессмысленна…
Двор, где находились старая баня, сарайка, углярка[3]3
Углярка – место для хранения угля. – Примеч. ред.
[Закрыть] и огород, был изучен мной до самого тёмного угла, кишащего двухвостками и пауками. Моему любопытству стало недоставать пищи. Впечатления ещё не завязывались в прочные смыслы, а повисали нелепыми картинками в просторном, как галерея, сознании. Старые картинки, подобно замусоленным вкладышам от жвачки, надоедали, требовались новые, и действительность давала их с лихвой, “пачками”.
На заднем дворе, среди разного хлама и гнилых досок, росла высокая яблоня с жёлтыми яблоками, ставшая местом моих наблюдений за миром. Я залезал с отцовским биноклем на самый верх, умостив кусок доски в виде сиденья, и предавался запретному созерцанию. Я подглядывал за жизнью других людей, живущих за забором. Это была беспросветно пьющая многодетная семья, промышлявшая мелкими кражами и готовившая еду посреди запущенного огорода на костре. Домашнему мальчику с биноклем в руках (принимавшему пищу за столом) подобная дикость казалась непостижимо страшной и притягательной. Всё было страшно и непонятно в жизни этих людей: имена (Кулёма, Сивый, Федяй), странный запах, идущий от костра, неумолкающая животная речь, перетекавшая в истерический рёв с боем стеклянной тары. Состав семьи время от времени менялся: кто-то садился в тюрьму, кто-то выходил. В моём секретном блокноте, куда я записывал наблюдения, отразился кусочек жизни “страшной семьи”. Сначала у ограды соседей появился большой грузовик с синим капотом. На нём откуда-то приехал отец семейства: не заношенный на вид мужчина лет сорока. Зачем этот приличный человек вернулся в пьяную берлогу, я не понимал. Недостающие эпизоды семейной жизни соседей после возвращения отца наглядно дополнял грузовик. Сперва он имел вид самодовольный и внушительный, как его имя – “ЗИЛ”. Потом кто-то спустил колёса, и грузовик приуныл. Ещё через какое-то время грузовик лишился лобового стекла, внутренностей кабины, огромных ценных колёс. Говорили, что колёса можно было снести барыгам и получить за них целое состояние. Кузов превратился в помойку и страшно смердел. Грузовик облысел, был унижен и изуродован до неузнаваемости. Хозяин грузовика бродил по улице сутулым и пьяным, в заправленной в трико красной рубахе – той, в которой недавно вернулся. Кончив “дело”, я присвоил себе звание майора милиции и начал чаще бывать на улице.
Улица казалась широкой и пустынной, словно длинный лоскут степи, обоими концами уходивший в “конец мира”, где серели высокие дома. Когда родилась сестра, мама стала отправлять меня за молоком к хорошим соседям, у которых была корова. Путь длиной в несколько дворов – от дома до молочных соседей – казался мне героическим и долгим. Ранним летним утром я брал у мамы пустую литровую банку, зеленоватую и хрупкую, и бережно нёс её в руках. Там, на завалинке чужого дома, находил такую же банку с тёплым парным молоком – и являлось чудо. Чудом было то, что банка с молоком всегда ждала меня на своём месте, а того, кто её оставлял, я никогда не видел. Само ли молоко появлялось для моей маленькой сестры или его приносили ангелы, уж и не знаю. Только я оставлял пустую банку, брал тёплую, с чудесным молоком, и шёл по пыльной дороге, радостный, обратно в свой дом.
На улице играли дети. Принято думать, что дети всегда во что-нибудь играют, а не просто живут, как их родители. Глубокие переживания этих “недолюдей”, робко привыкающих к миру, как правило, взрослым не заметны. Однако дети всегда играют во что-нибудь – страдая. Дети присматриваются и принюхиваются друг к другу, чуя в другом либо пугающий отпрыск от неблагополучной жизни родителей, либо существо безопасное и годное для совместной игры. Когда я познакомился с уличными детьми, мой прежний мир рухнул. Первая кровь от вражеской руки, узнавание чужого пола в лице соседской девочки, наивно предлагавшей нам, чумазым пацанам, себя потрогать. “Конец мира” значительно удалился в неведомую степь, а гигантские дома оказались обычными панельными хрущёвками с людьми, живущими один на другом в тесных квадратах. Эти дома представляли собой пугающие лабиринты, словно бы созданные для того, чтобы человек однажды заблудился и умер от одиночества.
Тогда, в степные девяностые, мы различали друг друга ещё и по тому, как часто тебя зовут обедать, точнее, не “обедать”, а просто “иди есть” (“кушать” не говорили), и по тому, чем таким съедобным пахнет из твоего двора. Меня есть звали редко, я приходил сам. Из моего двора редко пахло съедобным, не было летней кухни, обычно – дровами и пылью. А из двора моего приятеля-немца Олежки Гофмана в обеденный час пахло чем-то невообразимо вкусным. Страшная старуха, Олежкина бабка, редко выходившая из дома, высовывалась из-за двери и на страшном немецком языке звала его есть. Олежка обычно огрызался на нестрашном немецком и неохотно шёл. Я ему жутко завидовал, потому что он шёл есть загадочные клёцки, а мне оставалось лишь мучить воображение этим заморским блюдом. Олежка был единственным из уличных знакомых, к кому нельзя было обратиться с обычной детской просьбой “вынеси похавать”. И дело было не в нём, а в замкнутом мироустройстве его родителей, которые вскоре вместе с детьми и старухой перебрались на историческую родину.
Детский сад я помню плохо. Меня будят родители, яркий свет в зале, камлание телевизора; меня одевают, как куклу, просовывая непослушные конечности в комбинезон. Мучительная дрёма, недоумение плоти: зачем? Космическое “так надо” – отовсюду. Просыпаюсь в санях на морозе, в утренних сумерках. Тёмная отцова спина, шелест салазок. Высокие немые тополя, раскачиваясь, мычат в небе. Послушные дети едят кашу. Ёлка. Много ваты: под ёлкой, на окнах, на лицах красивых нянь. Вата – это снег. Днём нас выгуливают в детсадовском дворе. Веранды и качели занесены снегом. Если в снег плеснуть разноцветной воды с акварельною краской, появятся изумрудные камни. Красота, расковырянная тополиной веткой, стоит того, чтобы прожить долгую бессмысленную жизнь. Но об этом дети забывают, когда поступают в школу.
В школе созерцание выбивают учительской указкой и учат тому, как прожить жизнь правильно и со смыслом. Тыкать выструганной палкой в стену без естественной цели пробить дыру – не бессмысленно, а расковыривать красоту веточкой – бессмысленно, потому что бесполезно. Бесполезный человек обречён на одиночество. А быть одному в этом мире – страшно.
Начальные классы чем-то напоминали детский сад: добрая молодая учительница опекала нас, вытирала сопли, утешала, если кто-то плакал. Настоящая школа и весь пубертатный ужас начались в средних классах. Утомительное хождение по кабинетам, открытие неведомых уголков школьного пространства, узнавание новых учителей – не таких добрых, как первая учительница, не таких сдержанных, красивых, разных. Новые учителя, за редким исключением, видели в нас жалких индивидов для вымещения собственных комплексов. Тогда же я обнаружил своеобразный учительский жанр – отступление от темы. Учительница химии с причёской, словно перенёсшей лабораторный эксперимент, вещала нам о шмотках и домашних бытовых приобретениях, о сказочных поездках за границу, о чём мы, степные дети, слушали с открытым ртом. В её пренебрежительной интонации чувствовалось презрение – к нам, к нищему городу, к самой себе – от невозможности что-либо изменить. Плотоядной учительнице физики с лицом продавщицы мяса нравились смазливые мальчики. Она открыто кокетничала с шестиклассниками, думая, что те ничего не понимают, видя в них смазливых придурков. Учительница математики, монашеского вида худощавая женщина в застиранном сером платье, не отвлекалась на посторонние темы. Она была добра и прозрачна. Днём она выводила на доске красивые формулы – словно бы для себя, не для нас, словно бы в эти минуты она переносилась в иное измерение, где царила гармония чисел. А вечером торговала на Бродвее (так назывался криминальный район) жареными семечками из ведра и платила дань местным гопникам. Когда я узнал об этом от сверстников, высмеивающих её, мне стало обидно и больно: разве учительница должна, сидя в унизительной позе, торговать семечками… Ночью, укрывшись с головой одеялом, я плакал.
Однажды, вернувшись из школы, я увидел, как дед, в кромешной пыли, рушит пристройку дома, где когда-то жила молодая семья брата моей мамы, а после пристройка стала пустой и холодной. Я быстро переоделся, перекусил хлебом, надел дырявый противогаз с хоботом и пошёл наблюдать за происходящим. Дед редко что разрушал в своей жизни, за исключением здоровья и этой пристройки, всю жизнь проработал на тракторном заводе. Дед всегда что-нибудь созидал: в молодости обращал металлолом в алую сталь для тракторов; в старости выращивал питательную растительность на огороде, возводил из старых досок сарайки и будки.
– Дед, что ты делаешь? – спросил я, не видя его из-за пыли. – Зачем ты ломаешь дом?
Дед перестал размахивать кувалдой и сказал мне, мучаясь одышкой:
– Это ненужный дом. Я его сломаю, уберу тут всё и посажу дерево.
Ещё мы ходили с дедом на реку. Не рыбачили, а просто гуляли и смотрели на мутно-зелёную воду. Дед был в жизни неразговорчив, но тогда он сам заговорил со мной:
– Знаешь, как называется наша река?
– Конечно, знаю – Алей! – радостно ответил я.
– А вот и не знаешь, – хитро улыбнулся дед.
– Как это?
– А так. Не Алей, а – Ылай. Ылай – значит мутный. Это по-киргизски. Видишь, какая тут вода мутная. Когда-то на месте города была древняя степь и жили тут кочевники. А город появился, когда в войну эвакуировали к нам завод. Не было бы войны, не стало бы и города. А Ылай тут всегда будет, вечно…
Тянулись беспросветные школьные будни. Вероятно, цель школьного образования – вывести будущих членов общества из состояния детской беспечности, из созерцания и привить им “смысл жизни” путём внушения готовых стереотипов. Учитель – образец для подражания, армия – защита отечества, человек – звучит гордо. Впрочем, этот “проект” рухнул во мне довольно скоро. Достаточно было осознать феномен математички, чтобы усомниться в системе. Поэтому на учёбу я забил рано, класса с шестого. Учиться было не то чтобы неинтересно, а именно бессмысленно. Так мне казалось. До того момента, когда из нас “сделают людей” и предложат социальные формы существования, ждать было ещё долго, а жить, как подсказывало сердце, хотелось уже сейчас. Поэтому ничего не оставалось, как стать изгоем. Не то чтобы я этого хотел, но обманывать себя было страшно. Я перебрался на последнюю парту и оттуда наблюдал вплоть до “финиша”. Наблюдать было интересно и небессмысленно. Для меня наблюдение явилось подлинным познанием действительности – без внешнего давления и пошлого поощрения в виде “хорошо” и “отлично”. Я любил смотреть, что делается за окном, какого цвета небо, мог бесконечно долго созерцать тополя. Тополь – природный символ моего города. Существует этимологическая гипотеза, что слово “тополь” связано с “топью”, “болотом”. Город в те годы действительно многих затянул в чёрную постперестроечную трясину всякого рода бед, а мне просто повезло… Когда надоедало смотреть в окно, я наблюдал за одноклассниками, за движениями и мимикой учительницы; произносимое меня мало интересовало, я как бы “отключал звук”. В такой отключке я провёл все десять лет и каким-то чудом получил троечный аттестат. Тогда ещё не было злополучного ЕГЭ, а если бы он был, то вряд ли бы я кончил школу и “стал человеком”, поскольку не смог бы отказаться от “второй жизни”, которая и была подлинной.
Появившись на свет, искать я начал довольно рано. Что искать – “смысл жизни”, “истину”, “самого себя”, – не имело значения, поскольку сама данность твоего существования определяет цели. Я – есть, стало быть, я должен нечто найти. Иначе – зачем всё? В то время я был ещё слаб, чтобы извлекать смыслы из живой действительности, казавшейся довольно серой и скучной. Мне интереснее было копаться в книжном шкафу, находить неизвестное в книгах – от справочника по гинекологии до чёрной протестантской Библии, которую я не раз открывал в надежде познать нечто. Но, прочитав сколько-то страниц мелким шрифтом, устало закрывал и быстро уходил в сон. Я понимал, что нечто там определённо есть, но это нечто мне пока не под силу. Помимо книг, подтолкнувших меня к мысли об инобытии, было немало впечатляющих моментов и в повседневности. Как-то отец, в молодости увлекавшийся фотографией, позвал меня ночью на кухню, представшую в фантастическом красном свете, словно я попал внутрь летающей тарелки. Он проявлял фотографии. Обмакивал чистые листы в волшебную жидкость, прикреплял их бельевыми прищепками к натянутой верёвке и говорил: “Смотри”. Я смотрел и видел, как медленно проявляются знакомые чёрно-белые образы двора, яблони, собаки Шарика, меня самого…
Я изучал природу, но моё естествознание было сопряжено с искусством. Я залезал на крышу дома, привязывал кисточку, смоченную акварельной краской, к толстой проволоке, идущей от печной трубы, и доверял ветру рисовать на альбомном листе всё, что ему вздумается. Ветер – прекрасный живописец. Он создавал непонятные моему уму шедевры лёгкими истерическими мазками. Я нёс показывать маме. Она с тревогой смотрела на меня и молчала.
Став изгоем, я окончательно замкнулся в себе. Но одиночество мне нравилось. Имея школьный проездной билет, я садился на случайный троллейбус и ехал до конечной остановки. Троллейбусы в моём городе особенные. Они никуда не спешат, они сами по себе, и я бы не удивился, обнаружив водительскую кабину пустой. Людей, какие они были тогда, я почти не помню. Серые движущиеся фигуры, большинство из которых продляло своё существование, работая на тогда уже умирающих заводах. Мне нравилось ленивое движение троллейбуса, нравилось смотреть в замёрзшее окно и отогревать его теплом ладони. Сумерки смазывались огнями редких фонарей, магазинных витрин, бледными лицами горожан, возвращавшихся с пакетами домой. Выйдя на конечной остановке на краю города, я всматривался в сумеречную пустоту, где мерещились призраки кочевников и слышалось дыхание снежной степи. Потом, замерзая, долго ждал очередной троллейбус и ехал обратно.
На летних каникулах было полно времени, и я часто бродил по городу. Мог увязаться за какой-нибудь девушкой, идти за её спиной, думать о ней – кто она, как она живёт. Должно быть, со стороны я чем-то походил на маньяка, но моя мания была иного рода, хотя имел место и фактор полового созревания. Уже тогда я начал понимать, что ни природа, ни книги не могут сравниться с тайной человека, и встретившиеся позднее слова Достоевского, что “человек есть тайна и её надо разгадать”, били в самую цель. Впрочем, изучал я не только людей, но и свой город. Для приезжего он “один из” – индустриальных городков, разбросанных по стране, притом что мифологема нашего города весьма мрачновата: промзоны и лагеря (увы, не детские). А для меня город был тайной и некой “моделью мира” с населяющим его человеческим видом. Разумеется, как вариант реальности был ещё телевизор. Но всё, что в нём преломлялось, мало походило на правду и казалось фальшивым. Когда в те же девяностые в наш город забрели американские проповедники, расположившись в единственном тогда рабочем кинотеатре, мы, подростки, расценивали их присутствие как инопланетное и чуть ли не со священным трепетом принимали от них материальные дары вроде жвачки или бейсбольных кепок. Словно бы они приехали не обычным способом (в данном случае – поездом), а вылезли, как в каком-то фильме ужасов, из того самого телевизора.
Бродя по городу, я часто останавливался у старинного деревянного храма в архитектурной форме корабля. Храм выпадал из стёртого индустриального пейзажа, казался чужаком, потерявшимся во времени, а значит – своим. Что-то притягивало к зелёной церкви, возвышавшейся над пыльными улицами частного сектора. Священники жили в двухэтажных домах, расположенных внутри церковного двора, но встречались редко. Судя по моим наблюдениям, они вели замкнутый образ жизни, в город выходили в мирской одежде, вели себя скромно и, казалось, стеснялись своих длинных бород. А мне нравились их чёрные рясы и причастность таинствам церкви; нравились люди, чем-либо выделявшиеся из серой городской массы, но таких было немного.
Бог был для меня такой же очевидностью, как то, что я есть. Долгое время я считал, что Бог живёт в деревянной церкви. Ещё в детстве в середине голубого купола я заметил небольшое оконце. Я представлял за оконцем ослепительно-белую, очень уютную комнату, похожую на крестьянскую горницу, возможно, с книгами и диваном, где и ныне и присно живёт Господь. Когда я смотрел на таинственное оконце, то думал, что и Бог меня видит, что Ему там тепло, когда зима, и прохладно, когда лето.
Подростком я стал внимательно присматриваться к людям, которые по каким-либо внешним признакам отличались от большинства. Кроме упомянутых православных священников, меня до внутреннего восторга поражали люди моего возраста и пола с длинными волосами или серьгой в ухе. Удивлял не столько внешний вид, сколько образ жизни и дерзновение – быть тем, кто ты есть. Я понял, что искать нужно в этом направлении, тем более что вовсю тогда заслушивался “легендами русского рока” и знал, как они выглядят, по обложкам кассет. Крепкий настой из песен “Аквариума”, “Кино”, “Калинова моста” я, пользуясь хиленьким китайским магнитофоном, поглощал ежедневно – утром перед походом в школу, днём, когда возвращался, и очень долго по вечерам, уединившись на кухне, за несчитанными чашками крепкого чая. Сотканные из песен “миры” завораживали моё сознание; в эти минуты я был почти счастлив, почти свободен, почти…
Продолжив наблюдение, я принялся выискивать места, где обычно собирались так не похожие на моих одноклассников “инопланетные” юноши и девушки. Позже я узнал, что таких людей в нашем городе называют неформалами (или пренебрежительно – не́форами), и мне самому страшно захотелось стать неформалом. Неформал – тот, кто вне системы, вне школы, даже если ты пассивно выполняешь повинность, посещая её. Ещё до знакомства с ними я решил реже появляться у парикмахера, чем вызвал молчаливое недоумение у своих родителей. О том, что неформалам живётся нелегко, что они добровольные изгои в обществе, я интуитивно догадывался, но был также уверен, что они по-своему свободны. Это было заметно со стороны: по их неагрессивным лицам (в то время как угрожающая мимика с морщинами на лбу являлась нормой для городских подростков), по раскрепощённым движениям, подчёркивающим их индивидуальность, по интересной, со сленговыми оборотами, речи.
Однажды мне посчастливилось оказаться совсем рядом с ними на городской площади, где проходила какая-то ярмарка. Я наблюдал их вблизи. Нет, это были не люди – небожители. Всё в них было не так, как у нас, и, казалось, всё в них было прекрасно. Ребята представляли молодёжную экологическую организацию “Зелёный дом”. На длинном столе лежали брошюры и листовки на экологическую тему, и я взял одну листовку, где был указан адрес организации. Вроде бы явное противоречие – неформалы и организация. Оказалось, что “Зелёный дом” был лишь прикрытием, чтобы иметь крышу над головой, чтобы собираться не во дворах (где легко можно было огрести от гопников), а в маленьком однокомнатном помещении. Впрочем, как выяснилось, местные панки к “зелёным” относились с некоторым презрением из-за их компромиссности и тусовались, как птицы небесные, где придётся.
Уже летом, на каникулах, когда волосы достаточно подросли и рассыпались русым есенинским пробором, я решился пойти в “Зелёный дом”, чтобы наверняка переломить свою жизнь, цепляясь за единственную возможность завести с ними дружбу. Подойти на улице я бы ни за что не решился, ибо по природе стеснителен. Нарочно не сел в троллейбус, шёл пешком, хотя расстояние было немалое, чтобы выдержать некое испытание, чтобы меня приняли. К тому времени спортивный костюм сменился чёрными китайскими джинсами и того же цвета уже пошарканной джинсовкой.
Первая встреча с неформалами “обломалась”, или, если угодно, закончилась провалом. По дороге я мечтательно прокручивал в голове словосочетание – “зелёный дом”, плутая в лабиринтах серых кварталов. Казалось, сказочный зелёный терем вот-вот выглянет из-за очередной хрущёвки, на крыше терема будут сидеть они, с гитарами, и петь что-нибудь вроде: “Волос пахнет костром, небо стало шатром, ага…” Вот тебе и “ага”. Я стоял перед обшарпанным торцом типичной хрущёвки с бетонной лестницей, ведущей к железной двери, разумеется, без вывески. За дверью раздавались хаотичные фортепианные звуки, что меня немного взбодрило – музыка как-никак.
Когда я вошёл, музыка утихла. Молодой человек с длинным хайром высокомерно обмерил меня взглядом и, по-видимому, признал во мне чужака. Несколько девушек в футболках с кумирами и в напульсниках ничем особо не занимались, наверное, слушали экспромт парня.
– Это у вас организация “Зелёный дом”? – неуверенно спросил я.
Мой официальный тон и явная растерянность вызвали девичьи смешки.
– Начальника сейчас нет, – иронично и сухо ответил парень, – тебе лучше зайти в следующий раз. – Он повернулся к клавишам, готовый продолжать играть.
– Ага, ладно, до свидания, – пробормотал я и поскорее вышел за дверь.
В сущности, то, что происходило со мной потом, складывалось само собой. Я собрал рок-группу, начал писать стихи, слушать концерты Баха. Жизнь протекала как бы в двух мирах, граничащих в пространстве одного города, – мире творческого созерцания и грубой действительности. В степном умирающем городке, где люди занимались выживанием и выращиванием овощей на дачных участках, только в телевизоре улыбались счастливые лица, жующие “Орбит” и пьющие “Спрайт”, купающиеся в тёплых морях. Но им не завидовали, а сорадовались, прислонясь к пыльным настенным коврам и вздыхая: “Эх, живут же люди…”
В старших классах я отрастил приличный хайр и повязал на левую руку феньку из мулине, подаренную другом. Замшевый пиджак и узкие джинсы, купленные в секонд-хенде, делали меня неузнаваемым для обитателей школы и городского посёлка, где я жил. Местные и школьники из параллели меня не трогали, но в некоторых из них ощущался восторженный ужас. Нельзя было просто, по-дворовому отмудохать “инопланетянина”. Всякий, кто смотрел “Секретные материалы”, знает, что инопланетян следует опасливо изучать, чтобы не подхватить какую-нибудь инопланетную заразу. И меня с интересом изучали. Иногда, для приличия, насмешливо называли “нифером” (именно с “и”), впрочем, не слишком углубляясь в значение этого слова.
Естественным образом появился круг знакомых из так называемых неформалов, но, чтобы рассказать об этом, потребуется романная форма. Словом, меня закружило в колючей сибирской метели. Будто в бешеном калейдоскопе, вижу себя: пьяно завывающего песни среди волосатых приятелей за чекушкой спирта; робко целующего девичью руку, увешанную цветастыми феньками; смывающего с лица кровь водицей из ноябрьской лужи; давящего на фузз до предела, давящего на фузз, фузз, ззз…
Когда я оканчивал школу, перед сном меня стали посещать мечтательные предательские мысли. Я стал думать о том, чтобы уехать из родного города. Нет, я не разлюбил его. Ничего на тот момент я не знал так хорошо, как свой город. Закрыв глаза, мог представить любую его пыльную улочку, заросшие коноплёй переулки, пустыри, печальную набережную с высохшей речкой и разбитыми фонарями, бетонные лабиринты “черёмушек”, железнодорожные пути, разрезающие город надвое, мрачные остовы некогда цветущих заводов, словно скелеты мамонтов, их остывшие чёрные трубы, пронзающие голубиную высь… Всё это стало мной – навсегда. Но город стал тесен, как тот спортивный костюм, как пространство двора, дома, комнаты. Хотелось узнать: а что там, за степью? Ну хотя бы в столице края, какие там люди, здания, “воздух”? Во мне не было азарта путешественника, не было желаний, связанных с повышением социального статуса или хорошим заработком. Моё стремление можно сравнить с тем, как порой человек отправляется ночью в круглосуточный магазин не для того, чтобы что-то приобрести, но чтобы принять дозу адреналина, испытать судьбу, поскольку такой поход в любом провинциальном городке непредсказуем.
Став взрослым, я окончил университет, устроился работать в школу учителем русского языка и литературы, поселился в столице края и никуда больше не порывался уехать. Большинство моих приятелей грезят о мегаполисах, как чеховские герои, – кто о Москве, кто о Питере. Они постят фотки открыточных столичных мест в своих блогах и верят, что именно там найдут своё счастье. Дай-то бог. Иногда звонят или пишут оттуда: “Ну что, чувак, куда летом собираешься?” И я покорно отвечаю: “Домой, в Рубцовск”. Ну, что такой расклад – лажа и что я лузер и неудачник – прочитывается без слов. Там – на берегах Невы – светится счастливая, всё понимающая и снисходительная улыбка.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































