Текст книги "Лицей 2019. Третий выпуск"
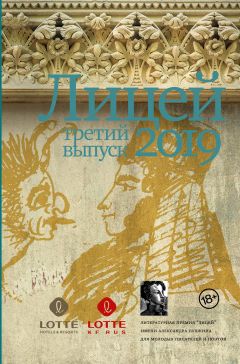
Автор книги: Оксана Васякина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– Вот так так, – подумал я вслух, заметив характерные столбцы, – да это стихи!
Мне и в голову не могло прийти, что Федя – глухонемой алкоголик и, в сущности, большой ребёнок – мог что-то писать, создавать из вещества жизни самое совершенное, на что способно человеческое слово, – поэзию. Я пошуршал останками и прочёл первое, что можно было более-менее разобрать:
в беспамятстве кашу едят в дремучем селе
компот, кутья, бидончик с извёсткой под стулом забыт
гроб сыреет во тьме, не то что забит
народ уж навеселе…
Читая, я вспомнил поминки, заботливую старушку, угрюмого Степана, жестоко обманутую Катю… Дальше было сложно что-либо прочесть из-за корявого почерка и прожжённых мест, но уцелело окончание:
…я усну под столом, только в погреб полезу едва ль
там светлее и суше, чем здесь между шкафом и печью
закипит самовар, чьи-то руки сорвут вуаль
и беззубый старик поперхнётся своею речью
Я стоял как вкопанный и не верил своим глазам: неужели это и впрямь сочинил Фёдор? Но корявый почерк был его.
Образ простака-Фёдора и эти строки про вуаль, от которых веяло сумерками Серебряного века, загадочный беззубый старик, погреб, в который зачем-то нужно было лезть – всё это никак не укладывалось в моей голове. Язык нащупывал, вспоминая, определение (которым не так давно я щеголял в университете), чтобы выразить теперешнее состояние: ког… когни-тив-ный дис-со-нанс, – тяжело всплывало где-то в потёмках памяти. Я увидел на столе зелёную бутыль со знакомой жидкостью и машинально сунул её в карман. Уходя, наступил на что-то мягкое и с изумлением обнаружил под подошвой змеевидную леску, запутанную безнадёжно. Я поднял леску, повертел её в руках, пытаясь распутать хоть один узел, плюнул, бросил леску под стол и вышел на воздух.
Всю дорогу до избы и после, придя домой, до самой ночи я повторял изречение Сократа. Один раз по-русски: “Я знаю, что ничего не знаю”. А другой – зачем-то по-латински: “Scio me nihil scire”. И как гармонично ложились эти древние слова на деревенскую тишину! Я забеспокоился о своём душевном здоровье, потому что, кроме всего прочего, мне хотелось, подобно Диогену, с фонарём или, в крайнем случае, с зажигалкой отправиться по деревне на поиски Человека. Выпито и выкурено к этому времени было немало…
И действительно, пьяно размышлял я, лёжа на кровати, что я знаю об этих людях? Я сужу о человеке близоруко и небрежно, полагаясь на первые впечатления… Я встречаю по одёжке и провожаю по одёжке, с той лишь разницей, что во втором случае я одеваю человека сам из того, что есть в скудном гардеробе моего ума для ближнего. Воображаю себе ярмарочных кукол и думаю, что хорошо разбираюсь в людях. Добрая баба Маша, скрытный романтик Степан, гордая Катя, одинокая и стареющая Любка… Что значат эти слова применительно к сокровенным безднам их жизней? Ничего, – заключил я, гася очередной окурок. Слова фальшивят, двоятся грязными созвучьями в моём сознании – и больше ничего.
Не глядя, я сунул руку под кровать, где хранились теперь мои книги, взял первую попавшуюся, открыл на случайной странице и прочёл: “Люди, оказавшиеся выброшенными из мира гармонии, где уравновешены страсть и справедливость, всё ещё предпочитают одиночеству скорбное царство, где слова уже не имеют смысла, где господствует сила и инстинкты слепых тварей”. Взглянул на обложку: Альбер Камю, “Бунтующий человек”. Ага, стало быть, я выбрал одиночество, а не бунт. Не пошёл резать правых и виноватых, переворачивать культурные слои и припаркованные машины, сдабривая всё это зажигательной смесью… Но разве одиночество не есть бунт? Разве это одно лишь бессилье, на что презрительно намекает автор? Не подрагивает ли в ознобе сама земля от того, что я лежу здесь совершенно один, никого не любя, ничего не желая, кроме того, чтобы в пачке оставалась хоть одна сигарета? Ибо, если пачка окажется пуста, бунтовать будет незачем, думать будет незачем и жизнь потеряет свой смысл… “Нет, не подрагивает”, – ответил я сам себе, забываясь во сне.
Когда я уснул, духи выползли из печи, из грязных щелей, из сырого погреба, из тёмных углов – и стали танцевать. Когда знаешь всё или не знаешь ничего, остаётся одно – танцевать. Духи знали всё. Духи вальсировали по избе, склонялись надо мной и шептали в самое ухо: жить, жить…
13
От ледяной воды ломило зубы, стучало в висках, но пил я жадно, большими глотками, орошая высохшее нутро. Ну что ж, утеревшись грязным рукавом кофты, рассуждал я, слепые видят, мёртвые воскресают, а Федя пишет стихи. Что же в этом странного?
С похмелья изба казалась чужой. Печь со вчерашнего утра была не топлена и сиротливо молчала. Несмотря на головную боль и отвратительный вкус во рту, душевно было легче. Может, потому что в окна просачивался утренний свет, прогнавший ночных духов. Или потому что тело просило тепла и привычных действий, необходимых для растопки печи. Хочешь не хочешь, а нужно что-то делать, как-то заполнять время, выпавшее на твою долю до следующих выходных.
Растопив печь и пожевав хлеба с чаем, от нечего делать я стал бродить по дому. Вспоминались заученные прежде стихи, отрывки песен:
Через час уже просто земля,
Через два на ней цветы и трава,
Через три она снова жива…
О смысле произносимого вслух я не думал. Вспоминалось другое: октябрь, ночной вокзал, слепивший прожекторами. Нас трое. Мы стоим на мосту, курим “Космос” (потому что, по преданию, его курил Цой), посмеиваемся, сбрасываем пепел на мазутную спину бесконечно длинного поезда. Мы провожаем друга. Провожаем далеко, дальше самой Москвы, хотя ни один из нас не был и в столице края. И никто не понимал тогда, почему нужно разлучаться с другом, если он сам этого не хочет. Может, потому что его родители этого хотят (да, хотели)… или потому, что его фамилия Шакинис? Глупо как-то – родители, фамилия. И каждый сознавал в тот момент, что дороже дружбы ничего нет. И как бы трудно ни жилось тогда в стране, мы знали, что счастье не измеряется пространством или сытым желудком…
Только самых близких —
Друзей и кошек,
Собак и чёрных —
С белыми полосками.
Смеяться в поле,
Шататься на воле,
Играться в весну —
Дурачками подростками…
И где теперь мои друзья? Где их длинные волосы и ясные голоса, наивные стихи, которые мы читали друг другу на лестничной площадке? Печальнее всего, что я знаю и где они, и почему они забыли свои стихи. Каждый из них по-своему “упаковался”, встроился в систему современной жизни: остриг волосы, нашёл работу, родил ребёнка, развёлся с женой. Быть может, я просто завидую и боюсь жить так, как они. Не знаю…
Я шёл по деревне бесцельно, не выбирая пути. Было приятно слышать хруст своих шагов, не видеть ни чужих следов, ни прокатанной машинами колеи. Привычно тускло светило солнце, и меня радовало, что я разучился членить сутки на промежутки времени: мог встать ещё до рассвета, а мог проваляться до самого вечера – некуда было спешить.
В деревне так просто кричать в пустоту, не оглядываясь, не боясь, что чьи-то праздные уши сочтут тебя сумасшедшим.
– А-а-а! – срывалось вороньё с веток.
– А-а-а! – вторила эхом степь.
14
Неделя промелькнула как смутный сон. Продуктов, купленных Степаном, хватило ровно до субботы. Вместо сигарет уже пару дней я курил цейлонский чай, завёрнутый в страницы “Бунтующего человека”. Подружился с мышью. Заприметив её под столом, стал подкармливать. Мышь осмелела и несколько раз выбегала на середину кухни с вопрошающим видом. Потом она мне надоела, и я выбросил её за хвостик в сугроб. Начал писать воспоминания. Исписал толстый блокнот, а потом сжёг в печке: не понравилось. Я подумал, что не прочь бы теперь встретиться с Любкой и послушать её путаную речь.
Собрав вещи в рюкзак, постояв некоторое время в молчании в тёплой избе, – так прощаются с покойником, – я запер за собой дверь, прикрыл хлипкую калитку и побрёл к трассе.
Валенки вязли в снегу, во рту было как в заварнике, который забыли очистить и вымыть. Прождав два часа на трассе, я пришёл к выводу, что Степан не приедет. Было всё равно, но в деревню возвращаться не хотелось. Я стал ловить встречные машины. Сквозь мой внешний деревенский облик, видимо, просвечивал чужак, поэтому местные не останавливались. Я начал здорово замерзать и делать странные телодвижения, похожие на шаманский танец. Вскоре, проехав сначала далеко вперёд и остановившись, на задней скорости подползла вишнёвая “Нива”.
– До Горюново подбросите? – жалобно просипел я.
– Подброшу, садись.
Водителем оказался молодой батюшка с модной рыжей бородкой и в рясе. В салоне было тепло, чем-то приятно пахло, должно быть, ладаном. Я мгновенно разомлел и зажмурился от удовольствия.
– Здесь в такую пору и замёрзнуть можно, – сказал батюшка, выруливая на трассу. – Когда метель, машин почти не бывает. Да и местные редко чужих берут, боятся.
– Это я понял, – грустно улыбнулся я на слово “чужих”.
Пока мы ехали, я разглядывал маленький “иконостас” на передней панели, который вместе с подушкой безопасности на иных машинах, вероятно, должен был оберегать людей от смертельных аварий. Было забавно думать, что когда-то икона с трепетом наносилась на стены катакомб, затем перекочевала в великолепие византийских храмов, а теперь вот приклеивается на автомобильные панели.
– От благочинного еду, – начал улыбчивый батюшка, видимо, не прочь побеседовать за рулём. – Говорит, денег мало привожу. А у меня приход – полторы старушки, какие там деньги. Сам-то еле концы с концами свожу, да и матушка на сносях. Вот-вот пятого родит.
Батюшка рассказывал с таким весёлым видом, будто ему благочинный вручил митру, а не отчитывал за небрежное ведение приходского хозяйства.
– Перестали люди в храм ходить, – сожалел священник. – На праздники только, да и то – пьянь одна. Вот протестанты – те молодцы. К ним и молодёжь тянется. В клубе соберутся – гитары, танцы, веселье. Есть на что посмотреть. А в храме – какое веселье…
– Так они ж еретики, – решил я поддеть батюшку.
– Да хоть бы и еретики, зато не пьют и работают. Я втайне от благочинного молодёжное собрание устроил. Ребят из школы привёл. О нравственности говорили, пели. В общем, с пользой провели время.
Батюшка рассуждал современно и здраво, деловито вёл автомобиль… И всё же – нет, не ладаном пахло в салоне, принюхался, понял: хорошим мужским одеколоном. А за окном в белой степи мне чудилось бряцанье кадил, мерещились луковки церквей, погосты, странники в лаптях. И то, как странники заунывно тянули духовный стих, сыпали в мои ладони спелую землянику, кланялись в пояс, видел я уже во сне…
– Ну всё, приехали, – нарочито громко пробасил священник. И я очнулся.
Мы стояли на площади в центре села. Рядом, в чёрных клубах дыма, рычал, тужился и нагребал снежные кучи вокруг площади гусеничный бульдозер. Выйдя из машины, я почувствовал, как невидимые ледяные змеи пробираются под одежду, и невольно ссутулился. Подумал: “Градусов тридцать, не меньше”. Батюшка, колеблясь, благословлять ли меня по чину, предпочёл светский жест и нерешительно протянул руку. Я поблагодарил его, надел на плечи рюкзак и отправился в сторону рынка.
Чем-то встревоженная Любка встретила меня словами:
– Привет! Степан звонил. Сказал, что перезвонит…
– И всё?
– Всё. Сказал, что перезвонит.
Я не сразу догадался, откуда ему знать, что я вообще сюда приеду. А потом сообразил: ну да, куда же я денусь без продуктов.
Любка заметно прихорошилась. Вместо платка на ней была меховая шапка, открывавшая золотые серьги на бледных ушах. Глаза были тщательно подведены, губы ярко накрашены. Говорила она не так бойко, как прежде, а нехотя, и часто отводила глаза.
– Замёрз, поди. Хочешь? – застенчиво показала она миниатюрную стальную фляжку.
– Хочу.
Я не спеша отпивал из узкого горлышка – внутри оказался коньяк, – закусывал горячим пирожком и с лёгким сердцем посматривал на голый прилавок. Было приятно ничего не делать, ни за что не отвечать, никому не быть должным. Беспокоило только отсутствие Степана и его обещанный звонок.
– Ну что, согрелся? – загадочно улыбнулась Любка, и тут же у неё запищал мобильник.
Загадочность вмиг исчезла, когда она визгливо, по-базарному заговорила в трубку:
– Да! Приехал! Здесь он! Даю…
Любка протянула телефон. Звонил Степан, но говорил словно бы кто-то другой, сдавленным голосом:
– Значит так, студент… эта… В общем, Федька повесился. В туалете его нашли, значит… на батарее он… Поэтому я не смог. Ты там… эта… У Любки, что ли, денег займи. Мне пока некогда. Давай…
15
В зале у Любки без звука мерцал старенький телевизор. Она включала его машинально, когда приходила домой. Узнав, что произошло, поохав и повздыхав немного, Любка, как умная баба, ни о чём меня больше не спрашивала. Пока я тупо смотрел в экран, она возилась на кухне: хлопала дверцей холодильника, собирала на стол. Сына в этот вечер она оставила у бабки. Я слышал, как в ванной зажурчала вода, потом раздался её голос:
– Пойди поешь, готово уже.
Я не отозвался.
По телику показывали голливудский фильм. В детстве, когда у телевизора пропадал звук, я сам придумывал диалоги героям. Теперь мне захотелось поиграть в ту же игру. На выстриженном газоне в обнимку сидела молодая парочка:
– Ты меня любишь, Стив?
– Конечно, дорогая.
– А ты чистил зубы “Кометом” сегодня утром?
– Но, милая, “Комет” – средство для раковин. Я чищу зубы “Колгейтом”.
– Ну да, как я глупа. А ещё читаю Бердяева перед сном…
Занятие быстро наскучило. Я поднялся с дивана и стал осматривать комнату. На стенах висели ковры. Чуть ли не полкомнаты занимал пыльный сервант, за стеклянными створками которого виднелись тарелки, рюмки и нелепо прислонённые к ним фотографии родни. “Неужели это тот самый муж, уехавший за счастьем?” – рассматривал я угрюмое низколобое лицо с хитрыми щёлками вместо глаз. А это, наверное, её сын. На меня смотрел белобрысый мальчуган в костюме мушкетёра и смешном новогоднем колпаке. Вот вырастет в этом селе, тоже станет угрюмым и вместо глаз появятся щёлки…
Любка вошла тихо, незаметно. На ней был розовый китайский халат, выделявший соблазнительно тяжёлые бедра. Она делала вид, что смахивает с волос остатки влаги.
– Я уж думала, ты поел, – лукавила Любка, вороша голову полотенцем.
– Что-то не хочется, – ответил я вяло.
– Ну, пойдём хоть чаю тогда выпьем.
Закурив на кухне, я заметил, как аккуратно, по-женски был сервирован стол. Появились чашечки, блюдца, салфетки, мельхиоровые ложечки. Всё это она приготовила для меня. Ей, как когда-то в юности, хотелось понравиться, угодить мужчине, чтобы на неё смотрели как на женщину, а не как на Любку-торговку. Я не фальшивил, когда мельком взглядывал на оголившееся колено или приоткрывшуюся полную грудь, которую она тут же закрывала. И, как всякая одинокая баба, она ловила, угадывала мои взгляды, даже если стояла ко мне спиной, и бережно клала в заветную женскую шкатулку.
– Ты, чем курить, варенье лучше попробуй. Сама варила.
И я пробовал варенье, закусывая пирогом и запивая чаем. А Любка, глядя на меня, сияла.
– Федя-то этот другом тебе, что ли, приходился? – осторожно спросила хозяйка, сделав грустное лицо.
– Ага, другом, – нехотя ответил я, отхлёбывая из кружки.
– Беда-то какая…
А я отчётливо сознавал, что ничего не чувствую, никакой беды. Что если я и задумывался, почему это могло произойти, то на ум лезло лишь “наверное, так надо” – мантра, рождённая в деревенском подполье; что меня теперь больше беспокоит волшебный мир, кроющийся за китайским халатом, нежели диалектика Фединой жизни. Беззубый старик, вуаль, прорубь, детское улыбающееся лицо – вот и все воспоминания…
– Ты допивай. Я тебе на полу постелю, – почти шёпотом сказала Любка и ушла в зал.
Мне не пришлось спать на полу. Не помню, как так случилось, но я увидел “волшебный мир” во всей его трепетной наготе: как скользнул розовый халатик на шершавый пол, как почувствовал губами тепло её живота и мелкую дрожь голодного женского тела…
После она гладила меня по голове, лежавшей на её теплой груди, утирала мне слёзы и матерински шептала: “Ну чего ты… Ведь так было хорошо. Друг твой теперь на небесах, с ангелами. А тебе жить надо, жить…”
16
ПОСТ ИЗ БЛОГА КАТЕРИНЫ
Сижу за ноутбуком, согреваюсь горячим кофе и глажу хитрющего в мире кота. За окном крупными хлопьями идёт снег. Чудно! А ещё неделю назад я была в дремучей глуши, где разве что не воют волки, о чём и хочу вам рассказать.
Я поехала в деревню, чтобы забрать бабушку в город. Бабушка у меня старенькая, больная. Мама наказала какими угодно способами выманить её оттуда. Пожилым людям, знаете, свойственны предрассудки. Они хранят старые фотографии, заплесневевшие платья и прочее старьё как некие сокровища. А меж тем не замечают, что о них заботятся дети и внуки, и не понимают, что в избе с прогнившей крышей и щелями в указательный палец жить опасно. Бабушка до сих пор порывается от нас сбежать и боится ходить в цивильный туалет, потому что, дескать, оттуда “всё слышно”.
Приехав в деревню, я оказалась в тёмном Средневековье. Бабушка велела смыть всю косметику (ибо негоже перед покойницей), переобула меня в валенки и дала старый платок на голову. Да, забыла сказать, что я сразу же попала на похороны. Умерла старая подруга моей бабушки. И мне теперь трудно представить, что я провела какое-то время в этой глуши, с гробом, который волокли до кладбища пьяные мужики и, не поверите, роняли его несколько раз с саней. О безобразных поминках я вообще молчу. Мужики пили самогон и закусывали варёными яйцами. Ужас! В избе было накурено так, что хоть топор вешай. Ну, теперь вы немного представляете, куда я попала…
В этой деревне я встретила одного парня. Он сказал, что приехал собирать фольклор, но я ему не поверила. У него была борода, от его толстой кофты ужасно пахло потом. Честно говоря, до сих пор не понимаю, что он там делал. Он мнил себя каким-то затворником. В его доме я обнаружила много книг (поминки справляли у него), и на деревенского алкоголика он не был похож. Не думаю, что его хватит надолго. А впрочем, он мог бы послужить интересным персонажем для рассказа. Так что дерзайте, писатели! Вопросы о подробностях пишите в личку.
P.S. А ещё я решила наконец перебраться с моим парнем в Питер! Да-да, в Питер. Неужели я свалю из этого города… Билетики на самолёт красуются между двумя яблочками на столе и манят адски. Я уже затрепала путеводитель по северной столице и отметила, куда мы пойдём в первую очередь. Лиза, думаю, ты догадываешься, о чём я… ха-ха!
17
Нет ничего тоскливее бледного холодного утра в чужой квартире.
Я неслышно выполз из-под одеяла, подобрал с пола вещи, оделся, не умываясь, с оглядкой на смятый бугорок. Лицо женщины было расслабленным, некрасивым. Рот был чуть приоткрыт, и в несвежем углублении виднелась, поблёскивая, дешёвая металлическая коронка.
“Люба, Люба…” – шевелились искусанные ею губы.
Скорым шагом я направился в сторону трассы. Меня слегка подёргивало и пошатывало. Не было желания думать, от чего – от температуры или больных нервов. Возможно, от того и другого. Ленин, возвышавшийся над площадью, указывал в правильном направлении – в сторону обетованной трассы, от которой я чего-то ждал, за которую цеплялся, как за последнюю возможность выбраться из подполья.
Машин не было. Дорога была пуста и уходила широким заснеженным ковром в город моего детства. Теперь я сознательно хотел удрать от всей этой тишины – припасть к телевизору и бессмысленно тыкать кнопки до изнеможения. Или уткнуться в пустую книжку с пёстрой обложкой и зачитать до дыр (и перечитать). А потом сесть переписываться со всеми, знакомцами и незнакомцами. И больше-больше этих идиотских смайликов, прикрывающих слабоумные фразы, больше позитива и громкой музыки… Отрекаюсь! Отрекаюсь от тебя, тишина!..
До въезда в город меня подбросил приблатнённый парень на “шестёрке”. Всю дорогу в салоне шумело радио. Водитель, надвинув кепку на глаза, курил одну за другой и лишь в конце пути зачем-то спросил меня, не прячусь ли я от ментов.
С южной стороны город смотрел суровым урбанистическим пейзажем. Над одинаково серыми пятиэтажками и тополями возвышались некогда горячие и пульсирующие, а ныне пристыженно молчащие заводские трубы. Город держался заводами, гордился заводами – когда-то. Когда заводы были градообразующим очагом, системой, богом. Вместе с трубами остыли и людские надежды. За мной наблюдали хитрые глазки пацанов, кучкующихся у подъезда.
– Смари, Колян, нарик, чо ли. Давай окучим…
В городе не было страшно. Даже местные гопники, которые в прошлом оттаскали меня за волосы и отбили бока так, что я заплевал тротуар кровью, казались хорошими, но несчастными людьми. В этих ребятах, по колено стоящих в семечной шелухе, нервно трепещет сердце и жаждет осуществления немедленной правды: “Правда в том, братишка, что ты неправ, а таких не должно быть в нашем районе. Получай…”
Словно подросток, я задыхался влюблённостью в свой город. Хотел обняться и поговорить с каждым встречным, спросить – как дела, что нового… На меня смотрели как на помешанного. Девушки морщились, старики брюзжали, пацаны напрягали шейные жилы.
Я остановился у теплотрассы, где блестела небольшая лужица и мирно сидели нахохлившиеся голуби. Склонившись над водой, я болезненно всматривался в мутное отражение, где не то улыбался, не то собирался заплакать маленький мальчик, чем-то похожий на меня. Когда рябь прошла, я отчётливо увидел шапку-ушанку со звёздочкой, детское пальтишко, большие удивлённые глаза… А потом пришла темнота.
Стоит ли рассказывать, как я отлёживался в родительском доме, как мама водила меня к психологу и я, чувствуя вину перед ней, обещал ходить на каждый сеанс. Как взял академический отпуск и удалился из социальных сетей, чтобы никто не приставал с вопросами. Как устроился консультантом в магазин бытовой техники, но вскоре уволился, не поладив с начальником. Как работал дворником и сметал осеннюю листву на обочины, любуясь на то, как раннее солнце освещает пустоту ещё не проснувшегося города… Ну вот, сам того не желая, рассказал всё. Что ещё добавить… Не так давно я стал снова думать о деревне. Но – не как раньше. Теперь я общаюсь с ней на расстоянии.
Деревня есть тайное прибежище моих мыслей, сумрачное и дикое, куда я часто сбегаю, закрыв глаза, и тогда в заснеженных окнах моей избы загорается свет.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































