Текст книги "Лицей 2019. Третий выпуск"
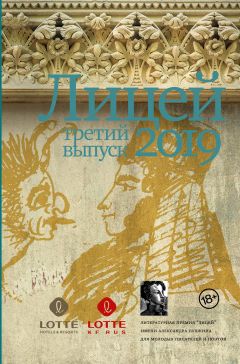
Автор книги: Оксана Васякина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Дорога домой
Погода выдалась слякотная, бабья, с пломбирным снежком, лужицами, почти апрельская, хотя на календаре – первое ноября. Прошлый ноябрь я хорошо запомнил. Было не так. Закостеневшая серая земля, скупо присыпанная снегом, смотрела мрачно и торжественно, как на кладбище. Дули пронизывающие ледяные ветра. Люди отогревали кровь водкой и батареями. На улицах было меньше легкомыслия и суеты. А нынче погляди в окно…
В этот день я решил поехать домой, в город моего детства. Ехать не хотелось, настроения не было. Думал: пойти бы теперь по привычному чавкающему маршруту – от дома до работы (и обратно), только бы не сворачивать на слякотный и мрачный железнодорожный вокзал. Любой, даже самый приличный человек, попав в бермудский треугольник вокзала, становится похожим если не на урку, то на очень подозрительного гражданина. И, судя по реакции встречных прохожих, на тебя смотрят ровно таким же образом. Но делать нечего – на работе объявили “праздничные дни” (о самом празднике, ей-богу, ничего не знаю), значит, надо ехать.
Иду на вокзал. Покупаю билет в кассе для пригородных поездов. Мне говорят:
– Только “стоячие” остались. Брать будете?
Простаивать шестичасовой путь в поезде мне не приходилось. Нет уж, схожу на автовокзал, авось повезёт. Прихожу – тёмные, змеевидные, шевелящиеся очереди с туманными, как сама погода, перспективами. Бегу обратно к железнодорожной кассе. Становлюсь в очередь. Передо мной полная женщина с огромной клетчатой сумкой растерянно спрашивает:
– А стоя – это как?
Немая сцена. Пауза повисает в чахоточном, влажном, тревожном воздухе. Я покупаю “стоячий” билет и направляюсь к перрону.
На перроне люди накуриваются до кашля, до тошноты. В тамбуре теперь нельзя, запрещено законом. Голос из динамика оглашает отправление. Я присматриваю себе место в тамбуре, у жёлтого, когда-то и кем-то прокуренного окошка. Обладатели “сидячих” билетов набивают собой вагон до предела, как сельди банку, и, изнемогая от духоты, часто дышат в светящиеся экраны телефонов. Поезд трогается.
Я стою и смотрю в окно, крепко ухватившись за холодный металлический стержень, отражая зрачками розово-мутный закат ускользающего города. Чёрные лесные прорехи кажутся бесформенными и таинственными, как тёмная материя, способными затянуть в свою глубину не только случайный отблеск человеческих глаз, но и сам поезд с людской сонной беспечностью, двухвостие железнодорожного полотна, вереницу встречных станций и сёл… Огарок заходящего солнца с шипением потухает за неведомой чертой горизонта. Мерный стук колёс сопровождает меня в неизвестность, где границы человеческого пространства стираются, и взору открываются мерцающие степные дали…
Домой всякий раз едешь по-новому – то с тревогой, то с радостью. Там – дома, в маленьком провинциальном городке, где лежат руины когда-то гремевшего на весь Союз тракторного завода и появляются как грибы кислотно-яркие супермаркеты, – ничего не осталось, кроме родителей и первого крика. Ничего – кроме серого неба и людей, карабкающихся в паутине повседневности. Прошлое заросло горькой полынью, зерно умерло, чтобы прорасти в новой земле, для новой жизни…
Память просыпается только здесь, в пограничности поезда. Она идёт на ощупь в сумерках прошлого, запинаясь о детские игрушки, путаясь в бельевых верёвках, цепляясь и ранясь в кровь о тополиные ветки, пронзающие звёздную муть. И тут действительность меркнет… Я начинаю забывать город, из которого только что уехал, чавкающий рабочий маршрут, лица знакомых, мельтешащий снег, – робко осязая чьё-то немолодое измученное лицо и влажные глазные впадины. Неужели это я?..
– Ты, – говорит мне посторонний голос. – Выпить хочешь?
Оборачиваюсь. Вижу двух парней в шапках-гондончиках и в чёрных одинаковых пуховиках. Они пьют что-то крепкое и чистое, как январь, – они тоже обладатели “стоячих” билетов. В их словах чувствуется тепло и забота о ближнем, но лица обнаруживают иронию к отстранённому мечтателю с крашеной прядью выбившихся из-под шапки волос.
– Спасибо, не хочется, – отвечаю я.
– Смотри, замёрзнешь, – говорит попутчик, улыбаясь широкой улыбкой. И тут же обращается к своему приятелю: “Эх, закурить бы…” – вызвав на его лице улыбку молчаливого согласия. Но закурить нельзя. Зато на выпивку сонные проводницы лишь устало косятся и шелестят дальше по вагону. Дать замёрзнуть пассажирам в холодном тамбуре им явно не позволяет совесть.
Едем дальше. Прежние мысли рассеялись. Я стал невольно прислушиваться к разговору попутчиков, внешне похожих на студентов. Но я ошибся, это были не студенты.
Оказалось, что ребята приехали в город из маленького села на заработки. Со скрипом окончив среднюю школу, они успели сходить в армию, разругаться с родителями и корешами – в период длительной и бесшабашной дембельской эйфории. У коренастого и улыбчивого Димона сорвалась свадьба с одноклассницей, а у худого и угрюмого Славика по пьяни задавило трактором отца. Дембельская вольница в прошлом. Теперь они поутихли, присмирели, отдышались на свежем сибирском воздухе, глаза посерели и прищурились. Нужно было как-то жить дальше. И два школьных приятеля, с надеждой на долгую счастливую жизнь, отправились в краевую столицу, чтобы стать победителями, а стали простыми рабочими на стройке в центре города. Благодаря их усилиям к небу медленно поднималось значащееся в бумагах как “офисный центр” большое пятнадцатиэтажное здание.
– Как думаешь, трахнул он мою Любку тогда, на выпускном?.. – услышал я последнее из разговора попутчиков, прежде чем зайти внутрь вагона – погреться. И плотно закрыл за собой дверь.
В вагоне не продохнуть. Я встал рядом с вагонным “самоваром” (похожим на самогонный аппарат), от которого жарило, как от русской печи. Но находиться вблизи огня и чувствовать, как отогреваются замёрзшие конечности, было приятно. Через заляпанное стекло двери я видел беззащитные, потные, чуть подрагивающие тела спящих людей. И их почему-то было жалко.
В купе для проводников через приоткрытую дверь я заметил красивую девушку в тёмно-синей железнодорожной форме. Когда я окликнул её, она, кажется, разгадывала кроссворд, забавно, как школьница, покусывая колпачок шариковой ручки.
– Кофе?
– Ага.
– Вам с сахаром? – охотно суетится она в шкафчике, где хранятся дешёвые сладости и напитки.
– Да, если можно – два.
– Ой, а сахара нет, – виновато улыбается проводница. – Может, шоколадку возьмёте?
– Не нужно. Просто кофе.
Приятно, когда миловидная девушка, пусть и по долгу службы, оказывает внимание: шуршит пакетиком, волнуется, прячет глаза. Цена услуги – пятнадцать рублей. Должно быть, она недавно на этой работе. Есть и другие проводницы – бывалые: крашеные блондинки за сорок с жёлтыми отёкшими лицами, цедящие в твой стакан сырую тёплую воду. Их тоже жалко, как и спящих людей. Подумал: бесконечный путь – не ведущий даже к самому завалящему, самому захудалому счастью. А дома сны с лицами непрошеных пассажиров, после – томительный рейс, опять сны и мелькающий телевизор в пустоте комнаты. И через несколько лет, будьте любезны, конечная станция…
Я смотрю в тусклое стекло и вижу человека с застывшим взглядом, жадно глотающего дешёвую горечь из пластикового стаканчика, а если сморгнуть это видение, взору откроется мутная движущаяся степь с одиноко мерцающими огоньками. Я мысленно оставляю себя одного в степных сумерках и, завязнув в сочной грязи под звёздным небом, прислушиваюсь к звуку удаляющегося поезда…
– Простите. Не подскажете слово из семи букв? – слышу за спиной голос девушки-проводницы.
– Что? Да, конечно.
Оборачиваюсь. Вижу её умный, пытливый взгляд, робость и нетерпение.
– Философское понятие, способ идеального человеческого существования вопреки социальной и биологической необходимости? Семь букв. Я решила, что счастье…
– Счастье? Надо подумать.
– А вы проходите в купе. В ногах правды нет, – сказала она банальность и натянуто улыбнулась.
– Но правды нет и выше, – зачем-то сболтнул я, вошёл в купе и сел рядом.
В окошке замелькали размытые огни, привокзальные хижины, мрачные товарняки. Поезд нехотя тормозил, вползая на незнакомую станцию. Яркие прожектора обнажили его зловещее гусеничное тело.
– Ой, я пошла, – пролепетала девушка и выпорхнула из купе.
Через минуту я почувствовал сумеречное дыхание станции с примесью осенней гари и сигаретного дыма. По ногам загулял холод. Из вагона вышли два пассажира – девушка-студентка и её пожилая мать в каракулевой шапке, волочащая за собой непонятно чем набитый старомодный рюкзак. Девушка с чёрной женской сумочкой, вероятно, стеснялась матери и ядовито подгоняла её, приглушая слова, но выразительно интонируя шипящими. Станция была незначительная, пятиминутная. Проезжая подобные места, я всегда думаю, как бы мне жилось здесь и что бы я стал в этой глуши делать. После некоторого размышления и вглядывания в безлюдные одичалые дворы, словно бы брошенные кем-то небрежно в поле, мне всегда делается страшно. А живут ли там вообще люди? И если живут, то как…
Вскоре вернулась красивая проводница, и мы познакомились.
– Иван.
– Очень приятно. Катя.
Я попросил ещё кофе, а она налила себе чаю. Я осмелился угостить её шоколадкой. Она согласилась. Так мы перешли на “ты”.
– Теперь станция не скоро будет, – сказала девушка. – Можно кроссворд погадать.
– По-моему, ты ошиблась.
– В смысле?
– Насчёт “счастья”.
– У тебя есть другой вариант?
– Да. Я над ним думаю.
– Интригующе, – ухмыльнулась она.
– Да пустяки… Ты где-то учишься?
– На психолога, заочно. А здесь подрабатываю.
– Я так и понял.
– А ты?
– Где учусь? Да нет, я работаю… Актёр театра.
– Интересно.
У “самовара” показалось сонное, добродушное лицо старушки в сером пальто. В руках она держит предварительно вынутую из целлофанового мешочка личную дорожную кружку. Кружка жёлтая, с гротескным изображением сисястой бабы и надписью: “С днюхой, мужик”.
– Деточка, налей кипяточку. А чай у меня у самой есть.
За окном уже ничего не мелькало. Стояла тёмная пелена, и только звёзды знали, как черно и страшно в холодной степи, как трудно одинокому, хмельному, забредшему кривым путём к блистающим под луной рельсам, не положить на них свою шальную голову.
– Дай тебе бог здоровья, милая. А чая не нужно, у меня и у самой чай найдётся…
Старушка медленно уходила в душную утробу вагона и долго ещё что-то бормотала сама себе.
– Слушай, Кать. А те двое в тамбуре ещё стоят?
– Стоят. Точнее, сидят на корточках.
– Я пойду… выйду ненадолго.
– Зачем? Ты ведь слово обещал сказать…
– Я только воздухом подышу и вернусь. Душно тут.
И зачем нужно было говорить ей, что я актёр, когда я всего только простой как рубль консультант отдела бытовой техники в гипермаркете. Не понимаю…
Я зашёл в сортир, смыл с лица холодной ржавой водой стыд и жирный пот, назойливо выступавший в душном, натопленном вагоне. Ну да, понравиться ей… Я смотрю в мутное зеркало, зализывая назад мокрыми ладонями отросшие за полгода волосы. Надо бы подстричься. И этот эксперимент с крашеной прядью под седину – какая всё-таки глупость… Ну не рассказывать же ей о том, как изо дня в день я надеваю белую рубашку, дурацкий бейдж и с усталой полуулыбкой, при полном отсутствии жизни в глазах, объясняю похотливой домохозяйке, как пользоваться кофеваркой. Поэтому отныне я актёр… Маргинальное пространство несущегося во тьму поезда позволяет быть кем угодно, всё здесь подвешено в воздухе, оторвано от привычной жизни, и возможность повторной встречи с попутчиком ничтожно мала… Однако надо выбираться из сортира.
Так и есть. Они до сих пор в тамбуре. Сидят на корточках друг против друга в железном прямоугольнике с зарешёченными окнами, будто в карцере.
– О, снова ты! Погреться пришёл? – пошутил улыбчивый Димон. – Выпьешь?
– Выпью, – ответил я.
– Ну, садись, дружище. В ногах правды нет.
Я присел на корточки. Славик одобрительно осклабился и сделал глоток из горла́.
– Я – Дима, он – Слава. А тебя как звать?
– Иван.
– Дай ему, Слав, пускай погреется. Извиняй, мы без закуси.
– Да нормально всё, – я отпил из бутылки.
– До конечной?
– Ага.
В бутылке были русские луга, похороненные до весны, выстуженные до ковыльей кости. Точнее, водка называлась “Русские луга”, но вкус оправдывал название. Помнится, такую я пил в юности. Тогда всё равно было – что есть, что курить, что пить. И дорога казалась странствием, а не поездкой по необходимости. Алкоголь подействовал как обычно – потянуло на философию.
– Вот ты сказал, что в ногах правды нет, – обратился я к Димону. – Интересно, что не ты первый, кто сегодня мне об этом говорит. А в чём, по-твоему, правда?
– Ну, ты загнул, дружище, – заулыбался Димон. – Ты как в кино, это… Как его… Славик, как кино называется про Данилу, это, “в чём сила, брат”?
–“Брат” и называется, – нехотя ответил Славик.
– Ну да, “Брат”. Там: в чём сила? – в правде. А ты теперь, типа, спрашиваешь: в чём правда, брат? Так, что ли…
Димон истерично захохотал. Его разгорячённое прыщавое лицо странным образом контрастировало с застывшей “маской” Славика, бледной, словно у актёра китайского театра.
– Да нет никакой правды, – неожиданно заговорил Славик. – Для вас, городских, правда, может, и есть. Волосы вон покрасил в другой цвет – вот тебе и правда. – Он презрительно кивнул на мою прядь. – А у нас своя правда. Вот нас со стройки погнали с Димоном – одна правда…
– С третьей уже, – вклинился тот.
– Да неважно с какой. Теперь домой едем. А дома мать без работы сидит, больная, отца недавно схоронили – другая правда. Село наше – дыра. Работы – нет. Либо пьёшь, либо в город едешь калымить. А в городе ты нахрен никому не нужен…
– Это ты зря, дружище, – не согласился Димон. – Оклемаемся маленько и снова в город рванём.
– Рванём, – горько ухмыльнулся Славик, – ну да, деваться-то некуда.
– Чё ты ноешь? По-твоему, мне вздёрнуться надо было, когда за меня Любка не пошла?
– Нашёл из-за кого вешаться. Школьная любовь. Да всё село знает, что она блядь.
– Чё ты сказал? Ты кого блядью назвал, чмырина…
Димон ощетинился и полез на Славика. Я отвернулся. В окошке снова замелькали привокзальные огни. Кажется, станция.
– Ребят, не ваша станция? – ляпнул я наугад.
– А… Чё… И впрямь наша!
С крыши одноэтажного бревенчатого здания грустно смотрело выцветшее название станции – “Победим”.
Школьные друзья возились на холодном железе не более минуты. Вскоре появилась Катя с испуганным лицом и вопросительно на меня посмотрела. Улыбкой я дал ей понять, что “всё хорошо” – обычная ссора, обычная станция, жизнь продолжается.
Пацаны вышли из вагона. Молча, в знак примирения, дали друг другу прикурить и неспешно отправились по грязной дороге в осеннюю мглу.
– Катя, скажи мне как будущий психолог, почему в юности дорога казалась длинной, красочной и интересной, а теперь она стала просто длинной?
Я снова сижу в купе и пью кофе. Катя – чай. Я стараюсь не дышать в её сторону и прячу глаза.
– Не знаю. Я только учусь, – сухо сказала она, вероятно, учуяв запах.
– Тогда я сам тебе скажу. А ты слушай и запоминай. Это может тебе пригодиться. Так вот. Раньше дорога была праздником…
Поезд медленно набирает скорость, ровно отстукивая унылые ритмы, унося тела людей в какое-то неизвестное будущее, а меня – в прошлое. Не устаёшь смотреть в окно на нескончаемый гениальный пейзаж. Словно из поезда сделали новомодный арт-объект и повесили на окна копии полотен художника Сурикова.
– …а теперь – нет. Вот и вся психология.
– Интересное наблюдение. Обязательно упомяну об этом в дипломной работе.
– Конечно, упомяни. И не дуйся на меня. Нельзя сердиться на человека, у которого есть дом, но нет желания туда ехать. Это сложная внутренняя драма. Тут одной психотерапией не обойдёшься…
– Слушай, – как бы спохватившись, перебила Катя, – сейчас начальник поезда может прийти. Ты не мог бы пока в тамбуре постоять?
– Мог бы, – спокойно ответил я. – Но, как пассажир, я могу купить ещё кофе?
Катя сверкнула глазами и вышла в соседнее купе.
Ну вот и хорошо. Вот и ладушки. Я взял ручку и печатными буквами вписал недостающее слово из семи букв – “свобода”.
В тамбуре свежо, тесно и одиноко. Но, Господи, как хорошо! То ли от водки, то ли от выполненного долга: слово я всё-таки отгадал. Поезд тянулся к очередной заброшенной в глухомани станции и лениво подавал кому-то сигналы, точно отпугивал волков: у-у-у… у-у-у…
Вот дверь. За дверью что-то мерцает и величественно молчит. Какая красота! Постояв минуту в раздумье, я подался вперёд, открыл боковую тамбурную дверь, осмотрелся и прыгнул в ночь…
Тишина. Степь равнодушно приняла меня в старушечьи объятья. По правую сторону, где скрылся чёрный хвост поезда, горят редкие человеческие огни. По левую – тьма, хоть глаз выколи. Там черти следы заметают. А над головой – звёзды.
Мышиные песни
Дом Евлохи смотрел на одну из главных улиц большого города. Бревенчатая изба досталась ему от деда с бабкой, а родителей своих он не помнил. Оба спились ещё в девяностые, оставив задумчивому младенцу странное имя Евлоха, букет хронических заболеваний и тайну жизни.
В детстве, когда бродившее до времени сознание несколько отстоялось, Евлоха впервые почуял мир. Это была тесная комната с мутным зеленоватым оконцем, чаще холодная и сырая, реже душная и вонявшая дегтярным мылом. Тогда же, в тёмном углу обретённого мира, он познал счастье. Оно изредка появлялось на порожке в закопчённой кастрюле и пахло матерью. Забравшись под банный полок, мальчик упоённо и шумно чавкал счастьем, а после сидел на прогнивших досках и пел мышиные песни.
Дед с бабкой, будучи опекунами, померли. Их увезли куда-то за город и зарыли в землю. Евлоха знал, что за городом есть огромная свалка и старое кладбище, но куда именно увезли его родственников, он не знал. С тех пор Евлоха жил один в доме.
Евлохе было чуть больше двадцати. Он выглядел худощавым юношей с голым, как яйцо, черепом и кроткими голубыми глазами. У Евлохи никогда не было друзей, чужих людей он боялся, а родные все померли. Юноша редко выходил из дома: спал у печи, варил картошку, раздувал красные меха на дедовском баяне и пел песни. Дед кое-чему научил внука, и потому звуки не разбегались по-тараканьи, не шепелявили, а послушно выплывали из-под его тоненьких пальцев, складываясь в цветные замысловатые картины, которые видел и которым тихо улыбался Евлоха.
Однажды, услышав игру на баяне, его позвала на поминки соседка, у которой умерла дочь. Женщина сказала: “Утешь сердце, Евлоха. Не придёшь – ищи меня завтра в сарае на петельке”. Евлоха не умел отказывать людям. Вечером у соседки, когда была выхлебана поминальная лапша и выпита водка, он, сидя на лавке, пел мышиные песни, создавая в воздухе невидимые людям картины. Ему говорили: “Чего ты там пищишь, Евлоха?” – и усмехались, хоть и поминки. А он смиренно отвечал: “Я не пищу, я пою”. И вспоминал далёкое детство с материнским счастьем в кастрюле, духотою, мышиною вонью и оконцем, в котором грезилась новая жизнь, оказавшаяся не такой уж чудесной – из-за людей и лишнего шума.
После смерти стариков первое время Евлоху подкармливали их добрые знакомые, тоже старики, понимая, что он всё равно как дитё малое. Но потом и те померли, и пришлось парню кормиться самому. Поразмыслив тогда, походив по скрипучей избе, Евлоха решил, что крепко знает лишь одно дело – петь под баян мышиные песни.
Евлоху стали замечать у главного супермаркета в центре города. Обычно он стоял у входной двери, нарядный, спрятав шею в бабкин цветастый платок, и в дедовских шароварах. Горожане видели в нём дурачка и порой бросали в коробку звенящую мелочь. Когда люди возвращались с пакетами домой, то говорили домашним своим, что встретили сумасшедшего, который не поёт, а пищит что-то на птичьем языке. Говорили они так потому, что не знали мышиного языка, да и птичьего не знали и плохо знали родной язык, русский. Потом они громко смеялись, потому что казались себе остроумными людьми, ели купленную еду и садились у телевизора. Лишь однажды напротив Евлохи остановилась бледная девушка в берцах и в шляпке с зелёной вуалькой и полдня слушала его песни. Вряд ли она понимала мышиный язык, просто Евлоха в тот день слегка пританцовывал и в болезненном воображении девушки казался сказочной птицей.
Так Евлоха и жил в своей избе, кормился чем Бог послал, а по вечерам, когда упражнялся на баяне, жёг церковные свечи, которые изредка приносила ему набожная соседка. Юноша мерил качество своего мастерства тем, как часто из норок выбегали хвостатые ценители: замирали они с робким любопытством или же суетливо вычищали крошки из-под стола. Особенно радовался Евлоха, если какой-нибудь мышонок без страха забирался на его колено и весело шевелил хвостиком, выражая тем самым мышиный восторг.
Как-то осенью, когда Евлоха растапливал печь, избу оглушил злой некрасивый звук, спугнувший мышат и нарушивший тихую ауру жилища, – кто-то стучал в окно. Выйдя во двор, усыпанный лимонной листвой, Евлоха увидел большого чёрного человека, а у ограды – большую чёрную машину. Незнакомец спросил:
– Ты Евлоха?
Евлоха ответил, что – он.
– Тогда слушай сюда, – сказал чёрный человек. – Место тут подходящее. Мы тебе рекламу на забор повесим и раз в месяц будем подкидывать деньжат. Согласен?
– Согласен, – ответил юноша.
Евлоха не умел отказывать людям.
Утром он увидел на заборе плакат с крупной надписью “Эрос” и ещё какие-то мелкие буквы и цифры. Евлоха решил поинтересоваться, что означает слово “эрос” и не значит ли оно чего-нибудь плохого. Он разыскал в доме тяжёлый дедовский словарь и прочёл первое, что встретилось его глазам: любовь. Эрос – значит любовь. Евлоха знал, что любовь – это хорошо. На том и успокоился. К тому же в последнее время от супермаркета его стали гнать охранники, а однажды увели за угол и разбили лицо в кровь. “Будут мне денежки на хлеб да на молоко”, – грезил Евлоха.
Когда в другой раз к Евлохе снова пришла соседка, он подумал: “Не помер ли ещё кто?” Но оказалось, что никто не помер, а, напротив, соседка была беременна. Она сделала смиренное лицо, какое делала в церкви, и сказала:
– Нехорошо, Евлоша. Ой, нехорошо…
– Что – нехорошо? – удивился тот.
– А вот реклама на твоём заборе – нехорошо. А то, куда она указывает, – совсем плохо.
– А куда она указывает? – встревожился Евлоха.
– На очень нехороший магазин она указывает, – лукаво улыбнулась соседка. – Батюшка на исповеди сказал, что сжечь её надо.
– Кого сжечь – магазин?
– Да не магазин, дубина… Рекламу ту сжечь надо! А не сожжёшь – сам сгоришь в геенне огненной, – заключила женщина.
Затосковал Евлоха. И деньги, которые ему действительно раз в месяц привозил чёрный человек, не радовали, и продукты, купленные на эти деньги, казались пресными и безвкусными, точно вата; и песни мышиные сочинялись реже, так что зверьки совсем было перестали выглядывать из потайных норок. Вроде бы и жил Евлоха, а на деле – плоть свою, распухшую от харчей, носил и спал больше прежнего.
Уже зимой, мучаясь бессонницей в долгую сибирскую ночь, Евлоха запалил церковную свечу и в одной рубахе вышел во двор. Ночь тихо смотрела на него россыпью звёзд, точно мёртвыми светлячками, приколотыми к чёрному полотну. Чуть ниже горели окна высоких новостроек, жизнь в которых так и осталась для Евлохи тайной. “Зачем они торопятся, бегут куда-то, смеются резиновыми ртами и мало любят…” – думал он про себя.
Евлоха поднёс свечу к нехорошему плакату. Баннер стал неохотно плавиться, ядовито зашкворчал, затем вспыхнул и запылал во всю мощь, освещая пламенем ветхую избу, заснеженный двор и часть злополучного проспекта. Реклама сгорела быстро, а схватившийся огнём забор юноша проворно забросал снегом. В ту ночь ему спалось как никогда сладко. Снились добродушные мышата, дед с бабкой и бледная девушка…
Через какое-то время в “горячей линии” местного телевидения промелькнула информация о поджоге частного дома с человеческими жертвами на таком-то проспекте. Но высокий серебристый тополь увидел это событие иначе.
Зеваки, отойдя на безопасное расстояние, снимали пылающую избу на телефоны. Соседка охала и причитала у себя в ограде: “Говорила тебе, Евлоша, сгоришь в аду” – и поглаживала круглый живот. Чёрный человек скучно наблюдал из окна автомобиля, чиркал зажигалкой, курил, думая о новой поставке искусственных женщин. Бледная девушка в берцах и шляпке стояла на другой стороне улицы с вялой улыбкой на губах. Никто, даже серебристый тополь, не знал, откуда она взялась. Впрочем, она одна слышала, как из-под развалин догорающего дома мыши пели прощальную песнь своему хозяину. “Панихида”, – подумала девушка. И не ошиблась.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































