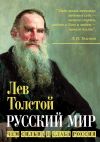Автор книги: Олег Давыдов
Жанр: Эзотерика, Религия
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Шаманские экскурсы. Толстой и бог Кафки
Итак, смерть дала Толстому совет: не разменивай жизнь на пустяки, вроде купли поместий. И потом всякий раз, как он хотел предпринять, что-нибудь в жизни, спрашивала: «Зачем? Ну, а потом?» Конечно же, это отнюдь не вопросы, а утверждения в форме вопросов: зачем тебе это имение, ты что, потом будешь еще одно покупать, и еще, и еще… Ответа не требуется. Требуется изменить что-то в жизни. Но Толстой решил ответить на риторические вопросы смерти. И потратил годы на чтение религиозной и прочей литературы, что было не многим лучше приобретения поместий, ибо – было только предлогом, чтобы ничего не менять.
Окажись тогда рядом шаман, он бы сказал: ты, Лев Николаич, видно, собрался жить вечно… Но шамана поблизости не было. Да писатель к нему бы и не прислушался, ибо был одержим. И в своей одержимости углублялся во всякого рода теории, представляющие жизнь как «суету сует». Конечно, эти теории не только не давали ответов и разрешения мук, но еще глубже вгоняли в тоску. И так продолжалось до тех пор, пока Толстой не стал понимать, что вера философов («нас с Соломоном», как он выражается), не имеет отношения к жизни «миллиардов людей». И с этим пониманием в его душу стал проникать живой бог.
Вот как это описано в «Исповеди: ««Он знает и видит мои искания, отчаяние, борьбу. Он есть», говорил я себе. И стоило мне на мгновение признать это, как тотчас же жизнь поднималась во мне, и я чувствовал и возможность и радость бытия. Но опять от признания существования Бога я переходил к отыскиванию отношения к нему, и опять мне представлялся тот Бог, наш творец, в трёх лицах, приславший Сына-искупителя. И опять этот отдельный от мира, от меня Бог, как льдина, таял, таял на моих глазах, и опять ничего не оставалось, и опять иссыхал источник жизни, я приходил в отчаяние и чувствовал, что мне нечего сделать другого, как убить себя».

Лев Толстой играет в шахматы с сыном Владимира Черткова. Ясная Поляна. 1907 год
В чем дело? Почему одна только мысль о христианском боге приводит Толстого в такое отчаяние? Чтобы это понять, придется хоть бегло проследить историю этого бога.
Изначально он являлся лишь одному человеку, Аврааму. Которому и в голову не приходило отождествлять того, кто являлся лично ему, со Всевышним, Творцом. Нет, Авраам, разумеется, знал о существовании Бога Всевышнего, как знают о нем дети всех народов земли. Этнологи установили, что это знание вовсе не есть результат проповеди христианских миссионеров (как это когда-то считалось), но – является изначальным и естественным знанием о божественном. Любой дикарь может вам объяснить, что, сотворив мир со всеми его божественными потенциями, Всевышний отделился от него, почил от трудов своих, и больше уже не вмешивается в дела мира, где действуют частные божественные потенции, то есть – конкретные боги, вроде Зевса, Одина, Волоса или того, кто являлся Аврааму.
Так вот, со Всевышним Авраам никогда не общался. Но у Всевышнего бога были жрецы. В Книге Бытия сказано, что священником Всевышнего был Мельхиседек, царь Салимский. Один раз по случаю он благословил Авраама «от Бога Всевышнего, Владыки неба и земли» (Быт.14:19). Авраам тогда дал Мельхиседеку десятину и клялся Всевышнему. Но общаться продолжал со своим личным богом, называвшим себя, в частности, так: «Я, Господь, Который вывел тебя из Ура Халдейского». Именно он (а отнюдь не Всевышний) обещал Аврааму землю и потомство, именно с ним Авраам заключил союз (завет) и именно он искушал Авраама, когда у того родился сын Исаак. Принеси, мол, мальчика в жертву мне, твоему богу.
Требование зарезать сына – это ли не кафкианский бред? Но Авраам подчинился богу, звучавшему у него в ушах, и это вменилось ему в праведность. В результате бог получил барана, а Исаак пошел на развод еврейского семени. Со временем бог, искушавший праотца, стал богом его потомков, духом еврейского племени, кочевого народца, окруженного врагами, гонимого и потому замкнувшегося в себе, зациклившегося на своем невротическом боге. Еврейский бог создал евреев по своему образу и подобию. И в свою очередь он – образ и подобие своего народа. Тут полное тождество. Когда говорят, что евреи – божий народ, это абсолютно верно: их бог избрал их, они вот именно воплощение своего этнического бога. Характер евреев – характер их бога. Это трудный характер, из него вытекает трагическая судьба, тяжелая психика (читайте Фрейда и Кафку), ментальность вечных жидов, повсюду ищущих и находящих врагов, создающих проблемы на собственную голову. Порой бог садистски мучит народ, который избрал, гонит его с места на место, подставляет, громит руками народов, среди которых евреям приходится жить, заставляет ощущать себя обойденным, несчастным, насекомым.
Авраама называют отцом всех верующих. То есть всех тех, кто поклоняется еврейскому богу, будь они иудеями, мусульманами или христианами. Формы культа в этих религиях разные, но бог – один, тот, кто искушал Авраама. И если ты всерьез относишься к вере, изволь получить все, что может дать тебе авраамический бог. Толстой относился к вере смертельно серьезно и получил по полной программе. Симптоматика его болезни должна быть знакома всем, кто читал тексты Кафки. Эти тексты не просто нелепый абсурд. В каждом из них представлен какой-нибудь вариант одержимости богом евреев, то, о чем в «Послании к евреям» апостол Павел сказал: «Страшно впасть в руки Бога живаго!» (Евр.10:31). Гою не по чину (да и западло) доказывать это. Поэтому ограничусь отрывком из письма знатока иудейской мистики профессора Еврейского университета в Иерусалиме Гершома Шолема к философу Вальтеру Беньямину, написавшему проникновенную книгу о Кафке. В 1931 году Беньямин попросил Шолема дать какой-нибудь намек на идею, предполагая, что у того есть особые мысли о Кафке. И вот ответ:
«„Особые мысли“ насчет Кафки у меня, конечно же, есть, правда, не по поводу его места в континууме немецкой словесности (где у него никакого места нет, в чем, кстати, он сам нисколько не сомневался; он ведь, как ты, конечно же, знаешь, был сионистом), а только в словесности еврейской. Я бы тебе в этой связи посоветовал любое исследование о Кафке выводить из книги Иова или по меньшей мере из рассуждения о возможности существования божественного приговора… Как можно, будучи критиком, что-то говорить о мире этого человека, не поставив в центр проблематику учения, именуемого у Кафки законом, для меня было бы загадкой. Так должна бы, наверно, если она вообще возможна (вот она – заносчивость гипотезы!!!), выглядеть моральная рефлексия галахиста, который попытался бы создать языковую парафразу божественного приговора. Здесь нам вдруг явлен в языке мир, в котором нет и не может быть избавления – пойди и растолкуй все это гоям!»
Ну, истинным-то гоям это не интересно. Но, если кто хочет познать мрак души религиозного иудея, читайте гениального Кафку. Только осторожно, не пускайте этот мрак вглубь себя, можно заразиться, заболеть. Как заболел Лев Толстой. Ведь не Конфуций же, в самом деле, пролез к нему в душу и заставляет осуждать жизнь воина и семьянина. И не русский барин. Ни тот, ни другой не имеют в своей первозданной природе склонности пострадать. А вот если обратить человека в христианскую веру, в нем может прорезаться тяга к смакованию страдания как «божественного приговора». Ибо христианство – это кафкианство для гоев.
Бог родил сына и отдал на смерть. Как Авраам. Отдавать сына в жертву (вариант: жертвовать чужих детей, как было при исходе из Египта и при рождении Иисуса) – это самый нерв архетипики бога евреев, основополагающая черта его характера и заодно родовое проклятье его народа, выражающееся, в частности, в том, что евреи всегда как бы нечаянно подставляются. Обратная сторона такой виктимности – их успех. И успех их бога. Вот и смерть Иисуса позволила богу Авраама вырваться из тесных границ иудаизма. Что, конечно же, было бы невозможно, если бы локальный бог маленького народа не был заранее позиционирован как Всевышний. Это была трудная многовековая работа. Узловые этапы ее отразились в Писании.

Авраам (Ибрагим) приносит в жертву сына. Фреска из Шираза
Первый этап – смена имени. Перед исходом евреев из Египта бог является Моисею и называет себя «Я есмь Сущий» (что передают как YHWH, Яхве, Иегова, Господь). Новое имя сразу выводит бога Авраама из прежнего захолустного контекста, позиционирует его как бы всеобщим, тем, чье существо – в существовании. Но при этом бог все-таки уточняет: «Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с [именем] „Бог Всемогущий“ (Эль Шаддай), а с именем [Моим] „Господь“ (Яхве, YHWH) не открылся им» (Исх.6:3). Далее Яхве дает Моисею 10 заповедей. Их считают тем, на чем строится всякая социальная жизнь. Но ведь ни китайцам, ни индийцам, ни прочим народам Яхве скрижалей не давал. Всем (и евреям, и гоям) заповеди дал Всевышний, но только – не в виде текста, выбитого на камне, а в виде чувства, вложенного в сердце каждого. Отличие Моисеева декалога от закона, вписанного в сердца всех людей без различия наций и рас, состоит разве что в том, что заповеди Моисея исполнены нетерпимости, столь характерной для бога Кафки, но – не для Всевышнего.
Следующий этап – подмена Всевышнего богом Авраама. Тут не обошлось без имени Мельхиседека. В 109 псалме Давида сказано: «Клялся YHWH (Господь, Яхве) и не раскается: Ты священник вовек по чину Мельхиседека» (Пс.109:4). Христиане видят в этом «священнике» Иисуса. Пусть так, но тот, кто создал псалом, этого не знал, хотя и пророчил об этом. Иисус родится через столетия, а в момент создания псалма этот «ты» – какой-то конкретный земной человек (хотя бы тот же Давид), претендующий на роль царя и священника Бога Всевышнего (чин Мельхиседека). При этом Яхве уже стоит в позиции Всевышнего. По крайней мере, так можно понять этот текст. И именно так он впоследствии будет интерпретирован. Но это подлог. Всевышний на языке Библии зовется Эль Эльон, и никакой зашифрованный Яхве (YHWH) не имеет к этому имени никакого отношения. Понятно, что отождествление бога Авраама со Всевышним (Эльоном) повышало самооценку евреев и как бы поднимало ранг их бога среди богов соседних народов. Но этот наивный пиар ничего не менял в реальном раскладе божественных сил.
И последний этап: внедрение Яхве в языческую среду под видом Всевышнего. Решающую роль в этом деле сыграл апостол Павел, который уже строго исходил из посылки, что национальный бог евреев – и есть Всевышний. Например, в «Послании к евреям» он утверждает, что Иисус сделался «Первосвященником навек по чину Мельхиседека» (Евр.6:20). Если так, то сын еврейского бога – жрец Всевышнего и был принесен ему в жертву собственным отцом (богом Авраама), точно так же, как Исаак был почти принесен в жертву еврейскому богу своим отцом Авраамом. Тут открываются возможности для весьма интересных теологических измышлений об иерархии богов, но Павел говорит только, что бог «принес в жертву Себя Самого» (7:27). Такое ритуальное самоубийство сближает еврейского бога с германским Одином (Вотаном), с той только разницей, что великий Один, будучи верховным богом, никогда не претендовал на роль Всевышнего.
А Яхве претендовал, и проповедь Павла объективно направлена на то, чтобы представить бога евреев как Всевышнего. А гоев сделать чем-то вроде неполноценных иудеев. Павел, конечно, писал, что во Христе «нет уже Иудея, ни язычника», но при этом добавлял: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Гал.3:29). То есть крещение делает гоя почти что евреем. Как хорошо! Вот только не все язычники, стремившиеся к высокому званию еврея, понимали, что они становятся наследниками обетований бога Авраама, а вовсе не бога Всевышнего. И мало кто из них знал, что еврейский бог обещал своему народу, что гои будут порабощены. Но отказываясь от своих богов, они автоматически становились рабами божьими (бога евреев). Павел особенно-то ничего и не скрывал. В «Послании к римлянам» он все повторяет: «во-первых, Иудей, [потом] и Еллин». И поясняет: «Какое преимущество [быть] Иудеем, или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче [в том], что им вверено слово Божие» (Рим.3:1—2).
Безусловно, действие бога Кафки на гоев отличается от его действия на евреев. Для евреев их бог – родная стихия, мы же – сбоку припеку. И все-таки то, что происходит с гоями, одержимыми еврейским богом, часто тоже бывает исполнено подлинного кафкианства. Так, с первых же шагов своего распространения по миру этот бог толкнул тысячи христиан на добровольное мученичество2121
См. пример в Томе Третьем, в главе «Семидесятое – Екатерининская пустынь»
[Закрыть]. Впоследствии это продолжилось в эксцессах иконоборчества, религиозных войн, сожжениях ведьм, варфоломеевских ночах, самосожжениях раскольников. Такой уж характер у этого бога. Он и теперь продолжает мучить иных крещеных язычников почти как самих иудеев. Посмотрите хотя бы на графа Толстого.
Но сила жизни еще вернется к нему. Правда, не сразу, а постепенно, вкрадчиво, волнами. Решающий момент возвращения Лев Николаевич запомнил и описал в «Исповеди»: «Помню, это было раннею весной, я один был в лесу, прислушиваясь к звукам леса. Я прислушивался и думал всё об одном, как я постоянно думал всё об одном и том же эти последние три года. Я опять искал Бога». Далее абзац философского занудства, и вдруг мысль: «„Но понятие моё о Боге, о том, которого я ищу? – спросил я себя. – Понятие-то это откуда взялось?“ И опять при этой мысли во мне поднялись радостные волны жизни. Всё вокруг меня ожило, получило смысл».
А правда: откуда берутся понятия? Либо вдалбливаются при обучении, либо рождаются в сердце, когда тебя, как вот Толстого сейчас, что-то переполняет. Конечно, ликование жизни в весеннем лесу вовсе не обязательно должно отложиться в форме какого-то понятия. И вообще, дело здесь не в понятиях. Толстой и сам это знает, тут же говорит себе: «Понятие Бога – не Бог». Справедливо. Но слово «бог» может обладать силой заклинания, может магически вызвать бога. Вот человек, бродящий по лесу, все про себя повторяет: бог, бог… И вдруг раз – попёрло: «Всё вокруг меня ожило, получило смысл». Это действие бога в душе. Толстой только подумал о боге, и вот уже он появился в виде «радостных волн жизни», тех самых волн, которые одушевляют каждую букашку в этом пьяном жизнью лесу. Но это совсем не тот бог, которого вызываешь в душе, читая Кафку, тот лишает радости жизни, стоит только подумать о нем. Вот Толстой, очарованный лесом, подумал и – чары сразу рассеялись. Только что было: «Всё вокруг меня ожило, получило смысл». А следующее предложение уже: «Но радость моя продолжалась недолго. Ум продолжал свою работу. /…/ И опять всё стало умирать вокруг меня и во мне, и мне опять захотелось убить себя».
Саму «работу ума», я здесь опускаю, поскольку это – банальный философский субъективизм. В нем есть бог Авраама и Кафки, но – в секуляризированной форме. Такой обезвреженный бог в принципе может вызвать стремление к суициду, но – лишь мимолетное. Это нестрашно. Тем боле, что божество русского леса уже подхватило писателя на крыло, дало ощутить вкус жизни, внушает счастливые мысли, гонит вон бога Кафки, как зимнюю стужу: «Но тут я оглянулся на самого себя, на то, что происходило во мне; и я вспомнил все эти сотни раз происходившие во мне умирания и оживления. Я вспомнил, что я жил только тогда, когда верил в Бога. Как было прежде, так и теперь, сказал я себе: стоит мне знать о Боге, и я живу; стоит забыть, не верить в Него, и я умираю. Что же такое эти оживления и умирания? Ведь я не живу, когда теряю веру в существование Бога, ведь я бы уж давно убил себя, если б у меня не было смутной надежды найти Его. Ведь я живу, истинно живу только тогда, когда чувствую Его и ищу Его. Так чего же я ищу ещё? – вскрикнул во мне голос. – Так вот Он. Он – то, без чего нельзя жить. Знать Бога и жить – одно и то же. Бог есть жизнь».
Абсолютно! Проблема лишь в том, что Толстой путает разных богов. Ощущая воздействие бога, четко описывая это воздействие, он думает, что это бог, известный ему из Катехизиса и Библии. А это не так. Говорит с ним (и в нем: «во мне голос») вовсе не тот, кто говорил с Авраамом. С Толстым говорит сейчас кто-то из русских богов. Это чувствуется по стилю: бог не пугает, не навевает тоску. Он просто является, успокаивает, дает дельный совет (продолжаю цитату): «Живи, отыскивая Бога, и тогда не будет жизни без Бога». То есть – держись (чжэнь2222
См. главу «Шаманские экскурсы. Ростов. Кунь»
[Закрыть]) меня, Лёва, будем странствовать вместе. В таком странствии – самая суть терапии богоискательства: мысля бога, ты вызываешь его. Почуявший это Толстой замечает: «И сильнее чем когда-нибудь все осветилось во мне и вокруг меня, и свет этот уже не покидал меня».
Но это еще не конец. Отступили мысли о самоубийстве, но тот, кто внушал их, вернется, поскольку сидит в самой сердцевине христианской веры. Толстому еще только предстоит найти Христа и отделить его от бога Кафки.
Шаманские экскурсы. Толстой и сатори (Левин)
Так стало быть, Лев Толстой получил новый импульс жизни в весеннем лесу. Кто-то из русских богов прогнал бога Кафки, который отнимал у писателя радость бытия и подначивал к самоубийству. Кто конкретно спаситель – пока остается загадкой, но из «Исповеди» ясно, что возвращение жизни началось несколько раньше достопамятного случая в лесу. Волны жизни стали накатывать на Толстого после того, как он осознал, что вера «нас с Соломоном» не имеет отношения к жизни «миллиардов» людей. И, осознав это, стал сближаться с простецами, которым их вера дает «смысл и возможность жизни». Писатель хотел понять «жизнь не исключений, не нас, паразитов жизни, а жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придаёт ей». И поиски бога в народной душе подействовали на писателя оздоравливающе.

Рукопись «Анны Карениной»
«Исповедь» не дает ясного представления о природе бога, явившегося Толстому. Поэтому заглянем в его художественные произведения, где боги, как мы уже убедились, витают между строк. Возьмем «Анну Каренину», которая создавалась как раз в то время, когда писатель переживал кризис и выходил из него. Собственно, вынашивание этого романа можно рассматривать как тот самый кризис. А писание было его преодолением. В свое время мы поговорим о процессе сочинения «Анны Карениной», о том, какие именно мифологические сущности вобрал в себя этот текст. А сейчас лишь напомню о том, что болезнь, случившаяся в реальной жизни с Львом Толстым, спроецирована в романе на Константина Левина. Который тоже все мучился риторическими вопросами, тоже читал философов, чтобы найти ответы на эти вопросы, тоже прятал от себя веревку и ружье, чтобы не покончить с собой, тоже хотел избавиться от «злой силы», которая над ним насмехалась.
И вот середина лета, страда, Левин чувствует, что «общее народное возбуждение сообщается и ему» (курсивы в цитатах из Толстого здесь и далее мои, – О.Д.). При этом он постоянно думает все об одном и том же: «Что же я такое? и где я? и зачем я здесь?» Ну, в данный конкретный момент он на риге, наблюдает за молотьбой. Отмечает про себя: эту старуху Матрену скоро закопают и этого работника Федора тоже… Оно конечно: все тлен. Однако вот Федор, с которым Левин скоро разговорится, пожалуй, не так уж и тленен. К обеду выясниться, что он не совсем человек, скорей – нечто вроде ангела, посланец русского бога. Когда речь зайдет о банальной сдаче земли внаймы, о том, кому из двух мужиков ее лучше сдать – Митюхе или Фоканычу, Федор скажет:
«– Люди разные; один человек только для нужды своей живет, хоть бы Митюха, только брюхо набивает, а Фоканыч – правдивый старик. Он для души живет. Бога помнит.
– Как Бога помнит? Как для души живет? – почти вскрикнул Левин.
– Известно как, по правде, по-божью».
Тут на Левина и накатило «новое радостное чувство». И «неясные, но значительные мысли толпою как будто вырвались откуда-то иззаперти и, все стремясь к одной цели, закружились в его голове, ослепляя его своим светом». Мужик-то, вроде, ничего такого особенного и не сказал, но явно нажал кнопку Enter (его слова «произвели в душе Левина «действие электрической искры, вдруг преобразившей и сплотившей в одно целый рой разрозненных, бессильных отдельных мыслей»), запустил в душе барина какой-то процесс. И вот уже Левин идет по дороге, «прислушиваясь не столько к своим мыслям (он не мог еще разобрать их), сколько к душевному состоянию, прежде никогда им не испытанному».
Странное состояние, словно какой-нибудь посторонний предмет попал в душу. Левин «чувствовал в своей душе что-то новое и с наслаждением ощупывал это новое, не зная еще, что это такое». И мы не знаем. Мы только видим, что результат разговора с Федором получился такой, будто мужик изрек дзэнский коан и – раз, попёрло! – вогнал барина в измененное состояние сознания. Слова Федора, правда, не очень похожи на классику дзэн. Но с Левиным явно случилось сатори. Он идет «по большой дороге» (Дао), стараясь понять, что с ним происходит. С рациональной точки зрения мужик сказал просто глупость: не надо жить для своих нужд, а надо жить для какого-то бога. Чушь! «И что же? Я не понял этих бессмысленных слов Федора? А поняв, усумнился в их справедливости? нашел их глупыми, неясными, неточными? Нет, я понял его и совершенно так, как он понимает, понял вполне и яснее, чем я понимаю что-нибудь в жизни».
Я совсем не уверен в том, что Левин с его головой, задуренной университетским образованием, действительно понял слова Федора. Во всяком случае, он сразу же стал подгонять их под общие мерки: «И не я один, а все, весь мир одно это вполне понимают /…/. Я со всеми людьми имею только одно твердое, несомненное и ясное знание, и знание это не может быть объяснено разумом – оно вне его и не имеет никаких причин и не может иметь никаких последствий». Разумеется, все это верно, но в данном случае не имеет значения. Значение в таких случаях имеет лишь то, что непосредственно чувствуешь. Как раз это Толстой описывает очень конкретно (поскольку сам имел сходный опыт), дает мельчайшие оттенки переживания: «„Неужели я нашел разрешение всего, неужели кончены теперь мои страдания?“ – думал Левин, шагая по пыльной дороге, не замечая ни жару, ни усталости и испытывая чувство утоления долгого страдания. Чувство это было так радостно, что оно казалось ему невероятным. Он задыхался от волнения и, не в силах идти дальше, сошел с дороги в лес и сел в тени осин на нескошенную траву».
Вот вам и лес, в котором Толстому является бог.
После удара по мозгам, нанесенного мудрым учителем Федором, Левин – не в себе. Ибо мужик выбил из него нормативное «я». Это нормальная шаманская практика. И дзэнские учителя, и индеец дон Хуан вгоняют своих учеников в состояние повышенного осознания разного рода тычками. Раз – и социальное обусловленное «я» отлетает, а освобожденное пространство души заполняется чем-то божественным.
У Левина это скоро пройдет, но пока что с ним происходит необычайное. «Да, надо опомниться и обдумать, – думал он, пристально глядя на несмятую траву, которая была перед ним, и следя за движениями зеленой букашки, поднимавшейся по стеблю пырея и задерживаемой в своем подъеме листом снытки. – Все сначала, – говорил он себе, отворачивая лист снытки, чтобы он не мешал букашке, и пригибая другую траву, чтобы букашка перешла на нее. – Что радует меня? Что я открыл?»
Прежде, чем говорить об открытиях, обратим внимание на бессознательные действия Левина, который автоматически помогает букашке. В нем (и им) сейчас действует добрый заботливый бог (а не бог Кафки, покрывающий струпьями тело Иова или превращающий человека в насекомое). Левин видит мир глазами этого бога. Или бог видит мир глазами Левина. В данном случае это одно и то же. Божий мир видит себя через Левина, который смотрит на него взглядом бога, хранящего мир.
Но Левин при этом все же помнит себя, продолжает мыслить. Так и Толстой среди благодати весеннего леса не удержался от мыслей: «Ум продолжал свою работу. /…/ И опять всё стало умирать вокруг меня и во мне» («Исповедь»). Толстой в тот момент думал о том, что «понятие бога – не бог». А вот мысли Левина: «Прежде я говорил, что в моем теле, в теле этой травы и этой букашки (вот она не захотела на ту траву, расправила крылья и улетела) совершается по физическим, химическим, физиологическим законам обмен материи. А во всех нас, вместе с осинами, и с облаками, и с туманными пятнами, совершается развитие. Развитие из чего? во что? Бесконечное развитие и борьба?.. Точно может быть какое-нибудь направление и борьба в бесконечном!»
А почему бы и нет? Это ведь как понимать бесконечное. Если его отделять от конечных процессов, в которых есть начало, есть энергейный поток и есть достижение цели (см. учение Аристотеля о движении в экскурсе «Фюсис2323
См. Том Четвертый, главу «Шаманские экскурсы. Фюсис»
[Закрыть]»), тогда – да, не может быть никакого развития, ибо в сфере бесконечного все постоянно по определению. Но зачем отделять? Почему не видеть в двух этих сферах единства? Да потому, что наука, начатки которой вдруг вспомнились Левину, базируется на разделении: если и есть бог, то он трансцендентен, то есть – не имеет отношения к процессам, происходящим в мире. А других богов, как считается, нет. Этот нелепый (хотя и технологически эффективный) взгляд обусловлен тем, что Всевышнего бога в душах людей подменили (см. предыдущий экскурс) частным богом, который ничего, кроме еврейского народа, не создавал и ни за что, кроме своего избранного народа, не отвечает. Он лишь надувает щеки, изображая полное всеединство, и внушает своим адептам идею потусторонности бога.
Всевышний бог выше этого. Сотворив мир, он уже больше не вмешивается в его дела, поскольку создал множество богов (в том числе и еврейского), которые автономно действуют в мире. Всевышний – не потусторонний и не посюсторонний, он просто есть. И он – бесконечность потенций, каждая из которых в любой момент может развернуться в поток ести (ци2424
См. Том Четвертый, главу «Шаманские экскурсы. Ци»
[Закрыть]) и течь в человеке и с человеком. Но также и – «вместе с осинами, и с облаками, и с туманными пятнами». Его бесконечность вот она: целиком дана Левину, выпавшему из рамок обыденности, слившемуся с божеством. Пусть и не с самим Всевышним, но все же с какой-то его живой потенцией, силой, которая несет тебя к цели (что и есть развитие). И это как раз то, что Левин переживает сейчас.
Проблема, однако же, в том, что человек не может долго оставаться в таком состоянии. И Левин скоро выйдет из него. Будет лишь вспоминать (как Ростов после атаки, см. экскурс «Я и Ся2525
См. главу «Шаманские экскурсы. Ростов. Я и Ся»
[Закрыть]»), что нечто необычайное с ним, действительно, вроде бы было. Будет вспоминать, но уже не будет помнить того (как Гильгамеш, потерявший цветок бессмертия, см. экскурс «Бардо2626
См. Том Четвёртый, главу «Шаманские экскурсы. Бардо»
[Закрыть]»), что, собственно, это было. Забудет то абсолютное понимание всего и чувство единства со всем, которое было им актуально испытано. Так обычно бывает. Например, в книгах Карлоса Кастанеды описано, как дон Хуан вводил его в состояние повышенного осознания, смещая точку сборки, тычком под лопатку, после чего Карлос видел, слышал и понимал тьму вещей. А выходя – забывал. И дальнейшей его задачей было вспомнить то, что там было. Такое описано многими мистиками. Да и в обычной литературе это часто встречается. Просто никому не приходит в голову рассматривать эти описания с точки зрения шаманских практик. Тем более, что и авторы таких описаний, как правило, не понимают, что именно они описывают.
И Толстой не понимал. Но описывал точно. Например, процесс выхода Левина из состояния, в котором был соучастником бога (если не богом), можно проследить пошагово. Сперва барин, все еще пребывающий с богом, вспоминает, как он (букашка «расправляет крылья») материалистически мыслил процессы развития. Затем перескакивает на мысль о бесконечности, которая несовместима (по его мнению) с миром, который движется и развивается. Дальше он уже окончательно отделяется от собственного переживания мира как целого, и бог выходит из его души, становится чем-то чужим, посторонним, тем, о чем можно мыслить как об объекте. Буквально вот так: «Я понял ту силу, которая не в одном прошедшем дала мне жизнь, но теперь дает мне жизнь. Я освободился от обмана, я узнал хозяина».
И эта, казалось бы, верная мысль – есть симптом расставания с богом. Ибо бог теперь видится со стороны, его уже можно рассматривать, анализировать, определять, например, как хозяина. А ведь только что бог был отнюдь не хозяином, он был тем, кто наполняет душу радостью и пониманием, тем, кто смотрит на мир твоими глазами и действует тобой. Он был тобой, твоим «я», а ты – его «ся»2727
См. главу «Шаманские экскурсы. Ростов. Ся и Я»
[Закрыть]. Вы были единством, а это совсем не то же самое, что отношения хозяина и его раба. Это скорей отношения мысли (желания) и руки, которая эту мысль (это желание) реализует. Моей руке нет нужды понимать мое желание как желание своего хозяина. Моя рука – это я, поднимающий руку. Если же мы – я и рука – вступаем в отношения хозяина и работника, то это уже кафкианство, экзистенциальная шизофрения. И вот, наконец, Толстой (или бог, который двигал его рукой, когда писалась «Анна Каренина»), наглядно демонстрирует, что происходит, когда человек начинает понимать бога как хозяина, а себя как работника. Показывает, как бог – радость и жизнь – уходит, и приходит бог Кафки.
Смотрим: Левин лежит на траве, размышляя о своей жизни, о своих страданиях, о своих исканиях бога, о том, как он должен относиться к церкви, и еще бог знает о чем. Он, разумеется, помнит божественный приход, только что пережитый им, но бог уже далеко. Он ушел в тот момент, когда Левин, решив, что «надо опомниться и обдумать», спросил себя: «Что радует меня? Что я открыл?» И начал думать про какие-то законы науки, про «обмен материи» в «этой букашке». Тут-то букашка «расправила крылья и улетела». Собственно, улетел бог, которому не интересна вся эта чушь. А Левин остался со своими воспоминаниями, с банальными мыслями, благими пожеланиями, пустыми надеждами на то, как теперь будет все хорошо. «Неужели это вера? – подумал он, боясь верить своему счастью. – Боже мой, благодарю тебя!» Да не за что, барин.
В этот момент перед глазами Левина – стадо. И появляется тележка, в которой сидит кучер Иван, посланный сообщить, что приехал сводный брат Левина, известный ученый. Сейчас пойдут разговоры о высоком. Но пока что мир, в котором они возможны, еще только ищет выпавшего из него человека: посланный за ним кучер Иван только едет. Подъехал. «Как бы пробудившись от сна, Левин долго не мог опомниться». Он сел в тележку, взял вожжи. «Ему казалось, что теперь его отношения со всеми людьми уже будут другие». Он хочет сказать кучеру что-то хорошее, но в голову приходит только, что «напрасно Иван высоко подтянул чересседельню». Нет, это похоже на упрек. Левин сдерживается. Он ведь отныне другой, он хороший…
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!