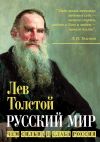Автор книги: Олег Давыдов
Жанр: Эзотерика, Религия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 14 страниц)
Конечно, мать помогала Толстому. Но не так, как в обычном быту помогает ребенку живая мать. Умершая мать была посредницей, соединяла сына с тем «высоким, чистым, духовным существом», которым является Дерево жизни. Помогала, питая смыслами изнутри, исподволь направляя и оберегая, всегда оставаясь той виртуальной веткой, на которой висел ее Левушка. В книге «Философское дерево» Юнг пишет: «Наш материал (коллекция изображений фантазийных деревьев. – О.Д.) … находится в полном соответствии с широко распространенными примитивными шаманистскими концепциями дерева и небесной невесты, являющейся типичной проекцией анимы. Она есть ayami (дружественный, покровительствующий дух) предков шамана». Такой женственный дух – принадлежность не только шаманов, у каждого есть виртуальная пуповина (проекция анимы), соединяющая индивида с током жизни материнского Дерева. Но редко у кого она функциональна.

Иисус и 12 апостолов на Древе жизни, православная икона
Тут мы можем понять страх Толстого как страх потерять связь с основами бытия, с деревом Рода. Не с коллективом (такой отрыв – всего лишь внешний факт биографии, вроде реально приключившегося с великим сыном России Толстым отлучения от церкви), но – связь с метафизическими корнями, питающими жизнь, дающими здоровье, интуицию, волю, талант, успех и так далее. Отрыв от этих корней описан в Библии как изгнание человека из рая, где растет Древо жизни. Это надо понимать буквально: еврейский бог перекрыл кислород, идущий от материнского Дерева, блокировал связь плода с Матерью, подменил ее собой. Именно об этом (см. выше) говорит Толстой, описывая свою болезнь как перебои с подачей жизненной силы в моменты, когда он начинает думать о чужеродном боге попов, когда пытается переключиться на него с питающего душу божества родных осин. Тогда – ужас и мрак. Но, судя по сну, связь с Матерью остается незыблемой: «Если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении».
Все помочи, кроме этой одной виртуальной пуповины, создают только видимость поддержки. Они лишь внешние условия существования (скажем так, социальные условности). Они нужны, чтобы жить в коллективе. Они когда-то были важны и для Толстого. Их действие он описал в «Анне Карениной» – как то, что убило Анну. Создаются эти условные помочи в детстве, путем воспитания. В отрывке 1878 года, публикуемом под заголовком «Моя жизнь», Толстой рассказал о двух самых ранних своих воспоминаниях. Первое: ребенка пеленают, а он не хочет, кричит. «Им кажется, что это нужно (то есть то, чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно». Собственно, в этих пеленах можно узнать зачаток тех самых помочей, от которых Толстой хочет избавиться в своем сне, то, что прививается в детстве и впоследствии оказывается условиями жизни в социуме. Второе воспоминание радостное: «Я сижу в корыте, и меня окружает странный, новый, не неприятный кислый запах какого-то вещества, которым трут мое голенькое тельце. Вероятно, это были отруби, и, вероятно, в воде и корыте меня мыли каждый день, но новизна впечатления отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил мое тельце».

Тульская область, Белевский район. Источник Жабынец и почитаемый Жабыньский дуб (видны приношения). В сущности это повторение в миниатюре мотива мифологии ясеня Иггдрасиля и источника мудрости у его корней. В Жабынском монастыре мог побывать Лев Толстой. Фото Олега Давыдова
Эти два впечатления – пеленание, отнимающее свободу, и погружение в благую влажную стихию, вроде материнской, – два ясных символа: необходимости, насилующей человека, и счастья гармонии с миром. Гнет и воля – это то, что сменяя друг друга, сопровождает каждого всю жизнь. Но одному достается больше свободы и счастья, а другой живет в рамках нелепых ограничений и мучится. Это зависит от атмосферы в семье, от бога, который господствует в ней. Например, бедный Кафка вынес свою дегенеративную гениальность из детства, наполненного мраком отцовского бога (что явствует из «Письма отцу»). Через христианство этот бог добрался и до Толстого. Но в его детстве подлинного иудейского ужаса не было. Напротив, он вынес из детства заряд счастья. И хоть чувство необходимости пелен ему, конечно, было привито (и сыграло впоследствии роль в его кафкианской депрессии), все же Толстой остался связан любовными узами с Деревом-Матерью, со всей архетипикой национального коллективного бессознательного.
В «Воспоминаниях» он рассказывает об игре, практиковавшейся детьми в их семье. Игра «состояла в том, что садились под стулья, загораживали их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу». Единение в материнском лоне. Это называлось «Муравейное братство». Толстой точно не знает, откуда такое название – то ли от моравских братьев, то ли от муравейника (где все родились от одной матки). Но и «братство», и «муравейность» указывают на единство в Роде. Толстой говорит: «Я, помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру». И еще: «Я благодарю бога за то, что мог играть в это. Мы называли это игрой, а между тем все на свете игра кроме этого».

Могила Толстого в Ясной Поляне. Фото: Сергей Себелев
Затейником был старший брат Николай, к которому Лев относился с особой любовью (может быть, потому, что тот помнил мать). Но идея игры не сводилась лишь к физическому единению. Николай внес в нее еще один значимый элемент: «Муравейное братство было открыто нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил в память Николеньки закопать меня».
«Зарыть мой труп». Общий позитивизм эпохи не позволял Толстому формулировать свои идеи адекватно. Но пожелания, всплывавшие из глубины его души, всегда были абсолютно точны. Лев Николаевич похоронен именно там, где хранится «зеленая палочка», в сущности – символ Дерева-Матери, кадуцей, виртуальный предмет, хранящий тайну любви и единения. Любовь и единение – это то, что Толстой носил в своем сердце. То, что он воплощал в своих текстах. То, что искал в суматохе жизни. То, что только и слышал в церкви сквозь информационный шум о христианской Троице (см. предыдущий экскурс). В следующей главе мы поговорим о том, как он нашел Царство Божие.
Шаманские экскурсы. Толстой и Непротивление
Итак, «Исповедь» заканчивается словами «И я проснулся». Кто этот «я»? Во сне сперва была попытка устроиться на выскальзывающих помочах условностей, потом ужас перед бездной, потом попытка проснуться, потом успокаивающее вглядывание в небо и наконец – осознание абсолютной надежности единственной помочи, на которой сновидец висит, точно плод на дереве. Голос во сне предлагает запомнить это. Проснувшийся записывает сон, но вовсе не осознает себя плодом, соединенным пуповиной с материнским Деревом.
Следующая за «Исповедью» книга Толстого называется «Критика догматического богословия» и начинается словами: «Я был приведен к исследованию учения о вере православной церкви неизбежно». Получается, что в писателе проснулся (или родился) критик церковного христианства. В определенном смысле так и есть. Граф погружается в дебри религиозной проблематики. Вслед за «Критикой» (1880) пишет «Краткое изложение Евангелия» (1881), а потом «В чем моя вера» (1884). Первые две книги сухи и теоретичны, а вот «В чем моя вера» – зеленеет (как «жизни древо» по выражению Мефистофеля), в ней рассказано о том, что происходило с Толстым, когда он вникал в существо христианского учения.
Льва Николаевича всегда особенно трогало «то учение Христа, в котором проповедуется любовь, смирение, унижение, самоотвержение и возмездие добром за зло». Так было в детстве. «Такова и оставалась для меня всегда сущность христианства, то, что я сердцем любил в нем, то, во имя чего я после отчаяния, неверия признал истинным тот смысл, который придает жизни христианский трудовой народ, и во имя чего я подчинил себя тем же верованиям, которые исповедует этот народ, то есть православной церкви». Однако скоро писатель заметил, что эта дорогая ему «сущность христианства не составляет главного в учении церкви», более важным церковь считала «смысл догматический и внешний». Толстой, как уже мы знаем, искал в религии правил, закона, вероучения. Но: «Правила, даваемые церковью о вере в догматы, о соблюдении таинств, постов, молитв, мне были не нужны; а правил, основанных на христианских истинах, не было». Это напрягало писателя.
К тому же ему были неясны некоторые места Евангелия: «Много и много раз я перечитывал Нагорную проповедь и всякий раз испытывал одно и то же: восторг и умиление при чтении тех стихов – о подставлении щеки, отдаче рубахи, примирении со всеми, любви к врагам – и то же чувство неудовлетворенности. Слова Бога, обращенные ко всем, были неясны. Поставлено было слишком невозможное отречение от всего, уничтожавшее самою жизнь, как я понимал ее, и поэтому отречение от всего, казалось мне, не могло быть непременным условием спасения. А как скоро это не было непременное условие спасения, то не было ничего определенного и ясного».
Лев Николаевич просто хотел следовать учению Иисуса, а кругом говорили, что это невозможно, поскольку для достижения такого совершенства, надо молиться. Молиться, чтобы бог дал веру. Однако граф мало верил и потому не мог молиться. Но без молитвы нет веры, а без веры… Вот узел подобного рода противоречий Толстой и пытался распутать, исследуя христианское вероучение: думал, читал, сопоставлял…
«Но внутренняя работа моя, та, про которую я хочу рассказать здесь, была не такая. Это не было методическое исследование богословия и текстов Евангелий, – это было мгновенное устранение всего того, что скрывало смысл учения, и мгновенное озарение светом истины. Это было событие, подобное тому, которое случилось бы с человеком, тщетно отыскивающим по ложному рисунку значение кучи мелких перемешанных кусков мрамора, когда бы вдруг по одному наибольшему куску он догадался, что это совсем другая статуя… Это самое случилось со мной».
Иными словами, после долгих и бесполезных усилий что-то понять, с Толстым приключилось сатори, мгновенное озарение. Нечто похожее с ним случилось в весеннем лесу (а с Левиным – на риге3838
См. главу «Шаманские экскурсы. Толстой и сатори (Левин)
[Закрыть]), но сейчас обстановка немного иная: «После многих сомнений и страданий, я остался опять один с своим сердцем и с таинственной книгою пред собой. Я не мог дать ей того смысла, который давали другие, и не мог придать иного, и не мог отказаться от нее. И только изверившись одинаково и во все толкования ученой критики, и во все толкования ученого богословия, и откинув их все… я понял вдруг то, чего не понимал прежде. Я понял не тем, что я как-нибудь искусно, глубокомысленно переставлял, сличал, перетолковывал; напротив, все открылось мне тем, что я забыл все толкования». Такое бывает, когда на тебя вдруг накатит дзенская волна благодати. Однако что именно понял Толстой в данном случае? Вот читаем:
«Место, которое было для меня ключом всего, было место из V главы Матфея, стих 39-й: „Вам сказано: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь злу“. Я вдруг в первый раз понял этот стих прямо и просто. Я понял, что Христос говорит то самое, что говорит. И тотчас – не то, что появилось что-нибудь новое, а отпало все, что затемняло истину, и истина восстала предо мной во всем ее значении. „Вы слышали, что сказано древним: око за око, зуб за зуб. А я вам говорю: не противьтесь злу“. Слова эти вдруг показались мне совершенно новыми, как будто я никогда не читал их прежде». О чем это он? А вот о чем: «Прежде, читая это место, я всегда по какому-то странному затмению пропускал слова: а Я говорю: не противься злу. Точно как будто слов этих совсем не было, или они не имели никакого определенного значения».
Отвлечемся на минуту, чтобы напомнить, что Толстой и обычно слышал лишь то, что хотел слышать, что было близко его сердцу. А непонятное пропускал (освобождался, как в том сне3939
См. главу «Шаманские экскурсы. Толстой и сатори (Левин)
[Закрыть], от лишних помочей). Мы уже отмечали4040
См. главу «Шаманские экскурсы. Толстой и Род»
[Закрыть], что во время обедни он пропускал все, что касалось христианской Троицы, а слышал только касающееся любви и единения. В данном случае ситуация очень похожа, но есть интересная деталь. Толстой рассказывает: «При беседах моих со многими и многими христианами, знавшими Евангелие, мне часто случалось замечать относительно этих слов то же затмение. Слов этих никто не помнил, и часто, при разговорах об этом месте, христиане брали Евангелие, чтобы проверить – есть ли там эти слова». Будто какая-то сила запрещает их видеть, какой-то гипноз. Кто же гипнотизер? Неужто Лукавый? Вполне допустимо. Во всяком случае, стоит отметить, что в синодальном издании Евангелия сказано: «не противься злому». А вариант «не противься злу» – это перевод с греческого самого Толстого. Существенного искажения вроде бы нет, но переводчик как бы обезличивает зло (злое, злого). Симптоматично.
Но оставим тонкости перевода, продолжим цитату: «Также и я пропускал эти слова и начинал понимать только со следующих слов: „И кто ударит тебя в правую щеку… подставь левую…“ и т. д. И всегда слова эти представлялись мне требованием страданий, лишений, не свойственных человеческой природе. Слова эти умиляли меня. Мне чувствовалось, что было бы прекрасно исполнить их. Но мне чувствовалось тоже и то, что я никогда не буду в силах исполнить их только для того, чтобы исполнить, чтобы страдать» (курсив мой – О.Д.).
Шаман здесь обратит внимание в первую очередь на то, что не сам Толстой чувствовал (то и это), но – ему «чувствовалось». В экскурсах «Ростов. Я и Ся» и «Ростов. Ся и Я» было разъяснено, что это значит. Сейчас лишь замечу, что и желание исполнить «требование страданий», и невозможность страдать только ради страданий – принадлежность как бы и не совсем Толстого. Это, может, кто-то другой в нем чувствует. И транслирует писателю, а уж ему оно только – «чувствуется». Такое лукавство. Однако о том, что желание пострадать – есть результат христианского воспитания, подселяющего в душу человека некое мазохистское «я», мы будем говорить в следующем экскурсе. Здесь же достаточно будет только отметить, что, благодаря этому воспитанию, люди христианской культуры по большей части считают, что именно в страдании самая суть христианства. Умиляются от одной только мысли, что можно подставить щеку. Думают, что подставляться учил сам Христос. И Толстой умилялся. Но он еще искал смысл. Ведь зачем-то слова Христа были сказаны. Зачем? Для чего? И вот его осенило:
«Теперь, когда я понял слова о непротивлении злу, мне ясно стало, что Христос ничего не преувеличивает и не требует никаких страданий для страданий, а только очень определенно и ясно говорит то, что говорит. Он говорит: „Не противьтесь злу; и, делая так, вперед знайте, что могут найтись люди, которые, ударив вас по одной щеке и не встретив отпора, ударят и по другой; отняв рубаху, отнимут и кафтан… И вот если это так будет, то вы все-таки не противьтесь злу. Тем, которые будут вас бить и обижать, все-таки делайте добро“. И когда я понял эти слова так, как они сказаны, так сейчас же все, что было темно, стало ясно, и что казалось преувеличенно, стало вполне точно».
Разница очевидна: одно дело искать страданий ради того, чтобы только пострадать и тем самым иметь заслуги перед христианским богом, который, и правда, любит страдания4141
Например, см. Том Третий, гл. «Места силы. Семидесятое – Екатерининская пустынь»
[Закрыть], и совсем другое дело – двигаться к цели, не отвлекаясь на привходящие обстоятельства, не вязнуть в решении посторонних вопросов. Так спортсмен должен быть готов к травмам, если хочет достигнуть высоких результатов. Пример, которым сам Толстой поясняет свою мысль, абсолютно недвусмыслен: «Точно так же, как отец, отправляющий своего сына в далекое путешествие, не приказывает сыну – недосыпать ночей, недоедать, мокнуть и зябнуть, если он скажет ему: „Ты иди дорогой, и если придется тебе и мокнуть и зябнуть, ты все-таки иди“».
То, что понял Толстой, известно под именем «непротивление». Однако это не совсем то, что под этим термином обычно понимают. И даже совсем не то. Обычно считают, что идея «непротивления» это, собственно, и есть учение о необходимости страданий (и мы еще увидим, что Толстой дает некоторые основания для такой трактовки). Но из книги «В чем моя вера» прямо следует, что открылось ему совершенно другое. Толстой как раз понял, что (читаем внимательно) «Христос нисколько не велит подставлять щеку и отдавать кафтан для того, чтобы страдать, а велит не противиться злу и говорит, что при этом придется, может быть, и страдать».
Отвлекаясь от христианства и немного осовременивая, можно сформулировать толстовское кредо о непротивлении так: не участвуй в делах мира, где заправляют юристы, банкиры, бандиты, чиновники. Отойди в сторону, пусть эти подзаконные судят и грабят друг друга. Не участвуй в их играх, не верь в их посулы. У тебя своя жизнь, свой мир, свой путь. Исполняй их законы, чтобы они не смогли привязаться к тебе, плати налоги, не нарушай правил уличного движения. Если надо, подставь и щеку, отдай последнюю рубашку, но не участвуй в их кутерьме. Отдавай, чтобы не участвовать. Плати за свою свободу. Правовое государство? А ты чего хочешь – жить или судиться? Жить можно лишь вне системы, вне матрицы. Поэтому ищи и находи для жизни зоны свободы, которые еще не охвачены ограничениями законов. Только там можно делать дела (кстати, и успешный бизнес).
По сути, Толстой не открыл ничего особенно нового. Его «непротивление» – обычная установка русского мужика (не зря же граф общался с народом), к которому вечно пристают всякие начальники. Да пусть пристают. А ты диплом – в сортир, на рожу – больше дури, и делай вид, что не понимаешь, чего эти гонтмахеры от тебя хотят. Пусть думают, что ты отсталый, что дорастешь до их высокой культурности лет только так через двадцать. А за это время много можно успеть. Увернись и действуй. В этом самая суть стратегии избегания. И само собой, эта доктрина вовсе не учит подставлять другую щеку на радость бьющему и отдавать последнюю рубаху. Она учит только не попадаться. Не доводи до того, что кто-то тебя начнет обирать, а уж если довел, то не трать благо жизни на сопротивление. Отдай им то, что они требуют, и беги, пока не попросили еще что-нибудь.
Однако такая стратегия предполагает, что тебе есть куда бежать. Есть то, ради достижения и сохранения чего ты можешь отдать последнюю рубаху и подставить другую щеку. Что же это? Да Царство Божие внутри нас, что же еще… Через несколько лет после «В чем моя вера» Толстой напишет большую книгу, которая так и называется «Царство Божие внутри вас» (1891—1893). В ее заключительной части сказано: «По учению Христа человек, который видит смысл жизни в той области, в которой она несвободна, в области последствий, т.е. поступков, не имеет истинной жизни. Истинную жизнь, по христианскому учению, имеет только тот, кто перенес свою жизнь в ту область, в которой она свободна, – в область причин, т.е. познания и признания открывающейся истины». Царство Божие – область причин и начал. Неплохое определение.
Нас не должно смущать то, что Толстой приписывает именно Христу истину, известную всем, кто прошел посвящение. Ведь это всего лишь означает, что Лев Николаевич уверен в том, что и Иисус тоже знал: для того, чтобы стать подлинным шаманом, надо освободиться от детерминизма обыденной жизни, где ты всегда от чего-то зависим, и переместить себя в область свободы, где твое намерение будет намерением божества. Собственно, никто и не сомневается в том, что иудейский равви был посвященным. То есть понимал, что человек, «соединяясь с источником всеобщей жизни, совершает дела уже не личные, частные, зависящие от условий пространства и времени, но дела, не имеющие причины и сами составляющие причины всего остального и имеющие бесконечное, ничем не ограниченное значение».
Тот факт, что Толстой это четко формулирует, указывает на то, он был причастен тайнам. Однако в книге «Царство Божие внутри вас» о них говорится не так уж и много. В основном речь в ней идет об истории церкви, о христианском обществе и государстве. Все это Лев Николаевич критикует за несоответствие учению Христа, которое открылось лично ему, Толстому. Большая часть текста представляет собой жгущую проповедь, обличение едва ли не всех социальных институций того времени. Читая его, невольно одобряешь крестьян, которые уже скоро начнут жечь барские усадьбы и убивать помещиков. А как же иначе, если эти козлы практически на глазах Толстого (в 1893 году) вызывали воинские команды, чтобы сечь мужиков (половине крестьян такой-то деревни – по 70 ударов, правда – цивилизованно, в присутствии доктора). Сильный текст, он пробуждает потребность взять винтовку и пристрелить Абрамовича, который, хоть пока никого еще не сечет, а все же гораздо гаже этих секущих уродов.

Лев Толстой. 1908 г.
В общем, книга взывает к насилию. Но ведь это именно то, что противоположно самому духу открывшейся писателю истины непротивления. Видимо для того, чтобы оправдать свою духовную брань, уводящую от Царства Божьего, Толстой говорит не просто о «непротивлении злу», но – о «непротивлении злу силой» (чего нет в Евангелии). Но это не спасает положения. Тот, кто пишет такой текст, как «Царство Божие внутри вас», явно пишет его не изнутри этого Царства, а извне.
И тем не менее, Толстой в нем бывал. И каждый раз выносил оттуда реальные озарения (вроде видения себя висящим на Дереве или понимания подлинного смысла непротивления). Конечно, эти озарения со временем замутнялись (это обычное дело, вспомнить4242
См. Том Четвёртый, главу «Шаманские экскурсы. Оракул»
[Закрыть] хотя бы Гильгамеша, потерявшего Цветок бессмертия на грани миров), но все-таки основные параметры Царства Божьего внутри нас Толстой формулирует точно. Вот еще пример: «Христианское учение возвращает человека к первоначальному сознанию себя, но только не себя животного, а себя – Бога, искры Божьей, себя – сына Божия, Бога такого же, как и Отец, но заключенного в животную оболочку».
Если отбросить ссылку на «христианское учение», получится четкая формула общечеловеческого богосыновства. Однако дальше идет постепенное замутнение: «И сознание себя этим сыном Божьим, главное свойство которого есть любовь, удовлетворяет и всем тем требованиям расширения области любви, к которой был приведен человек общественного жизнепонимания (то есть язычник. – О.Д.). Так, при все большем и большем расширении области любви для спасения личности, любовь была необходимостью и приурочивалась к известным предметам: к себе, семье, обществу, человечеству; при христианском мировоззрении любовь есть не необходимость и не приурочивается ни к чему, есть существенное свойство души человека. Человек любит не потому, что ему выгодно любить того-то и тех-то, а потому, что любовь есть сущность его души, потому что он не может не любить».
Больно читать этот мутный текст великого писателя. Совершенно невозможно понять, почему «любовь есть сущность» души человека только «при христианском мировоззрении»? Выходит, человек до Христа был скотом? Придется с этим разбираться.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.