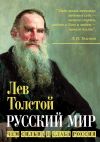Автор книги: Олег Давыдов
Жанр: Эзотерика, Религия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Шаманские экскурсы. Толстой и Дитя
Продолжая, должен признаться: читать религиозные тексты Толстого для меня серьезное испытание. Ибо Лев Николаевич может начать предложение, например, как правоверный иудей, затем сочленить его с шаманским утверждением, а закончить в христианском духе. Получается дикая путаница. И нам приходится в ней разбираться (ниже в цитатах жирный курсив Толстого, а светлый – мой).
Начнем с того, что по Толстому Царство Божие – это не какой-нибудь загробный рай, в котором человек благоденствует как личность. Много страниц книги «В чем моя вера» посвящено опровержению этого «низменного и грубого представления». В частности граф говорит: «Христос, отрицая личное, плотское воскресение, признает восстановление жизни в том, что человек жизнь свою переносит в Бога. Христос учит спасению от жизни личной и полагает это спасение в возвеличении сына человеческого и жизни в Боге. Связывая это свое учение с учением евреев о пришествии Мессии, он говорит евреям о восстановлении сына человеческого из мертвых, разумея под этим не плотское и личное восстановление мертвых, а пробуждение жизни в Боге. О плотском же личном воскресении он никогда не говорил».
Анализируя греческую лексику Евангелий, Толстой приходит к выводу, что Иисус не говорил также и о своем собственном воскресении. Он вообще говорил о другом: о вечной внеличной жизни, о феномене, который, используя термин Иисуса, писатель называет «сыном человеческим». «Учение Христа, – утверждает Толстой, – в том, чтобы возвысить сына человеческого, то есть сущность жизни человека – признать себя сыном Бога. В самом себе Христос олицетворяет человека, признавшего свою сыновность Богу». Согласитесь, тут явно речь не о том Христе, которого знает Церковь, но – о любом человеке, становящимся сыном божьим, признавая себя таковым.
И это не просто метафора, это самая соль концепции Толстого. По его мысли, апостол Петр, например, – сын божий. Почему? Вот Иисус спрашивает учеников, за кого они его принимают? Петр отвечает: «Ты – Христос, Сын Бога Живого». А Иисус ему: «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой» (Мф. 16:27). Толстой комментирует: «То есть ты понял это не потому, что ты поверил человеческим толкованиям, а потому, что ты, сознав себя сыном Бога, понял меня». Иными словами: осознание себя сыном божьим дает некое нетривиальное знание. Вообще-то из этого текста Матфея такая трактовка напрямую не вытекает. Но мы ведь здесь не толкуем Евангелие, мы стараемся понять текст Толстого. И то, что он говорит, весьма интересно, хотя, быть может, пока и не очень понятно.
Чтобы лучше понять Толстовскую концепцию богосыновства, вникнем в следующее: «По учению евреев, человек есть человек точно такой, какой он есть, то есть смертный. Жизнь есть в нем только как жизнь, продолжающаяся из рода в род в народе. Один только народ, по учению евреев, имеет в себе возможность жизни. Когда Бог говорит: будете жить и не умрете, то он говорит это народу. Вдунутая в человека Богом жизнь есть жизнь смертная для каждого отдельного человека, но жизнь эта продолжается из поколения в поколение, если люди исполняют завет с Богом». В сущности, это – теология Рода, божественного существа, единящего людей в этнические общности и живущего в потоке их поколений. Мы обсуждали ее в экскурсе «Толстой и Род», а также – «Толстой и Дерево». И установили, что в душе графа жила естественная религия бога Рода (и его материнской ипостаси – Богородицы). В книге «В чем моя вера» ее основы изложены с опорой на иудаизм, но идея единой жизни всех людей в божественном Роде прекрасно просматривается.
Тут, кстати, стоит попутно заметить уже нам знакомый кунштюк: как во время обедни Толстой слышал лишь главный принцип религии Рода («возлюбим друг друга да единомыслием…»), а все, касающееся христианской Троицы, пропускал, так и теперь писатель видит в иудаизме религию Рода, но не видит ее национальных особенностей. Видит он то, что есть: бог Авраама – буквально еврейский вариант бога Рода, известного под разными именами всем народам земли. Авраамов Род явился праотцу в виде трех ангелов у Мамврийского дуба (шаманского дерева), рядом с пещерой Махпела, где впоследствии будут похоронены прародители Сара и Авраам. В своей архетипической основе религия бога Авраама и религия русского Рода идентичны, обе восходят к общечеловеческой религии Рода (Народа). Но между богами, как и между народами, все-таки есть немалая разница.
Так вот, Толстой, которому снится Дерево-Мать, который ясно понимает основные принципы религии Рода, четко формулирует русскую доктрину непротивления и отрицает церковные догматы, – этот Толстой все время с маниакальной навязчивостью возвращается к «учению евреев». Оно конечно, граф христианин, но все же… Вот почитайте: «Христос в противоположность жизни временной, частной, личной учит той вечной жизни, которую, по Второзаконию, Бог обещал Израилю, но только с той разницей, что, по понятию евреев, жизнь вечная продолжалась только в избранном народе израильском и для приобретения этой жизни нужно было соблюдать исключительные законы Бога для Израиля, а по учению Христа, жизнь вечная продолжается в сыне человеческом, и для сохранения ее нужно соблюдать законы Христа, выражающие волю Бога для всего человечества».
Лев Николаевич, помилуйте, ну зачем здесь это лишнее звено? Ни у китайцев, ни у индусов, ни у других народов (кроме, пожалуй, евреев) никогда не было представлений о Христе, чьи законы выражают волю еврейского бога для всего человечества. Да и сам Иисус на мировое господство не претендовал, он честно говорил: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф.15:24). И это разумно, поскольку он сын не бога вообще, а только – еврейского бога. Иисус дивный человек, великий учитель, кто с этим спорит, но он – плоть от плоти Рода Авраама и вовсе не хочет быть пуповиной, соединяющей с Древом Жизни каких-нибудь чукчу или русского. Иисус объявляет это абсолютно недвусмысленно: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам» (Мф.15:26). Псы это мы с вами, граф. Но называя псами, Учитель не хочет нас обидеть. Он просто говорит, что древо еврейского Рода – отнюдь не то же самое, что древо, например, Рода русского.
Так зачем же нам лезть на еврейское дерево? Вообще, что заставляет некоторых язычников набиваться в родство к иудеям? Это грустная история. Дело в том, что лучшие представители избранного народа стремились позиционировать своего племенного божка как Бога Всевышнего. И веками трудились над этим. В экскурсе «Толстой и бог Кафки» я проследил основные вехи этой работы и особо отметил заслугу апостола Павла, который придумал способ распространить влияние бога Авраама за пределы еврейского захолустья. Фанатик своего бога, ревностный фарисей, гонитель христиан, Павел вдруг сменил амплуа, стал проповедовать Христа язычникам и весьма в этом преуспел.
Бесспорно, Павлов Христос имеет некоторое отношение к Иисусу историческому. Но сейчас важнее увидеть отличие. Евангельский Иисус – реальный человек и сын своего божественного отца, а Христос Павла – архетипическая фигура, используемая как элемент информационной технологии, при помощи которой апостол язычников продвигал национального бога евреев. Так в рекламе показывают сексапильную девушку, чтобы сбыть свой товар. В этом суть: продать ненужную вещь можно, только если она будет ассоциироваться с чем-то близким, понятным, знакомым, родным, любимым и нужным. А что нам роднее и ближе того, что дает жизнь?
Вы можете ничего об этом не знать, можете думать, что вы автономны, что сделали сами себя. Но без постоянной подпитки неведомой силы – вы ничто. И сразу рассыпаетесь в прах, если ее действие прекращается. Это действие всюду, во всем, в каждом вздохе. Но дыхания-то мы как раз обычно и не замечаем. Мы замечаем что-то из ряда вон выходящее: безумную логику судьбы, ничем не заслуженное везение, нежданную помощь, которая вдруг неизвестно откуда приходит. И удивляемся. И говорим: это действие бога. Но ведь точно так же бог изнутри питает каждый наш вздох, каждое наше мгновенье. И в связи с этим вопрос: а как может действовать бог в человеке? На этот счет есть множество мнений, но все они так или иначе сводятся к одному: для взаимодействия с богом у человека должен быть специальный орган.
В поэмах Гомера повсюду разбросаны выражения типа: «тимос побуждает» или «тимос размышляет». Слово «тимос» обычно переводят как «сердце», что правильно, если иметь в виду вещее, любящее или верное сердце, а не насос гоняющий кровь. Сегодня, пожалуй, понятней будет перевести слово «тимос» как «анахата чакра». Но дело не в переводах. Дело в том, что тимос (как, впрочем, и френ, этор и прочие греческие чакры) – это представительство бога в человеке. Бог может вдохнуть в тимос прекрасную мысль (нус) или необычайную силу (менос). И вот уже «встала грозная мощь Леонтея, подобного богу». Через тимос в человеке действует бог. У китайцев тимосу соответствует синь (это тоже переводят как «сердце»). Названий может быть сколько угодно (к примеру, Лейбниц называет это монадой, Юнг – Самостью), а суть в том, что в душе человека есть виртуальный орган, сопрягающий его с божеством.
Толстой называл этот орган «сыном человеческим». Из цитат, которые я приводил в самом начале, ясно, что речь идет не о человеке Иисусе, но – именно о представительстве бога в душе, о виртуальной пуповине сыновства, о пупке, который так любил созерцать Будда. Если вспомнить, что Толстой ощущал себя плодом на Дереве Рода, можно назвать этот нематериальный пуп сыновства попросту «Сыном». Осознавая в себе этого «Сына» (то есть – себя как «Сына»), человек как бы включает связь с богом, активирует бога в душе, попадает в Царство Божие внутри себя.
Такова мысль Толстого, если очистить ее от шелухи. В частности, от того, что прибавлено Павлом к простой и ясной концепции действия бога внутри человека. Шаманы всех народов земли во все времена знали из опыта о внутреннем «Сыне», соединяющем человека с истоками жизни, а Павел совершил подлог, поставил иудейского равви на место этого «Сына». И таким образом соединил человека, ставшего христианином, с еврейским богом. Православные любят поговорить о жидомасонском заговоре, так вот он этот заговор – внутри вас. Действует веками. Каждому, рожденному в христианской семье, с детства вбивают в голову историю еврейского народа – как священную историю, а истины иудейской религии – как истины общечеловеческие. Вбили, конечно, и Лёвке-пузырю (так звали Льва Николаевича в детстве), и вот он, как утенок, которому при вылуплении из яйца показали посторонний предмет вместо матери, бегает за ним, не замечая настоящую мать (в этологии это называется импринтинг). Вот и путаница.
Из снов и текстов Толстого явствует, что по ту сторону собственного сознания он – плод, сын, висящий на пуповине материнского Дерева русского Рода. Но до сознания это переживание не доходит, ибо путь туда перекрыт привлекательным образом Христа, импринтированным в душу соответствующим воспитанием. Этот образ, запечатленный в душе, не позволяет Толстому увидеть, что Павлов Иисус соединяет человека не с истинным Деревом жизни, не с Всевышним, а только с еврейским богом, с его, скажем так, Мамврийским дубом, который питает не столько природными смыслами, сколько смыслами Рода Авраамова. И человек, вместо «нужного для жизни», получает инструкции, вроде той, что транслируется через русского писателя: «Нужно соблюдать законы Христа, выражающие волю Бога для всего человечества». То есть волю еврейского бога «для всего человечества». Бог какого-нибудь иного народа может иметь совершенно другую волю (кстати, слово «геноцид» означает буквально «уничтожение рода»).
Итак, человек подключен к Роду посредством виртуального органа, который можно назвать «Сын», а еще лучше – «Дитя» (чтобы не обижать дочерей человеческих). Дитя – это основа, на которой вырастает весь человек, важнейшая из структур души, погруженная сразу в два мира: мир вещей и мир архетипов. Толстой считает, что учение Иисуса заключается «в том, чтобы возвысить сына человеческого, то есть сущность жизни человека – признать себя сыном Бога». Может, и так, но только – что значит «признать»? Просто «признать» (осознать) себя «Сыном» – слишком мало. Ну признал. И что? Можешь горы двигать? Нет. Тогда иди, свободен.
На самом-то деле проблема заключается, в том, как человек и бог сопрягаются через «Сына», как включается связка: «Человеческий» – «Сын» – «Божий». Понятно, что осознать себя Сыном (Дочерью) – значит пробудить в себе Дитя. Понятно, если ты осознаешь действия Дитя как свои, то этим самым ты осознаешь себя Дитем бога. И тогда ты знаешь все тайны мира (хоть и не все потом помнишь), и можешь горы ворочать силою бога. Но вот только беда: никаким сознательным усилием Дитя в человеке не вызывается. Оно, если хочет, приходит само, и тогда ты как бы им одержим.
Толстой справедливо видел в Иисусе Дитя: «В самом себе Христос олицетворяет человека, признавшего свою сыновность Богу». Но, похоже, не понимал, что опыт Иисуса – это личный опыт Иисуса, соединившегося с еврейским родовым деревом, которое оказалось крестом (таковы уж свойства этого древа, этого народа и его жестокого бога). Распространять такой опыт за пределы еврейского культурного ареала (как это сделал Павел) – значит распространять действие этого кафкианского бога на невинных детей природы. Как он действует, мы уже видели на примере самого Толстого: отнимает радость жизни, заставляет думать о самоубийстве, подавляет врожденное Дитя. Некоторые записи дневника русского писателя сделаны этим бессердечным чужаком, а не Толстым4343
См. также главу «Шаманские экскурсы. Толстой и смерть»
[Закрыть]. Вот, например: «Только стоит спросить себя: а я что? И все кончено, и Толстой молчит. Тебе, Толстому, хочется или не хочется того или этого – это твое дело. Исполнить же то, что ты хочешь, признать справедливость, законность твоих желаний, это – мое дело. И ты ведь знаешь, что ты и должен и не можешь не слушаться меня, и что в послушании мне твое благо». В данном случае мы видим полное подавление Лёвки-пузыря.
А в более легких случаях происходит просто искажение смыслов. Возьмем для примера «непротивление». Изначально Толстой описал его как уклонение от бесполезной борьбы, сбивающей с пути в Царство Божие. Имел ли Иисус в виду именно то, что открылось русскому писателю? Трудно сказать, но в любом случае наставления отдать рубаху и подставить щеку превратились в христианстве в императив: надо отдавать, подставляться, страдать. И Толстой, четко сформулировавший доктрину непротивления (уклонения), вдруг начисто забыл главное: для чего оно нужно. Нужно оно для того, чтоб в тишине души расцвел «Сын». А Лев Николаевич весь отдался борьбе, пропаганде, боданию с церковью и государством. То есть занялся тем, чего по духу открытого им же «непротивления» делать нельзя. И скатился к христианскому: надо страдать и терпеть.
Хуже того, он стал проповедовать именно то, ради чего Павел внедрял свой манок в души гоев. В конце книги «В чем моя вера» написано: «Если бы было общество христиан, не делающих никому зла и отдающих весь излишек своего труда другим людям, никакие неприятели – ни немцы, ни турки, ни дикие – не стали бы убивать или мучить таких людей. Они брали бы себе все то, что и так отдавали бы эти люди». То есть неважно, какие инородцы будут вашими хозяевами, ведь вы же и так все отдаете, такова судьба гоя, в душу которого вставлен Павлов микрочип. В этом вся прелесть христианства, в котором «избранный народ» – всякого рода господа, а гои – порабощенный народ. Вот и Толстой говорит: «Если все члены семьи – христиане и потому полагают свою жизнь в служении другим, то не найдется такого безумного человека, который лишил бы пропитания или убил бы тех людей, которые служат ему».
Конечно, такая философия хозяина, заботящегося о собственном скоте, не имеет никакого отношения к Царству Божьему. Почему же наш «матерый человечище» этого не замечает? Да потому что, когда он это писал, его рукой водил тот самый Тартюф, который, как видно из дневника, подавлял бедного «Толстого». Тартюф ведь не просто обманщик, это архетип. Обманщик, использующий христианскую мораль для подавления чужой воли ради извлечения дивидендов. Тартюф – это есть Павлов микрочип в действии. Когда он включен, «Толстой молчит», не противится этому злу. По-христиански терпит. В этом, собственно, цель подмены, устроенной Павлом.
Но Толстой не всегда бывал слеп. Освобождаясь от диктата Тартюфа, возвращаясь в себя, отождествляясь с «Сыном», живущим в его душе, писатель прекрасно видел подмены и с блеском описывал их. Вот: Пьер Безухов видит во сне своего масона-благодетеля (символ Христа), вокруг которого сгрудился простой народ («они», солдаты), а с другой стороны – кричат и поют избранные: Анатоль, Долохов, прочие. «Но из-за их крика слышен был голос благодетеля… Пьер не понимал того, что говорил благодетель, но он знал… что благодетель говорил о добре, о возможности быть тем, чем были они» (неизбранные, народ). На секунду Пьер просыпается (ноги замерзли) и опять погружается в сон, но там уже только голос:
«…Самое трудное (продолжал во сне думать или слышать Пьер) состоит в том, чтобы уметь соединять в душе своей значение всего. Все соединить? – сказал себе Пьер. – Нет, не соединить. Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли – вот что нужно! Да, сопрягать надо, сопрягать надо! – с внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно, и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его вопрос.
– Да, сопрягать надо, пора сопрягать.
– Запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство!»
Последнее реплика – уже голос берейтора в яви. Так на переходе от сна к реальности «сопрягать» превращается в «запрягать». И точно так же в суматохе, наступающей следом за озарением, меняется смысловое наполнение «непротивления». Избегание ради свободы превращается в «трудиться, смиряться, терпеть». Обыденность требует «запрягать».
Но по ту ее сторону сохраняется смысл «сопрягать». Там, внутри, Царство Божие. Туда Толстой временами наведывался. Но об этих шаманских трипах – дальше.
Шаманские экскурсы. Толстой и Сумрак
(1. Детство)
Итак, виртуальный орган души, в котором совмещается божеское и человеческое. Толстой вслед за Иисусом называл этот орган то «сыном человеческим», то «сыном Божьим», а шаман назовет просто «Сыном». Или – Дитя. Впадая в сыновное состояние души, человек соединяется с божественным Родом и таким образом попадает в царство божие внутри себя. Такова теория, которую можно извлечь из религиозных писаний Толстого.
Что значит пробуждение Дитя? Со стороны это похоже на впадение в детство. И действительно, посторонний наблюдатель вряд ли сможет отличить это состояние от обыкновенного маразма. Но работа Дитя кажется слабоумием только профану. Посвященный же ясно видит разницу между болезненным слабоумием и божественной детскостью. Разница в том, что болезнь бесплодна, а состояние Дитя весьма продуктивно, хотя и сопровождается, как говорят, «понижением сознания». Собственно, это понижение – одно из условий творческой продуктивности. Напомню, что Лао-Цзы (чье имя переводится как «старый младенец») говорит: «Я подобен младенцу, который еще не начал и улыбаться… Я глупость в человеческом сердце». И Толстой признает, что понял смысл «непротивления», только откинув все толкования «по слову Христа: если не примете меня, как дети, не войдете в Царствие Божие».
Первое напечатанное произведение Толстого называется «Детство». Текст автобиографический, хотя и не совпадает в деталях с реальной биографией автора. Начинается с пробуждения: «12-го августа 18…, ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой – из сахарной бумаги на палке – по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову» (здесь и далее светлые курсивы в цитатах – мои).
Маленького героя «Детства» Николеньку Иртенева воспитывает смешной немец Карл Иваныч. Воспитывает сурово (в черновике даже сечет), но и трогательно. Он этнический немец, но вообще-то немец – это любой европеец: немой, не мой, чужак. В повести он воплощает собой принцип реальности, выводящий ребенка из мира грез. На переходе к бодрствованию получается нечто похожее на превращение «сопрягать» в «запрягать» (см. предыдущий экскурс). Учитель бьет мух, но попадает по ангелу, существу тоже крылатому, хотя и принадлежащему миру невидимого. Европейское просвещение отсекает мир грез от того мира, который оно считает реальностью. Человек не должен воспринимать импульсов, идущих из бессознательного. Реальность сновидения объявляется чем-то несущественным и несуществующим, подвергается развенчанию, насмешкам, уничтожается. В данном случае – при помощи бумажной хлопушки. А при Петре I, например, за одни только рассказы о видениях рвали ноздри и отправляли на каторгу.
В «Моей жизни» Толстой говорит, что, когда его переводили из детской, под надзор Федора Ивановича (Карл Иваныч «Детства»), он, пятилетней Лёвка-пузырь, «испытал в первый раз и потому сильнее, чем когда-либо после, то чувство, которое называют чувством долга, называют чувством креста, который призван нести каждый человек». Перевод к старшим мальчикам – это рубеж, перелом: «Жизнь моя того года очевиднее, чем настоящая жизнь, слагается из двух сторон: одна – привычная, составляющая как бы продолжение прежней, не имевшей начала, жизни, и другая, новая жизнь, то радующая своей новизной и притягивающая, то ужасающая, то отталкивающая, но все-таки притягивающая. Я просыпаюсь, и постели братьев, самые братья, вставшие или встающие, Федор Иванович в халате, Николай (наш дядька), комната, солнечный свет, истопник, рукомойники, вода, то, что я говорю и слышу, – все только перемена сновидения».
Весьма интересно: дневная жизнь – лишь продолжение сна. Тут Толстой почти формулирует вполне современную шаманскую теорию «сновидения в бодрствовании». Но просвещение, вбитое убогим немцем, заставляет Льва Николаевича тут же начать рассуждать о том, что основой сновидений служит то, что воспринято днем. Мы это похерим и сразу перейдем к тому, как Толстой понимает разницу между сном и бодрствованием: «Одна разница. Сновидения сладки, спокойны, даже страх, ужас, горе сновидений имеют сладость и успокоение: я весь во власти чуждой силы, но я живу и предаюсь ей – нет борьбы, искания и раскаяния или угрозы раскаяния, а в своей маленькой жизни я уже чувствую ее. Нет тоже в сновидении ничего нового по сущности своей, ничего такого, что против воли моей влекло бы меня туда, куда я не хочу, таких образов, которые бы были злы и вместе с тем законны. Во сне нет ужасного, нелюбовного. Если есть ужасное, то оно просто ужасно, но оно не зло».
Итак, в мире грез нет даже угрозы раскаяния, нет того, что куда-то влечет против воли, нет зла и закона. Короче: нет всего того, что для человека христианской культуры связано с законом еврейского бога. А противоположность закона – любовь, гармония, покой и воля, присущие более ранней дремотной жизни («не имевшей начала»). И даже ужас в этой жизни – вовсе не зло, а естественный элемент в потоке пусть чуждой, но благой (материнской) силы, несущей человека. Запомним это и вернемся к пробуждению Николеньки Иртенева:
«Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукою образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и хотя заспанными, но сердитыми глазами окинул Карла Иваныча». В сущности, перед нами акт творения мира, в котором придется прожить наступающий день. Любой переход от сна к бодрствованию повторяет начало творения. Небо отделяется от земли, устанавливается барьер (световой златотканый покров, – скажет Тютчев) между дневной реальностью и реальностью грез, которую с детства учат считать субъективной. Творец обыденной реальности в данном случае – педантичный немец. Он смотрит на часы (время пошло), нюхает табак и продолжает побудку: щекочет мальчику пятки. И уже кажется совсем добрым боженькой: «Как нас любит, а я мог так дурно о нем думать!» Но все же Николенька «со слезами на глазах» («нервы были расстроены») кричит по-немецки: «Ах, оставьте!»
Карл Иваныч: о чем дитя плачет? не видел ли чего дурного во сне?.. Это наводящие вопросы. Ответ: «Я сказал ему, что плачу оттого, что видел дурной сон – будто maman умерла и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь; но когда Карл Иваныч, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины». То есть мальчик объясняет свои слезы ложным образом, чтобы подстроиться к пониманию немца, а потом и сам верит в то, что придумал. Но мать и действительно скоро умрет. Получается, что детское пророчество рождается из обстоятельств, привходящих на грани сна и яви.
Примечательно то, что в первоначальной, рукописной редакции «Детства» ничего подобного не было. Николенька не придумал смерть матери и не увидел это во сне. О смерти пророчит юродивый Гриша, появляющийся в классной комнате, когда урок Карла Иваныча становится уже невыносимым: «Скука и аппетит увеличивались в одинаковой мере. Я с сильным нетерпением следил за всеми признаками, доказывавшими близость обеда». Собственно, Николенька, выпавший из размеренного процесса урока, прислушивается к шагам, ждет прихода дворецкого, который должен позвать обедать. Но вместо него является оборванец с посохом.
«Войдя в комнату, он из всех сил стукнул им по полу и, скривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз, и белый зрачок этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без того некрасивому лицу еще более отвратительное выражение.
– Ага! попались! – закричал он, маленькими шажками подбегая к Володе, схватил его за голову и начал тщательно рассматривать его макушку, – потом с совершенно серьезным выражением отошел от него, подошел к столу и начал дуть под клеенку и крестить ее. – О-ох жалко! О-ох больно!.. сердечные… улетят, – заговорил он потом дрожащим от слез голосом».
Кто улетит – мухи, ангелы, бабочки? В окончательном варианте повести это остается не проясненным. А рукопись дает это понять. Вот что в ней говорит Гриша: «И-их, птички вы мои, птички!! Самка скучает, грустит, а птички выросли, в поле летят. Не видать ей птенцов своих, велики, умны стали; а коршун их заклюет, бедняжек. На могиле камень, на сердце свинец. Жалко! Ох, больно, – и он стал плакать, утирая действительно падавшие слезы рукавом подрясника». И немцу: «А ты дурак, – вдруг сказал он, обращаясь к Карлу Иванычу, который в это время одевался и надевал помача, – хоть ты на себя ленты надевай, а все ты дурак – ты их не любишь». За обедом (и позже) Гриша продолжает пророчествовать: «На могиле камень»… Герой-рассказчик: «Очень легко было перевести его слова так, что он предсказывал maman смерть и то, что она с нами больше не увидится».

Лев Толстой со старшим братом Николаем,
который придумал «муравейное братство»
Итак, в окончательном варианте «Детства» способность предсказания переходит от юродивого к ребенку, за которым скрывается сам начинающий писатель. Он, конечно, вольно обращается с фактами собственной биографии (например, мать Толстого умерла, когда ему еще не было двух лет), но мы здесь не занимаемся сличением биографических деталей с сюжетом «Детства». Мы используем факты биографии писателя для того, чтобы проявить структуру его души. И видим, что эти двое, Гриша и Николенька, воплощают собой одну и ту же функцию: пророческую. И в этом качестве могут меняться местами, хотя и в ущерб ясности повествования. Например, из окончательного варианта «Детства» нельзя понять, откуда взялся Гриша. А в рукописи это объяснено: он «хаживал еще к бабушке (маменькиной матери) в Петербурге и очень любил ее, когда она была еще малюткой и, отыскав ее здесь, пришел полюбоваться птенцами ее, так он поэтически называл нас, детей».
То есть этот юродивый (детская функция) связан с материнской линией Рода и представляет собой Дитя (в смысле предыдущего экскурса), как бы отделившееся от человека, ставшее автономным персонажем и явившееся, чтобы сообщить, что умрет мать птенцов (о выпашем из гнезда Толстом см. экскурс «Толстой и Дерево»). Умрет как муха, убитая демиургом Карлом Иванычем (умерщвление природы – постоянное занятие просвещенных позитивистов). А ангел останется висеть, покачиваясь на дубовой (Дерево) спинке кровати, как Толстой в заключительном сне «Исповеди». «Вставай же, мой ангел», – так будит Николеньку мать в рукописной редакции «Детства». И сама же говорит о своей смерти: «Смотри, всегда люби меня – никогда не забывай; ежели меня не будет – не забудешь ты?» То есть знание о смерти идет от матери через Дитя, посредством которого человек связан с Деревом Рода. Знание это «ужасно, но оно не зло», оно просто естественно. Как и пробуждение во времена, когда ребенок еще не отдан в руки Кала Иваныча. Мать будит ребенка вовсе не так, как просвещенный немец, отделяющий физический мир от мира архетипов. Она пробуждает сына от вечерних грез, чтобы отправить в постель, где опять будут сны. Мать хранит сновидения.
Рассказчик в рукописи «Детства» вопрошает: «Вернется ли когда-нибудь эта свежесть и невинность души, эта естественная беззаботность, эта потребность любви и сила веры, которыми бессознательно обладаешь в детстве?» Ну, а почему бы и нет? Взрослый человек вполне может впасть в состояние Дитя. Что это значит – видно на примере Гриши, за которым вечером все-того же дня прощания с матерью будут подсматривать Николенька и другие дети. Вот они жмутся друг к другу в темном чулане, как во время игры в «муравейное братство» (в «Воспоминаниях», напомню, Толстой говорит, что «все на свете игра кроме этого»), и видят юродивого изнутри своей детской соборности, как бы из материнского чрева. Гриша молится (цитирую рукопись): «Сначала тихо ударяя только на некоторые слова, потом видно было, что он все более и более воодушевлялся. Он перестал уже твердить молитвы известные, которых он много прочел. Он говорил свои слова простые, даже нескладные: хотя он старался выражаться по-славянски, чтобы было похоже на молитву».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.