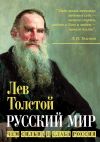Автор книги: Олег Давыдов
Жанр: Эзотерика, Религия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
Дальше цитирую по окончательному варианту повести: «Долго еще находился Гриша в этом положении религиозного восторга и импровизировал молитвы. То твердил он несколько раз сряду: «Господи помилуй», но каждый раз с новой силой и выражением; то говорил он: «Прости мя, господи, научи мя, что творить… научи мя, что творити, господи!» – с таким выражением, как будто ожидал сейчас же ответа на свои слова; то слышны были одни жалобные рыдания… Он приподнялся на колени, сложил руки на груди и замолк.
Я потихоньку высунул голову из двери и не переводил дыхания. Гриша не шевелился; из груди его вырывались тяжелые вздохи; в мутном зрачке его кривого глаза, освещенного луною, остановилась слеза.
– Да будет воля твоя! – вскричал он вдруг с неподражаемым выражением, упал лбом на землю и зарыдал, как ребенок».
Собственно, Гриша в этот момент и есть настоящий ребенок, Дитя в том самом смысле, который мы обнаруживаем в религиозных текстах Толстого. В этом юродивом страннике актуально действует «Сын». Рассказчик говорит: «О великий христианин Гриша! Твоя вера была так сильна, что ты чувствовал близость бога, твоя любовь так велика, что слова сами собою лились из уст твоих – ты их не поверял рассудком… И какую высокую хвалу ты принес его величию, когда, не находя слов, в слезах повалился на землю!..»
Шаманские экскурсы. Толстой и Сумрак
(2. Старчество)
Гриша впал в молитвенный раж, в слезах повалился на землю, полностью отождествился с Дитя, забыл все слова, достиг внутри себя Царства Божьего. Он, разумеется, христианин, но мог бы быть суфием, кришнаитом, буддистом, даосом. Говоря обобщенно, Гриша шаман, а его христианство – лишь обстоятельство места и времени. В нем играет божественное Дитя, которое может проявить себя где угодно и когда угодно. Пройдет много лет и точно так же, как Николенька Иртенев подсматривал за Гришей, за самим Львом Толстым будет на берегу Черного моря подсматривать Максим Горький. И вот, что увидит:
«Сидит, подперев скулы руками, – между пальцев веют серебряные волосы бороды, и смотрит вдаль, в море, а к ногам его послушно подкатываются, ластятся зеленоватые волнишки, как бы рассказывая нечто о себе старому ведуну. День был пестрый, по камням ползали тени облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. /…/ И он тоже показался мне древним, ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том – когда и каков будет конец камней и трав земных, воды морской и человека и всего мира, от камня до солнца. А море – часть его души, и всё вокруг – от него, из него. В задумчивой неподвижности старика почудилось нечто вещее, чародейское, углубленное во тьму под ним, пытливо ушедшее вершиной в голубую пустоту над землей, как будто это он – его сосредоточенная воля – призывает и отталкивает волны, управляет движением облаков и тенями, которые словно шевелят камни, будят их. И вдруг в каком-то минутном безумии я почувствовал, что – возможно! – встанет он, взмахнет рукой, и море застынет, остеклеет, а камни пошевелятся и закричат, и всё вокруг оживет, зашумит, заговорит на разные голоса о себе, о нем, против него».

Лев Толстой с дочерью Александрой на берегу моря. 1901 год
Вправду ли Горький увидел эту картину? Или она ему просто привиделась под впечатлением книг Толстого и общения с ним? Не так уж и важно, как он это увидел. Важно то, что он изобразил шамана, выскочившего из условий обыденности и соединившегося с существом мира. Горький, конечно, не знает, что делается в душе Толстого, он просто нечто почуял в «минутном безумии» и тщится обрисовать парадоксальное состояние единения со всем миром и одновременно – полной отрешенности от всего. Кое-что схватил очень верно: так и должна видеться со стороны тишь, которая воцаряется в душе в момент, когда смотришь на вселенную ее собственными глазами и поэтому чуешь ее как себя и знаешь все начала и цели. В такие мгновения видишь, что мир выстраивается ровно так, как ты хочешь. Ты и не ты. Ибо это не ты, а сам мир хочет того, чего хочешь ты, но ведь именно ты сейчас этот мир. Неслиянно и нераздельно.
Такое единство того и этого, тебя и другого, субъекта и объекта – явный симптом действия в человеке Дитя, соединяющего его с божеством, а значит и – со всем в мире. Представляя читателям Гришу, Толстой специально отмечает, что его речь была «бессмысленна и несвязна (он никогда не употреблял местоимений)». Отсутствие местоимений указывает на трудности с различением себя и другого, на растворенность в мире. Нечто похожее, хотя в ином аспекте, мы наблюдаем в случае Платона Каратаева: «Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал. Его слова и действия выливались из него так же равномерно, необходимо и непосредственно, как запах отделяется от цветка. Он не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова».
Таков человек, растворенный в общем потоке жизни, пребывающий в состоянии Дитя. «Народ – дитя», – говорил Якоб Гримм. С точки зрения интеллигента мужик в детском состоянии неадекватен. Но ведь и интеллигент, попавший в условия, которым не соответствует его просвещенность, неадекватен, что и демонстрирует Пьер Безухов и множество ему подобных субъектов, неспособных понять, что это вообще за явление перед ними. А между тем, перед нами существо, совмещающее божеское и человеческое, Дитя в чистом виде. Платоша, конечно, необразован, но ему это и не нужно, поскольку в нем является бог. Вот Пьеру явился. Только что с этим делать? Вопрос, собственно, в том, можно ли (и как) совместить состояние Дитя, в котором человек может видеть начала (архе, юань) и цели (энтелехейи, ли), с состоянием образованца, способного вычислять траектории снарядов и писать дрянные стишки? Короче: как совместить в одном лице Гришу и Карла Иваныча?
В принципе, это возможно. И Толстой примером собственной жизни демонстрирует это. Но предпосылки такой возможности совмещения создала сама судьба. Смерть матери не оборвала связь Лёвки-пузыря с Царством Божием. Напротив, эта ранняя смерть сохранила Дитя в первозданном виде. Законсервировала мироощущение того периода, когда мать была для мальца всем, оставалась питающим смыслами деревом, еще не трансформировалась в женщину, воспитывающую подросшего сына. Поэтому Лев Николаевич легко мог впадать в детское состояние. И стал бы полным Гришей, если бы не получил немецкого образования, которое, правда, отдавало педантством (отсюда и склонность следовать правилам).
В «Детстве» есть немало примеров переключений из состояния бодрствующей рациональности в состояние грезящего Дитя. Вот один из них: в промежутке между утренним явлением Гриши и вечерним подглядыванием за ним все семейство Иртеневых отправляется на охоту. Отец посылает Николеньку с собакой Жираном ждать зайца. «Избрав у корня высокого дуба тенистое и ровное место, я лег на траву, усадил подле себя Жирана и начал ожидать. Воображение мое, как всегда бывает в подобных случаях, ушло далеко вперед действительности: я воображал себе, что травлю уже третьего зайца». Николенька под дубом (надо понять, что это то самый дуб, с которым позднее будет согласен князь Андрей Болконский) погружен в наблюдения за муравьями («муравейное братство»). И тут:
«От этих интересных наблюдений я был отвлечен бабочкой с желтыми крылышками, которая чрезвычайно заманчиво вилась передо мною. Как только я обратил на нее внимание, она отлетела от меня шага на два, появилась над почти увядшим белым цветком дикого клевера и села на него. Не знаю, солнышко ли ее пригрело, или она брала сок из этой травки, – только видно было, что ей очень хорошо. Она изредка взмахивала крылышками и прижималась к цветку, наконец, совсем замерла. Я положил голову на обе руки и с удовольствием смотрел на нее».
Мальчик смотрит на бабочку с самозабвением, примерно так, как смотрел на мать (в рукописях). Он выпал из хода обычного мира (в данном случае – взрослой охоты). Бабочке, приникшей к цветку, хорошо. Николеньке, всматривающемуся в бабочку, тоже. Совершенная гармония. Конечно, в обыденном мире это обычная бабочка, а вот в мире архетипов и грез она – нечто другое. В этом мире она может оказаться, скажем, той самой бабочкой, которую видел во сне Чжуан-Цзы (а она – его). Николенька смотрит на мотылька, забыв обо всем. Точно так же смотрел он и на молящегося Гришу, который в ходе писания «Детства» обернулся им самим, ребенком, пророчащим смерть матери. И бабочка может обернуться чем угодно: и обыкновенной лимонницей, и ангелом, и Николенькой, и Толстым, и Чжуан-цзы, который не знает, кто он, человек или бабочка, и Гришей, который не отличает того от этого. Бабочка может быть всем. Она всем и является. И – всему. Всей вселенной…
Но вдруг – бах, хлопушка Карла Иваныча: «Жиран завыл и рванулся с такой силой, что я чуть было не упал». Заяц! «Кровь ударила мне в голову, и я все забыл в эту минуту: закричал что-то неистовым голосом, пустил собаку и бросился бежать. Но не успел я этого сделать, как уже стал раскаиваться: заяц присел, сделал прыжок, и больше я его не видал». Это, впрочем, еще не совсем пробуждение, это еще в рамках грез единения с миром. А настоящее пробуждение вот: «Но каков был мой стыд, когда вслед за гончими, которые в голос вывели на опушку, из-за кустов показался Турка! Он видел мою ошибку (которая состояла в том, что я не выдержал)».
Напомню: согласно Толстому как раз чувства долга, креста и раскаяния характеризуют состояние взрослого человека европейской христианской культуры. В этом – отличие бодрствования от детского состояния грез, где все покой и любовная гармония с некоей силой, которая – хоть и чужда, но – никогда не влечет туда, куда сам не хочешь. С этой силой не знаешь раскаяния. А Николенька стыдится и раскаивается. Потому, что в момент, когда от него требуется взрослое поведение, он ведет себя как ребенок. В черновике это сказано определенней: «Все мои планы выдержать исчезли, я спустил собаку». То есть умом-то он знал, что надо делать, знал, как ведут себя взрослые на охоте, хотел им подражать, имел некий «план» (слово из лексикона рациональности), но поступил как дитя. Не вышел из состояния Дитя, которое ничего не планирует, а только соединяет с божеством, которое действует. В данном случае – отпускает зайца. И раскаивающийся Николенька в ответ на упрек Турки отождествляется с зайцем: «Мне было б легче, ежели бы он мне отрезал ноги, как зайцу, и повесил бы меня на седло».
Обратите внимание: Толстой выделяет курсивом слово «выдержать». Николенька не выдержал примерно так, как Николай Ростов «не мог выдержать» и бросился в атаку. Тому, что из этого вышло, я посвятил целых два экскурса4444
См. главу «Шаманские экскурсы. Ростов. Я и Ся»
[Закрыть], не хочу повторяться. Но все же напомню, что в них обсуждался термин чжень, из мантической формулы китайской «Книги перемен». Это слово указывает на амбивалентное единство того, кто движется в потоке перемен, и того, кто движет этот поток. Указывает на одержимость той самой «чуждой силой», которая влечет человека к какой-то, быть может, неведомой ему, но известной ей цели. В частности, все, что происходит с Николенькой в этот длинный день прощания с матерью, типичный поток перемен, с уже заранее известной (от Гриши) целью. И Толстой, пишущий «Детство», движется в потоке, влекущем его к великому будущему. Хотя потоки, несущие нас, бывают разные. Имея все это в виду, поговорим о том, как можно впасть в состояние Дитя. Возьмем для примера «Сумерки» Тютчева:

Федор Тютчев
Тени сизые смесились,
Цвет поблекнул, звук уснул —
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул…
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном…
Час тоски невыразимой!..
Всё во мне, и я во всем!..
Это, конечно, не просто картинка вечерней природы. И даже не изображение душевных переживаний. Это, скорей, методическое пособие для тех, кто стремится к слиянию с миром. Последовательно перечисляется то, что должно произойти, прежде чем искомая цель будет достигнута. Предметы в пространстве сливаются в цельность сумрака. Отдельные звуки (перемены во времени) превращаются в гул, сумрак длительности. Уровень сознания понижается до состояния, которое можно назвать сумеречным состоянием души. Все становится всем, субъект растворяется, испытывая на пороге исчезновения невыразимую тоску. Все зыбко. Подступают видения. Ты можешь обернуться мотыльком, незримо порхающим в сумраке, не знающим – Чжуан-цзы он сейчас или Тютчев. Да и какая тут разница – кто ты (он)? Держась за привычное «я», ты остаешься только Толстым или Тютчевым, а оставив привязанность к этим значкам, становишься всем. И как божественное Дитя можешь все. Но для этого надо буквально отбросить себя, забыть, кем ты был, и не знать, кто ты есть. Реально не знать, а не просто представить себе, что не знаешь.
«Сумерки» по форме – заклинание, повторяя которое можно впасть в состояние «Сына», Дитя (или повышенного осознания, как сказал бы дон Хуан). Это мантра, помогающая раствориться в мире. Неизвестно, бормотал ли ее (или что-нибудь вроде нее) старый шаман, сидя на берегу Черного моря в тот памятный день 1902 года, когда к нему незаметно подкрался Горький. Но вот что наблюдал пианист Александр Гольденвейзер, навестивший занемогшего Толстого в декабре 1899 года:
«Заговорили о Тютчеве. На днях Л. Н. попалось в «Новом времени» его стихотворение «Сумерки». Он достал по этому поводу их все и читал больной. Л. Н. сказал мне: «Я всегда говорил, что произведение искусства или так хорошо, что меры для определения его достоинств нет – это истинное искусство; или же оно совсем скверно. Вот я счастлив, что нашел истинное произведение искусства. Я не могу читать его без слез. Я его запомнил. Постойте, я вам сейчас скажу его». Л. Н. начал прерывающимся голосом: «Тени сизые смесились…» Я умирать буду, не забуду того впечатления, которое произвел на меня в этот раз Л. Н. Он лежал на спине, судорожно сжимая пальцами край одеяла и тщетно стараясь удержать душившие его слезы. Несколько раз он прерывал чтение и начинал сызнова. Но наконец, когда он произнес конец первой строфы: «Все во мне и я во всем…“, – голос его оборвался».

Толстой и Горький. 8 октября 1900 г.
Готово дело, поплыл старик, не выдержал, тронулся, полетел… А ведь это только еще экспозиция, только абрис того желательного состояния, в котором действует божественное Дитя, только набросок того Царства Божьего, которого надо достичь. В первой строфе «Сумерек» еще присутствует «я», хотя и – на грани: «Всё во мне, и я во всем» (уточним это, когда доберемся до Юнга4545
См. Том Шестой
[Закрыть]). А вот вторая строфа – нечто гораздо более радикальное. Это не просто балансирование на пороге исчезновения «я», это заклинание, требующее уже полного освобождения от яйности, буквального растворения, принципиального уничтожения всякой субъектности.
Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, томный, благовонный,
Все залей и утиши.
Чувства – мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!
Если убрать отсюда лишние слова, отдающие дань поэтической моде XIX века и лишь ослабляющие силу заклятия, то получится прямое взывание к Сумраку: лейся, залей, переполни, дай, смешай! Смешай со всем дремлющим миром (а не только видимым миром предметности), дай вкусить истинного уничтоженья. И уж там, за гранью (за «краем»), будет то, что почудилось Горькому: «Всё вокруг оживет, зашумит, заговорит на разные голоса». У Горького это, конечно, только пустые красивости, но ведь Толстой буквально растворялся сумраке детства, когда писал свои тексты, и позволял говорить голосам приходившим из дремы. Об этом – дальше. И уж закончим с великим русским шаманом.
Шаманские экскурсы. Толстой и Анна
(1. Оживленность)
В этом экскурсе мы рассмотрим мифологическую подоплеку романа «Анна Каренина». Всякого рода «психологию», «идеи», социальные связи, историческую конкретику и тому подобные вещи будем анализировать по мере надобности прояснения мифа, на котором они смонтированы. Начнем с главной героини.
Когда Анна является из Петербурга в Москву, в поезде едут две женщины: она сама и мать Вронского. Их встречают два мужчины: брат Анны Стива Облонский, в доме которого «все смешалось», и петербургский офицер Алексей Вронский, который ухаживает за сестрой жены Облонского. Такой родственный узел. Вронский ищет мать, но первой видит еще ему не знакомую Анну. Это бывает с мужчинами, ищущими в возлюбленной матери, однако не будем отвлекаться. Вронский «почувствовал необходимость еще раз взглянуть на нее… потому, что в выражении миловидного лица, когда она прошла мимо его, было что-то особенно ласковое и нежное». И она тоже повернула голову. «В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшею ее румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке». (Здесь и далее в цитатах курсив мой. – О.Д.)
Итак, женщину что-то «переполняет», «избыток чего-то». Чего же? Судя по описанию, в Анне сидит существо, проявление которого Толстой описывает как «оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой»… Этот дух, переполняющий Анну, – один из главных персонажей романа, просто он не сразу определяется как отдельная от Анны сущность. Но он изображается как «оживленность», которая играет на лице. И это «нечто оживляющее» появляется часто. Например: «Анна непохожа была на светскую даму или на мать восьмилетнего сына, но скорее походила бы на двадцатилетнюю девушку по гибкости движений, свежести и установившемуся на ее лице оживлению, выбивавшемуся то в улыбку, то во взгляд». Особенно ярко это нечто вспыхнет на балу, где Анна отобьет Вронского у Кити. На этом балу Кити сделала интересное наблюдение относительно Анны: «Черное платье с пышными кружевами не было видно на ней; это была только рамка, и была видна только она, простая, естественная, изящная и вместе веселая и оживленная».
Оживленность как бы выступает из рамки, каковой является не только платье, но и все тело Анны. Во время бала оживляющее существо уже полностью завладевает женой Каренина. В какой-то момент Кити вдруг увидала «блеск в глазах и улыбку счастья и возбуждения, невольно изгибающую губы, и отчетливую грацию, верность и легкость движений». Чуть позже: «Какая-то сверхъестественная сила притягивала глаза Кити к лицу Анны. Она была прелестна в своем простом черном платье, прелестны были ее полные руки… прелестно это красивое лицо в своем оживлении; но было что-то ужасное и жестокое в ее прелести». В одном из вариантов, не вошедших в окончательный текст романа, Анна говорит сестре Кити Долли: «Я не знаю, как это сделалось, но Алексей Гагин (это Вронский. – О.Д.) не отходил от меня, и я боюсь, я кокетничала с ним, сама не зная этого. Я не знаю, что нашло на меня».
Значит, сквозь Анну проступает некое «прелестное», но «ужасное и жестокое» существо, «оживляющее» ее, заставляющее делать то, чего она сама не знает и не хочет, и в конце концов уводящее Вронского от Кити. Что все-таки это за существо? Чтобы это понять, давайте посмотрим, кто такие Облонские, Анна и ее брат Стива. Уже сама фамилия Облонские указывает на некое «обло», нечто охватывающее и таким образом соединяющее, облако связей. Стива – ходячий символ родственных отношений. «Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степана Аркадьича. Он родился в среде тех людей, которые были и стали сильными мира сего. Одна треть государственных людей, стариков, были приятелями его отца и знали его в рубашечке; другая треть были с ним на „ты“, а третья треть были хорошие знакомые; следовательно, раздаватели земных благ в виде мест, аренд, концессий и тому подобного все были ему приятели и не могли обойти своего».
В сущности, это точное описание действия правящего в России божественного Рода. Я уже излагал мифологию этого божества как мифологию народной Троицы4646
См. главу «Шаманские экскурсы. Толстой и Дерево»
[Закрыть], в которой важнейшую роль играет представление о мистическом Дереве Рода. В элитарной среде это Дерево обычно редуцируется в родовое древо такой-то семьи. В обычном быту мифология рода проявляется как родственная и общинная взаимопомощь. В высших классах общества можно наблюдать то же самое, но только в иных формах. Что и описывает Толстой, говоря о свете, где все если и не близкие родственники, то – друзья близких родственников. В центре этого описания стоит Облонский, завязывающий на себя всю эмпирику связей родственности. В дальнейшем становится ясно, что Стива – вообще олицетворенная соединительная ткань родовых отношений. В этом облаке родственных связей он играет роль души общества, приятного всем добряка. Ходячий символ родового единства правящей касты, тот, кто ее цементирует. Такое существо не может быть несимпатичным, недружественным, нелюбвеобильным, не может быть бирюком, типа Левина. И сестра Стивы, урожденная Анна Облонская, выполняет похожую функцию, но – со своими особенностями.
Однако в доме Облонских что-то неладно. Полезно помнить, что роман «Анна Каренина» (как и «Детство»4747
См. главу «Шаманские экскурсы. Толстой и Сумрак (1.Детство)»
[Закрыть]) начинается с пробуждения к реальности (и тоже «в третий день после»…). В этой реальности Стива наказан женщиной-матерью. А во сне он видел, как женщины в виде графинчиков пели: «Мое сокровище». Ах, хорошо! Но вдруг Стива обнаруживает себя в кабинете, а не в спальне… «И его воображению представились опять все подробности ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его». Перед матерью. Долли, правда, не его мать, а мать его детей (пяти живых и двух умерших). Но в романе она стоит в позиции матери по преимуществу, символизирует Материнское дерево, главную мать этой саги о матери (Анне), гибнущей, под колесом прогресса.
Так вот сага о проблемах Рода начинается с семейной размолвки, в которой жена Стивы Долли играет роль обиженной Матери (она и к мужу относится как к ребенку), а Стива Облонский – роль провинившегося ребенка, желающего получить прощение при помощи своей сестры Анны: «Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства, по чувству справедливости должна быть снисходительна» (к его измене). И вот Анна призвана в Москву, чтобы восстановить гармонию в доме. Наладить оборванную связь, что особенно важно, поскольку чета Облонских символизирует семейственность как таковую.
Но это не единственное, ради чего Анна вызвана в Москву. И, пожалуй, даже не главное. Анна призвана восстановить еще одну оборванную связь. И она ее восстановит. Но для этого она вызвана вовсе не братом. А кем? Давайте посмотрим.
Едва ли не в самый момент пробуждения Стивы к реальности в Москву из деревни приезжает Константин Левин, свататься к Кити Щербацкой, младшей сестре Долли, точнее – чтобы восстановить старое сватовство, идущее еще с его студенческих лет. «В это время Левин часто бывал в доме Щербацких и влюбился в дом Щербацких. Как это ни странно может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербацких». Толстой нарочито подчеркивает, что во влюбленности Левина не так уж и много личного, что тут опять скорее что-то родовое: «Во время своего студенчества он чуть было не влюбился в старшую, Долли, но ее вскоре выдали замуж за Облонского. Потом он начал было влюбляться во вторую. Он как будто чувствовал, что ему надо влюбиться в одну из сестер, только не мог разобрать, в какую именно. Но и Натали, только что показалась в свет, вышла замуж за дипломата Львова. Кити еще была ребенок, когда Левин вышел из университета».
Но пришло время, и он влюбился в Кити, только все дичился, уехал в деревню, не сделав предложения. И вот через два месяца вернулся, чтобы посвататься, а Кити уже увлечена Вронским. Содействовать Левину в сватовстве, естественно, должен Облонский. Кому же еще, если в этом мифологическом романе он играет роль светского Домового, всеобщего посредника (и потому с такой же охотой способствует в сватовстве к той же девушке Вронскому). По совету Стивы Левин идет в дом к Шербацким, делает предложение и получает отказ. А дальше начинается интересное.

Спиритический сеанс
Собираются гости, появляется Вронский, идет пустой светский треп. И вдруг: «Разговор зашел о вертящихся столах и духах, и графиня Нордстон, верившая в спиритизм, стала рассказывать чудеса, которые она видела». Вронскому это весьма интересно. А Левину? Вообще-то, в одном из черновых вариантов романа именно он провоцирует тему спиритизма. Правда, только для того, чтобы перевести хоть на что-нибудь неприятный ему разговор. В любом случае его взгляд на вызывание духов скептичный: «Эти вертящиеся столы доказывают, что так называемое образованное общество не выше мужиков. Они верят в глаз, и в порчу, и в привороты, а мы…» Но графиня Нордстон сама видела… На что Левин отвечает: «И бабы рассказывают, как они сами видели домовых».
Конечно, видели. И мы только что видели проявление в Анне какого-то духа. А ближе к концу настоящего экскурса увидим и Домового. Просто надо уметь видеть духов. Вот Лев Николаевич, например, солидарен с Левиным в том, что спиритизм ненаучен. И тем не менее, фактически изображает вызывание духов. Уже даже назначен медиум. Это Левин. «А я думаю, что вы будете отличный медиум, – сказала графиня Нордстон, – в вас есть что-то восторженное». Но, увы, предложение Вронского немедленно начать спиритический сеанс («Кити встала за столиком») не проходит. Является старый князь Щербацкой и срывает сеанс. Хотя – кто сказал, что вызывание духа не состоялось? Еще как состоялось… Оно конечно, Толстой не может позволить себе откровенно написать, что в результате сеанса спиритизма был вызван женственный дух, который пришел и помог восторженному медиуму Левину жениться на Кити. Но если посмотреть на дело без предрассудков, станет ясно, что именно так и получилось.
Смотрите: уже наутро Вронский встретит на вокзале Анну Каренину, в которой, как мы видели, сидит женственный дух, оживленно порхающий от глаз к губам и обратно. И этот дух сделает так, что Кити освободится для Левина. Иными словами: с подачи Вронского медиум Левин вызывает богиню (Стива вызвал ведь только сестру), которая помогает ему соединиться с возлюбленной. Грубо говоря, демоническое существо приехало (в Анне) в Москву, взяло Вронского за причинное место и утащило с собой в Петербург. Кити после хирургической операции отсечения Вронского, немного поболеет и выйдет за Левина. А бедной Анне придется до дна испить чашу страстей и страданий (что часто бывает, когда женщина «оживлена», одержима каким-нибудь «ужасным и жестоким» существом).
Ну, и кто же у нас после этого Анна? Точней, что за существо сидит в ней? В первоначальных набросках романа Толстой описывает свою героиню так: «Некрасивая, с низким лбом, коротким, почти вздернутым носом и слишком толстая. Толстая так, что еще немного, и она стала бы уродлива. Если бы только не огромные черные ресницы, украшавшие ее серые глаза, черные огромные волоса, красившие лоб, и не стройность стана и грациозность движений, как у брата, и крошечные ручки и ножки, она была бы дурна. Но, несмотря на некрасивость лица, было что-то в добродушии улыбки красных губ, так что она могла нравиться». Это, так сказать, первое видение, но именно оно обычно самое точное. Дальше пойдет деформация, окультуривание, очеловечивание, подгонка под исторически обусловленный идеал красоты.
А здесь мы воочию видим Великую мать во всей ее, так сказать, первобытной наготе. Видим чуть ли не каменную бабу, саму «палеолитическую Венеру», чье назначение пестовать род, то есть – рожать, выкармливать и регулировать отношения внутри племенного мира, состоящего из ее детей. Видим жену и хозяйку всех мужчин рода времен матриархата. Кстати, Анна вскоре сама начнет видеть себя в этой роли во сне. «Одно сновиденье почти каждую ночь посещало ее. Ей снилось, что оба вместе были ее мужья, что оба расточали ей свои ласки. Алексей Александрович плакал, целуя ее руки, и говорил: как хорошо теперь! И Алексей Вронский был тут же, и он был также ее муж. И она, удивляясь тому, что прежде ей казалось это невозможным, объясняла им, смеясь, что это гораздо проще и что они оба теперь довольны и счастливы. Но это сновидение, как кошмар, давило ее, и она просыпалась с ужасом».

Вивьен Ли в фильме Жюльена Дювивье «Анна Каренина», 1948
Ну, «ужас-ужас-ужас» – это, знаете ли, категория христианской морали, которая неприменима к богам. А тут нормальная полиандрия, характерная для первобытной богини. Конечно, Толстой не собирался делать из Анны Великую Мать, просто нечаянно зацепил эту архетипику. По ходу дальнейшей работы над текстом от первоначальной праматери останутся только следы. Писатель придаст своей Анне больше привлекательности (хотя и оставит ее толстой, все-таки жена его была Толстая). Расскажет о гибкости ее движений, красоте плеч, грациозности талии, румяности губ и так далее. Но он чувствовал, что саму божественность такими описаниями выразить невозможно. И нащупал способ изобразить божество как легкую «оживленность», которая «порхает» в лице земной женщины. А чтобы уж читателя не оставалось сомнения в том, что перед ним не совсем человек, добавил к этой живописи впечатления других героев («да, что-то чуждое, бесовское и прелестное есть в ней»), а также собственные впечатления Анны от того, что с ней происходит: что-то нашло на меня, я сама не своя…
Это видно, когда Анна едет назад в Петербург. Та, что сидит в ее душе, искушает: «На нее беспрестанно находили минуты сомнения, вперед ли едет вагон, или назад, или вовсе стоит. Аннушка ли подле нее или чужая? „Что там, на ручке, шуба ли это или зверь? И что сама я тут? Я сама или другая?“ Ей страшно было отдаваться этому забытью. Но что-то втягивало в него, и она по произволу могла отдаваться ему и воздерживаться». Анна пытается взять себя в руки: «На минуту она опомнилась и поняла, что вошедший худой мужик в длинном нанковом пальто, на котором недоставало пуговицы, был истопник, что он смотрел на термометр, что ветер и снег ворвались за ним в дверь; но потом опять все смешалось… Мужик этот с длинною талией принялся грызть что-то в стене, старушка стала протягивать ноги во всю длину вагона и наполнила его черным облаком; потом что-то страшно заскрипело и застучало, как будто раздирали кого-то; потом красный огонь ослепил глаза, и потом все закрылось стеной. Анна почувствовала, что она провалилась. Но все это было не страшно, а весело».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.