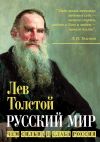Автор книги: Олег Давыдов
Жанр: Эзотерика, Религия
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
Даже очень хороший! Но поскольку бог улетел, мир демонстрирует свой реализм, втягивает Левина обратно в себя, в свою повседневность, провоцирует быть таким, каким его знают обитатели мира. Вот Иван, в частности, подставляется:
«– Вы извольте вправо взять, а то пень, – сказал кучер, поправляя за вожжу Левина.
– Пожалуйста, не трогай и не учи меня! – сказал Левин, раздосадованный этим вмешательством кучера. Точно так же, как и всегда, вмешательство привело бы его в досаду, и тотчас же с грустью почувствовал, как ошибочно было его предположение о том, чтобы душевное настроение могло тотчас же изменить его в соприкосновении с действительностью».
Ничего, все нормально, иначе и быть не могло. У Левина (но не у Толстого) всегда так и будет: бог упущен, не понят, сведен к общим местам и благим пожеланиям. И тем не менее Левин уже получил опыт бога. Как и каждый из нас. Просто мы его позабыли в своих кафкианских офисах (как мог бы сказать дон Хуан).
Чтобы уж чем-то закончить, приведу целиком одну проповедь китайского монаха Хуан-бо по прозвищу Обаку (он умер в 850 году): «Дух неозабоченности лучше, чем сто различных видов знания. Лучше него нет ничего в мире. Подлинный странник не обладает ничем. Ни один человек не отличается от остальных людей. Объяснить истину невозможно. Это все. Пребудьте в покое!»
В дальнейшем мы все-таки озаботимся поимкой бога Толстого и Левина.
Шаманские экскурсы. Толстой и Род
Мы все еще в том лесу, где2828
См. главу «Шаманские экскурсы. Толстой и бог Кафки»
[Закрыть] кто-то из русских богов спас Толстого от самоубийства. Применительно к Левину этот случай описан в «Анне Карениной» (см. предыдущий текст). Испытавший сатори Левин скоро вновь погрузился в заботы мира. И Лев Толстой – тоже. Сходство налицо, но в «Исповеди» нет мужика Федора, который в романе вводит барина в транс. В «Исповеди» перед главкой, где описан случай в лесу, просто сообщается, что Толстой уже начал искать веру в среде простого народа: «И я стал сближаться с верующими из бедных, простых, неученых людей, с странниками, монахами, раскольниками, мужиками».
Тот факт, что в «Исповеди» нет ангела (бога в облике мужика), который говорит слова, заставляющие человека пережить инсайт, вовсе не означает, что Толстому никто не являлся. Конечно, являлся. Во-первых, ангел Федор каким-то образом все-таки попал на страницы «Анны Карениной», которая создавалась как раз в то время, когда Лев Николаевич был в депрессии и выходил из нее. А во-вторых, в «Исповеди» все же звучит голос русского бога, и мы в этом убедимся, когда придет время толковать сон2929
См. главу «Шаманские экскурсы. Толстой и Дерево»
[Закрыть], которым она заканчивается. Сейчас лишь замечу, что бог может проявлять себя самыми разными способами: как видение, как настроение, как мысль, как зверь или птица, как человек из плоти и крови, как персонаж романа, который ты пишешь или читаешь.
Лев Толстой пишет «Анну Каренину», и русский бог является ему (а потому и его альтер эго Левину) в виде мужика Федора. Но он уже являлся Толстому в виде Платона Каратаева. А Достоевскому – в виде мужика Марея. А Тургеневу – в виде Касьяна с Красивой Мечи. А Тютчеву – в виде Царя небесного в рабском виде. Он явится и Солженицыну в виде зека Спиридона, и бесчисленным писателям-деревенщикам… Но отнюдь не все те, кому из глубин коллективного бессознательного являлся мужик, олицетворяющий дух простого народа, обращались в народную веру, как это случилось с Толстым: «Я отрекся от жизни нашего круга, признав, что это не есть жизнь, а только подобие жизни, что условия избытка, в которых мы живем, лишают нас возможности понимать жизнь».
Искатели бога во все времена отказывались от «избытка». Просто потому, что для единения с богом избыток не нужен, нужна беззаботность. Но это вовсе не повод для того, чтобы вот так вот взять и превратиться в мужика (у которого забот, может, побольше, чем у барина). А Толстой решил опроститься до того, что стал пахать землю (хотя имение нищим отнюдь не раздал). Что это – барская дурь или в таком поведении есть глубокий сермяжный смысл? В «Исповеди» граф объясняет: «для того, чтобы понять жизнь», нужно было понять «жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей».
Похоже, Лев Николаевич решил поставить эксперимент на себе, погрузиться в смысловую стихию народной веры, понять ее изнутри. А это уже не пустая барская болтовня. Это в своем роде мистическая практика, попытка поймать бога, сделав себя наживкой (помнится, дон Хуан говорил Кастанеде: сделай себя заметным духу, может быть, он позарится на тебя).
Но при этом Толстой хотел остаться в рамках христианства: «Вероучение этих людей из народа было тоже христианское, как вероучение мнимоверующих из нашего круга. К истинам христианским примешано было тоже очень много суеверий, но разница была в том, что суеверия верующих нашего круга были совсем не нужны им, не вязались с их жизнью, были только своего рода эпикурейскою потехой; суеверия же верующих из трудового народа были до такой степени связаны с их жизнью, что нельзя было себе представить их жизни без этих суеверий, – они были необходимым условием этой жизни».
Из христианского контекста «Исповеди» ясно, что Толстой хотел сказать немного иное, но сказалось у него фактически следующее: бога надо искать не в «истинах христианских», а в примешанных к ним «суевериях» (ровно так и написано), но для образованных людей эти богоносные «суеверия» лишь баловство, а для людей из народа – «необходимое условие жизни». Именно в этих «суевериях» заключена реальность, дающая силу жизни, то есть – искомый бог. И отсюда понятно, почему бога надо искать у народа. Просто потому, что там он абсолютно необходим для жизни, а значит – там больше шансов его найти.
В принципе, это не обязательно так (дух дышит, где хочет), но ход мысли вполне понятен. Только, конечно, не надо путать вероучение (конструкцию человеческого ума) с непосредственными проявлениями бога. Эти две вещи почти несовместны. Бог – это то, что берет вас за ливер, куда-то влечет, что-то делает, дает или отнимает. Бог – реальность, данная нам в ощущении, а вероучение – только слова, условность, навязывание богу человеческих представлений о божестве. Бог, глядя на это со своей колокольни, чешет репу и добродушно посмеивается.
Поразительно то, что Толстой ищет силу жизни, бога, а говорит почти все время о вероучении. И таким образом (мы это уже видели на примере Левина) строит преграду между собою и богом. О своей вновь обретенной вере он сообщает: «Я вернулся к вере в ту волю, которая произвела меня и чего-то хочет от меня; я вернулся к тому, что главная и единственная цель моей жизни есть то, чтобы быть лучше, т.е. жить согласнее с этой волей; я вернулся к тому, что выражение этой воли я могу найти в том, что в скрывающейся от меня дали выработало для руководства своего все человечество, т.е. я вернулся к вере в Бога, в нравственное совершенствование и в предание, передававшее смысл жизни. Только та и была разница, что тогда все это было принято бессознательно, теперь же я знал, что без этого я не могу жить».

Толстой в кругу родных. 1887 г. Ясная Поляна
Кажется, классик тут не совсем врубается: «Только та и была разница, что»… Но ведь это же решающая разница. Как это ни парадоксально для профанов звучит, а перемещение бога из бессознательной сферы в сферу знаемого всегда оборачивается отделением человека от бога (если, конечно, не применять шаманские техники, которые мы будем рассматривать в связи с психологией Юнга3030
См. Шестой Том
[Закрыть]). Бог скрывается в глубине, а человек остается с вероучением, в котором божественный смысл искать бесполезно. Толстой это, кажется, чувствует, поэтому и хочет понять «жизнь простого трудового народа, того, который делает жизнь, и тот смысл, который он придает ей». И что же он понял? А вот: «Смысл этот, если можно его выразить, был следующий. Всякий человек произошел на этот свет по воле Бога. И Бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее. Задача человека в жизни – спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-божьи, а чтобы жить по-божьи, нужно отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым».
Как говорится, приехали! Значит, весь смысл народной веры сводится к тому, чтобы смиряться, терпеть и все такое. А я грешным делом думал, что смысл этой веры в любви ко всем людям, скотам и божьему миру в целом. Так меня в детстве мама и папа учили, простые русские люди из города Богородицка Тульской области (это – где было имение Вронского). Бедные мои милые старики, они жили себе, любили меня и весь свет, а умерли в темноте. Никто им не объяснил, что весь смысл их жизни был в том, чтобы терпеть и смиряться.
Толстой продолжает: «Смысл этот народ черпает из всего вероучения, переданного и передаваемого ему пастырями и преданием, живущим в народе и выражающимся в легендах, пословицах, рассказах». Вообще-то «предания» у нас сохранились самые разные, а вот про «пастырей» это он в самую точку: попы таки приспособили религию еврейского бога для эксплуатации гоев. Работали под предлогом просвещения темного народа. До крещения Руси мы, мол, были дики, не знали любви, не умели жить в обществе. Это, конечно, ложь. На самом же деле христианство только потому и могло прижиться у нас (да и где угодно), что накладывалось на то, что и без него уже процветало. В частности, так называемая «христианская любовь» – это естественное чувство, которое живет в любом человеке и конституирует любое общество. А религия бога евреев лишь привита к этой природной лозе, точнее – паразитирует на ней.
В результате этой подмены смыслов получилась ужасная путаница. В данном случае мы ее наблюдаем на примере текста «Исповеди», где за народную веру выдано вероучение, идеально приспособленное для того, чтобы держать людей в послушании: ты должен терпеть и смиряться. «Смысл этот был мне ясен и близок моему сердцу», – говорит Лев Толстой. Ну еще бы, он ведь помещик, живущий за счет крестьян. А вот смыслов исконно народных, не связанных с эксплуатацией мужика, барин уже не понимает, говорит: «Но с этим смыслом народной веры неразрывно связано… много такого, что отталкивало меня и представлялось необъяснимым: таинства, церковные службы, посты, поклонение мощам и иконам. Отделить одно от другого народ не может, не мог и я». И поэтому: «Как ни странно мне было многое из того, что входило в веру народа, я принял все».
Принять все (косить, пахать, стоило бы еще научиться задирать рубаху, когда ведут сечь) – это нормальная стратегия человека, который предполагает, что в народной вере есть то, что он ищет. Толстой ведь еще не знает, что там, в этой вере, нужно ему, а что нет. Придет время, и он найдет то, что искал: «царство божие внутри нас», которое достигается «непротивлением злому» (это далеко не то же самое, что «терпеть и смиряться»). И четко все сформулирует. Но пока он беспомощен, точно дитя: «Мне так необходимо тогда было верить, чтобы жить, что я бессознательно скрывал от себя противоречия и неясности вероучения». Скрывал от себя неясности бессознательно. Это уже хорошо, это значит, что глубинах души пошел в рост настоящий бог. Теперь надо только не мешать ему самому развиваться, не лезть со своими человеческими соображениями, удерживать себя от того, чтобы диктовать богу, как ему быть.
Однако Толстой вскоре не выдержал, стал выдумывать рациональные объяснения молитвам, праздникам, обрядам. Например, объяснял себе таинство причастия как «действие, совершаемое в воспоминание Христа и означающее очищение от греха и полное восприятие учения Христа». Отлично, но как примирить это с тем, что во время причастия надо выпить кровь и съесть тело учителя. Это же, простите, каннибализм. Это Толстому «было невыразимо больно». И все же он как-то пошел к причастию. «Я нашёл в своей душе чувство, которое помогло мне перенести это. Это было чувство самоунижения и смирения. Я смирился, проглотил эту кровь и тело без кощунственного чувства, с желанием поверить, но удар уже был нанесён. И зная вперёд, что ожидает меня, я уже не мог идти в другой раз».
Нет, Лев Николаевич, так не годится, надо терпеть. Вон мужики, которым все это навязали, терпят… Толстой: «Сколько раз я завидовал мужикам за их безграмотность и неучёность. Из тех положений веры, из которых для меня выходили явные бессмыслицы, для них не выходило ничего ложного; они могли принимать их и могли верить в истину, в ту истину, в которую и я верил. Только для меня, несчастного, ясно было, что истина тончайшими нитями переплетена с ложью и что я не могу принять её в таком виде».
Ну вот, хотел «принять все», а теперь уже «не может принять». Придется нам, видно, разбираться в том, что можно принять, а что нет. И для начала не худо напомнить, что русское православие – это конгломерат разнородных религий. В самом общем приближении можно сказать, что оно состоит из трех составляющих: 1) изначального иудаизма, 2) византийского христианства (которое само является компромиссом между иудаизмом и язычеством) и 3) остатков религии жителей Русской равнины. Эта народная вера давно уже не существует в чистом виде, а существует лишь в форме двоеверия.
Что такое двоеверие, отлично видно на примере все той же «Исповеди». Вот Толстой говорит: «Исполняя обряды церкви, я смирял свой разум и подчинял себя тому преданию, которое имело все человечество. Я соединялся с предками моими, с любимыми мною – отцом, матерью, дедами, бабками. Они и все прежние верили и жили, и меня произвели. Я соединялся и со всеми миллионами уважаемых мною людей из народа».

Кочаково. Усыпальница рода Толстых
Заметьте: из всего православия писатель выделяет то, что касается любви и рода. А дальше самое интересное: «В слушании служб церковных я вникал в каждое слово и придавал им смысл, когда мог. В обедне самые важные слова для меня были: „возлюбим друг друга да единомыслием…“ Дальнейшие слова: „едино исповедуем Отца и Сына и Святого Духа“ – я пропускал, потому что не мог понять их».
Тут Толстой демонстрирует самую суть двоеверия, психологический механизм: вот до сих пор слышим и понимаем, а остальное пропускаем мимо ушей, поскольку нас это не касается. Собственно, мужик потому и не находит в вере попов «ничего ложного» (см. выше), что не слышит бессмыслицу. Собственно, таким способом русский народ сумел увильнуть от безумия чуждой религии: принял ее внешние формы, чтобы только отстали от него, а усвоил лишь то, что и так уже знал, что совпадало с его изначальным мировоззрением. Еврейского бога он даже не заметил, остался верен родным богам. Конечно, они теперь действуют под христианскими именами3131
См. Том Третий, главу «Шестьдесят восьмое – Лев-Толстое»
[Закрыть], но религиозная суть их осталась нетронутой. Например, всем близка и понятна история бездетной пары, которой три ангела (Троица), дают ребенка. Рождение – дело божественное. А дальше идет непонятное: отец слышит голос какого-то бога (еврейского) и, подчиняясь ему, пытается зарезать своего мальчика (подробности – в книге «Дни Силы»3232
См. «Дни силы: 22 октября, праотец Авраам. И Бог Мелхиседека», https://www.peremeny.ru/book/dnisily/640
[Закрыть]). Но это уже дикость. И, само собой, в сердце мы ее не пускаем. Такой кафкианский бог нам не нужен. Наш бог – любовь, то, что соединяет людей в пространстве (семья и община) и времени (чреда поколений).
Пропуская мимо ушей слова «едино исповедуем Отца и Сына и Святого Духа», Толстой просто отказывался понимать христианское исповедание Троицы, что нормально, поскольку умом это понять невозможно (да никто всерьез и не предлагает). Но зато он четко улавливал «возлюбим друг друга да единомыслием». То есть – самую суть народной религии Троицы («Я соединялся с предками моими, с любимыми мною – отцом, матерью, дедами, бабками»), суть религии Рода, русского бога, который скрывается за христианской Троицей. Праздник Троицы в календаре идет сразу вслед за Родительской субботой, когда поминают умерших родителей. И не только своих конкретных родителей, но и всех предков, свой род, который живет в каждом. Мы можем забыть своих мертвых, можем не поминать их, но мы не можем от них никуда убежать, ибо они продолжают жить в нас, в наших генах, в наших душах, в наших делах. Предки действуют через нас, выражают в нас свою волю. И подчас заставляют нас делать то, чего мы совсем не хотим. Поэтому с ними надо как-то уметь договариваться.
Есть дни, когда мертвые и живые собираются вместе. На Родительскую субботу живые приходят на кладбища, поправляют могилы своих мертвецов, едят и пьют с ушедшими родными, говорят с ними в своей душе. А на следующий день все идут в церковь. На Троицу в церкви зелень: охапки травы, березы. В них – души умерших, предки, сам Род, бог смертей и рождений, обитающий в потоке сменяющихся поколений, объединяющий мертвых, живых и еще не родившихся – в единый народ. Человеческий род – это тело божественного Рода, а его естественный символ – дерево (в частности, генеалогическое). На Троицу Род стоит в церкви в облике дерева. Поп кадит Роду. Мертвые вместе с живыми слышат: «Возлюбим друг друга да единомыслием». Остальных слов не слышат ни мертвые, ни живые.
Ну и какой же бог явился Толстому в весеннем лесу? Кто спас его, когда распускалась листва на березах? Ясен пень – бог, воплотившийся в дереве. В следующей главе мы увидим графа Толстого висящим на древе.
Шаманские экскурсы. Толстой и Дерево
Продолжим. «Исповедь» была закончена в 1879, а в 1882 году, «пересматривая это и возвращаясь к тому ходу мысли и к тем чувствам, которые были во мне, когда я все это переживал», Толстой увидал сон, который, как он счел, выразил то, что изложено в «Исповеди». И подверстал этот свой сон к ее концу. Вот он весь целиком:
«Вижу я, что лежу на постели. И мне ни хорошо, ни дурно, я лежу на спине. Но я начинаю думать о том, хорошо ли мне лежать; и что-то, мне кажется, неловко ногам: коротко ли, неровно ли, но неловко что-то; я пошевеливаю ногами и вместе с тем начинаю обдумывать, как и на чём я лежу, чего мне до тех пор не приходило в голову. И наблюдая свою постель, я вижу, что лежу на плетёных верёвочных помочах, прикреплённых к бочинам кровати. Ступни мои лежат на одной такой помочи, голени – на другой, ногам неловко. Я почему-то знаю, что помочи эти можно передвигать. И движением ног отталкиваю крайнюю помочу под ногами. Мне кажется, что так будет покойнее. Но я оттолкнул её слишком далеко, хочу захватить её ногами, но с этим движеньем выскальзывает из-под голеней и другая помоча, и ноги мои свешиваются. Я делаю движение всем телом, чтобы справиться, вполне уверенный, что я сейчас устроюсь; но с этим движением выскальзывают и перемещаются подо мной ещё и другие помочи, и я вижу, что дело совсем портится: весь низ моего тела спускается и висит, ноги не достают до земли. Я держусь только верхом спины, и мне становится не только неловко, но отчего-то жутко. – Тут только я спрашиваю себя то, чего прежде мне и не приходило в голову. Я спрашиваю себя: где я и на чём я лежу? И начинаю оглядываться и прежде всего гляжу вниз, туда, куда свисло моё тело, и куда, я чувствую, что должен упасть сейчас. Я гляжу вниз и не верю своим глазам. Не то что я на высоте, подобной высоте высочайшей башни или горы, а я на такой высоте, какую я не мог никогда вообразить себе.
Я не могу даже разобрать – вижу ли я что-нибудь там, внизу, в той бездонной пропасти, над которой я вишу и куда меня тянет. Сердце сжимается, и я испытываю ужас. Смотреть туда ужасно. Если я буду смотреть туда, я чувствую, что я сейчас соскользну с последних помочей и погибну. Я не смотрю, но не смотреть ещё хуже, потому что я думаю о том, что будет со мной сейчас, когда я сорвусь с последних помочей. И я чувствую, что от ужаса я теряю последнюю державу и медленно скольжу по спине ниже и ниже. Ещё мгновенье, и я оторвусь. И тогда приходит мне мысль: не может это быть правда. Это сон. Проснись. Я пытаюсь проснуться и не могу. Что же делать, что же делать? – спрашиваю я себя и взглядываю вверх. Вверху тоже бездна. Я смотрю в эту бездну неба и стараюсь забыть о бездне внизу, и, действительно, я забываю. Бесконечность внизу отталкивает и ужасает меня; бесконечность вверху притягивает и утверждает меня. Я так же вишу на последних, не выскочивших ещё из-под меня помочах над пропастью; я знаю, что я вишу, но я смотрю только вверх, и страх мой проходит. Как это бывает во сне, какой-то голос говорит: «Заметь это, это оно!» и я гляжу всё дальше и дальше в бесконечность вверху и чувствую, что я успокаиваюсь, помню всё, что было, и вспоминаю, как это всё случилось: как я шевелил ногами, как я повис, как я ужаснулся и как спасся от ужаса тем, что стал глядеть вверх.
И я спрашиваю себя: ну, а теперь что же, я вишу всё так же? И я не столько оглядываюсь, сколько всем телом своим испытываю ту точку опоры, на которой я держусь. И вижу, что я уж не вишу и не падаю, а держусь крепко. Я спрашиваю себя, как я держусь, ощупываюсь, оглядываюсь и вижу, что подо мной, под серединой моего тела, одна помоча, и что, глядя вверх, я лежу на ней в самом устойчивом равновесии, что она одна и держала прежде. И тут, как это бывает во сне, мне представляется тот механизм, посредством которого я держусь, очень естественным, понятным и несомненным, несмотря на то, что наяву этот механизм не имеет никакого смысла. Я во сне даже удивляюсь, как я не понимал этого раньше. Оказывается, что в головах у меня стоит столб, и твёрдость этого столба не подлежит никакому сомнению, несмотря на то, что стоять этому тонкому столбу не на чем. Потом от столба проведена петля как-то очень хитро и вместе просто, и если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении. Всё это мне было ясно, и я был рад и спокоен. И как будто кто-то мне говорит: смотри же, запомни. И я проснулся».
Толстой истолковал этот сон как резюме «Исповеди». И действительно, в нем есть все ее основные темы3333
См. главу «Шаманские экскурсы. Толстой и смерть»
[Закрыть]. Начало болезни: «лежу», «мне ни хорошо, ни дурно», но что-то «неловко ногам», «помочи». Дальше действия: попытка избавиться от беспокойства, приводящая к разбалансировке системы (ментальной), на которой он прежде держался, и в результате осознание того, что он висит над бездной. Так Толстой входил в болезнь. А потом тщился выбраться из нее, читая религиозно-философскую литературу. Во сне этому соответствует попытка проснуться, которая не могла быть успешной, поскольку бедняга читал про то, что все суета, что все «помочи» – одна видимость. Но вскоре понял, что такое чтение не способствует пробуждению (и пониманию), а лишь выбивает почву из-под ног и все глубже вгоняет в депрессию.
Переломному3434
См. главу «Шаманские экскурсы. Толстой и Бог Кафки»
[Закрыть] моменту «Исповеди» (когда писатель под воздействием вешнего леса открыл, что, думая о боге, он как бы уже имеет бога), соответствует тот момент сна, когда Толстой начинает смотреть вверх, и страх проходит. Здесь впервые звучит голос: «Заметь это, это оно!» Голос бога, который в лесу наполнил душу писателя радостью. Дальше во сне Толстой последовательно вспоминает, как случилось, что он повис над бездной. В этом «вспоминаю» отразилось писание «Исповеди» (и некоторых глав «Анны Карениной»), вполне психотерапевтическая процедура. И наконец, сновидец находит точку опоры (то есть обнаруживает, что не все «помочи» – видимость), узнает устройство механизма, на котором подвешен, слышит голос, предлагающий запомнить это устройство, и просыпается.
Лев Николаевич явно считает, что «просыпается» к новой жизни. Действительно, «Исповедь» – это подводка к его богословским сочинениям. И во сне отразился процесс, который привел Толстого к новому взгляду на христианство. Однако, сводя сон только к этому, мы теряем ряд ценных содержаний, всплывших во сне из глубин подсознания. Любой сон многозначен. Этот вот, например, можно толковать как отражение ситуации писателя, который стал автором отечественной «Илиады» и таким образом оказался на недосягаемой высоте. Взлетел, как та птичка, о которой в фильме «Кавказская пленница» сказано: так выпьем же за то, чтобы не отрываться от коллектива. Толстой ведь реально взмыл, как Икар, но дальше проблема: чтобы не пасть в глазах публики, надо создать что-то равноценное «Войне и миру». А как это сделать? Разве что написать «Анну Каренину». Однако где же взять крылья для такого взлета?
Крылья нашлись. В ходе писания «Анны Карениной» кризис был преодолен3535
См. главу «Шаманские экскурсы. Толстой и сатори (Левин)»
[Закрыть], что и отразилось во сне. Но это опять-таки только один из аспектов сна. И далеко не главное в нем. А главное то, что особо помечено голосом: «Смотри же, запомни!» Запомнить предлагается то, как устроен механизм, держащий человека над бездной. В головах – столб, от которого отходит петля, на которой Лев Николаевич висит, опираясь на нее серединной частью тела. Всякий узнает в этом устройстве ствол (или ветку) дерева, на котором держится плод (лист, цветок). Но если так, перед нами писатель, висящий на древе в виде, скажем, плода. Или – младенца на пуповине матери. А в целом это – плодоносящий живой организм, единая система, вегетативная основа жизни. То есть во сне речь («смотри же») о Роде, божестве, которое я упоминал в предыдущем экскурсе как основу жизни в чреде поколений (плодов). О единстве родных, о бытии не индивидуальном, а вот именно родовом и даже, пожалуй, общенародном.

Генеалогическое дерево человека
из книги Эрнста Геккеля «Антропогенез», 1874
(оно же и филогенетическое, он же и Древо жизни)
Исходя из этого, можно понять и весь сон. Например, ясно, что дерево – это мать, к которой Толстой прикреплен пуповиной (петлей, помочью). Он висит, словно плод, и зреет, готовый сорваться. Первоначально ему ни хорошо и не плохо, а потом возникает какое-то неудобство. Сейчас неважно, что это за неудобство – тяжесть созревшего яблока, теснота в чреве матери или моральная невозможность продолжать жить в социальной матке (например, рода). В любом случае это неудобство, которое ведет к рождению. А начало всякого рождения – избавление от лишних помочей, неизбежно оборачивающееся ужасом, ибо человек, отрываясь от матери, рождается в бездну.
Это можно понять чисто физиологически: человек уходит из материнского лона в мир, испытывая при этом муки разрыва с материнской стихией и боль родовых схваток. Но рождение – это не только физический акт, это любой переход к новой жизни. Например, шаманская болезнь – это вызревание в человеке шамана, а момент посвящения – рождение (очень болезненное). Боги тоже, бывает, рождаются в новую жизнь. Так, бог германцев, Вотан (шаман и мудрец) пригвоздил себя к стволу ясеня Иггдрасиля и девять дней провисел на нем, дабы постичь силу рун. И Иисус был распят на древе (кресте), чтобы воскреснуть. О рождении Одиссея из недр Аида я уже говорил3636
См. Том Четвёртый, главу «Шаманские экскурсы. Фюсис»
[Закрыть]: пройдя узким путем между Сциллой и Харибдой, он попал в вихрь турбулентности и спасся, повиснув на смоковнице. Карл Юнг описывает рождение к новой жизни как процесс индивидуации: обретение Самости и отделение от коллективной психики. Это, вообще-то, обычное дело, но вот только никто не может заранее знать, родишься ты в новую жизнь или – в смерть (иную жизнь).

«Ясень Иггдрасиль» (1886) Фридриха Вильгельма Гейне. мировое дерево германской мифологии. Собственно, это шаманское дерево, соединяющее три мира. Ясень вырастает из трех корней. Под первым находится источник Урд, у которого живут три норны, поддерживающие вечную свежесть и молодость дерева. Под вторым – источник мудрости, возле которого живет великан Мимир, никому не дающий пить из него. Великий Вотан (Один) отдал свой правый глаз, чтобы испить этой воды. Под третьим корнем – источник Хвергельмир, из которого вытекают все подземные реки. На верхушке ясеня сидит мудрый орел. Ниже пасутся четыре оленя. Дракон Нидхёгге в колодце Гвергельмир подгрызает корни дерева. И так далее
В этом контексте мы можем определить кризис, описанный в «Исповеди», как шаманскую болезнь. И вникнуть в ее древесную симптоматику. Вот, например, за пару абзацев до того, как начать рассказ о своем озарении в весеннем лесу, Толстой говорит, что «чувствовал возможность жизни», когда сознавал, что есть сила, во власти которой он находится. Быть во власти такой силы – значит быть ее частью. Однако Толстой тут же пытается думать о силе, которая дает ему жизнь, как о постороннем объекте (что уже отрыв), и мыслит ее как христианского бога (ибо другого не знает). А в результате теряет контакт с питающей силой: «И я чувствовал, что пропадает во мне то, что мне нужно для жизни». А дальше то, как он видит при этом себя: (курсивы мои): «Пускай я, выпавший птенец, лежу на спине, пищу в высокой траве, но я пищу оттого, что знаю, что меня в себе выносила мать, высиживала, грела, кормила, любила. Где она, эта мать? Если забросили меня, то кто же забросил? Не могу я скрыть от себя, что любя родил меня кто-то. Кто же этот кто-то? Опять Бог».
Симптоматичный переход от «матери» к «Богу» – от женского рода («выносила») к мужскому («родил») – текстуально оформлен через множественное число («забросили»), которое как бы объединяет «Бога» и «мать». Но потом все равно идет разделение. Сознавая присутствие того, кто родил (а), Толстой счастлив: «Жизнь поднималась во мне». Но затем ему вновь представлялся «наш творец, в трех лицах, приславший Сына-Искупителя», иудейский бог, «и опять иссыхал источник жизни». То есть получается, что в душе Льва Николаевича настоящее божество – это «мать». А церковный «Бог» – это «отдельный от мира, от меня Бог». Он не питает, как мать, он за пределами жизни, его, в сущности, нет (по крайней мере – здесь и теперь). Но при этом он отделяет человека от настоящего Бога, от Матери, от Бога-Матери, от Богоматери. Толстой искал Мать, а попы предлагали молиться богу-инородцу. Толстой обратился к народу3737
См. главу «Шаманские экскурсы. Толстой и Род»
[Закрыть], но замордованный народ не мог ему объяснить, что русский бог Род – изначально женственное божество, не Род, а Родица, Богородица, Мать.
Вообще-то, в устах Толстого отчаянный вопрос потерянного птенца: «Где она, эта мать?» – звучит совершенно житейски. Он потерял свою мать очень рано. В его «Воспоминаниях» можно прочесть: «Матери своей я совершенно не помню. Мне было 1.1/2 года, когда она скончалась. По странной случайности не осталось ни одного ее портрета, так что как реальное физическое существо я не могу себе представить ее. Я отчасти рад этому, потому что в представлении моем о ней есть только ее духовный облик, и все, что я знаю о ней, все прекрасно». Впечатление, будто Толстого готовили в пророки религии Матери. О своей матери он говорит: «Она представлялась мне всегда таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период жизни моей, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эта молитва всегда мне помогала».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.