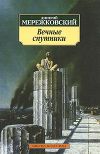Текст книги "Правила бегства"

Автор книги: Олег Куваев
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
– Вот как! Почему?
– Не знаю. Но вдруг все-таки выйдет. Рулев на вас рассчитывает. Знаете – новая река, рыбы, конечно, завались. При умной организации…
– Ладно, – неожиданно сказал Мельпомен. – У вас финансовые полномочия есть?
– Зачем?
– Самолет мне нуже-е-е-ен, товарищ! Сети завезти, снаряжение. Людей я сам подберу. Ставить рыбалку – значит ставить.
– Самолет будет.
– Весной. Рыбалку надо делать с весны. А сейчас пойдемте.
– Куда?
– Кое-что покажу для ознакомления.
Из-за ситцевой занавески вышла женщина. Поклонилась мне.
– Знакомьтесь, – сказал Мельпомен. – Жена.
Женщина протянула мне руку лодочкой и застенчиво улыбнулась. У нее было простое хорошее лицо.
– Можно выехать и с женой, – сказал я, вспомнив размах Рулева.
– Нет, – сказал Мельпомен. – У меня тут дом. Собаки. Хозяйство. И фирма ваша долго не просуществует.
Он встал и оказался почти такого же роста, как и когда сидел. Короткие ноги. Женщина снова поклонилась мне и улыбнулась. В сенях застучали шаги. Вошел парень в матросской шинели.
– Сын, – кратко сказал Мельпомен. – Служит, за отличную службу награжден отпуском.
– Ты куда, батя? – спросил сын.
– Пойду покажу дом Лыскова. Для науки.
– Я дома буду, – сказал сын.
– Ладно, – улыбнулся Мельпомен.
Он натянул полушубок. Я вышел на улицу. У меня осталось ощущение, что человек со странной кличкой живет в своем срубе по каким-то крепким и ясным домостроевским законам. Что общего могло быть у него с Поручиком, Северьяном и вообще всей этой ватагой северного бродячего люда, который мается между заработками и загулом, нерегламентированной экспедиционной работой, тяжким трудом в лесу, на рыбалках и столь же нерегламентированной пьянкой, где единым потоком сливаются рубли, спирт, шампанское, одеколон, портвейн?
Анкета
Я не состоял, не исключался и не восстанавливался…
Из-за простого совпадения событий. Как раз, когда пришел возраст вступления в ряды ВЛКСМ, куда меня несомненно приняли бы как лучшего ученика школы, я узнал, что мой отец вор.
Пожалуй, я узнал это раньше, потому что стояло голодное послевоенное время, и промкомбинат не знаю уж из чего, но продолжал выпускать колбасу. Каждый вечер в тот год отец, вернувшись с работы, почему-то становился ко мне спиной, задирал рубаху на животе и вытаскивал из-под ремня небольшой круг колбасы. В углу кухни сидела бабка, и глаза ее, жгучие и темные, как у цыганки, быстро перебегали с меня на отца и с отца на меня. Отец клал колбасу на кухонный стол, вздыхал, как лошадь, и отстегивал деревяшку, дома он ходил с костылем.
Примерно за неделю до того, как мы из пионеров должны были перейти в комсомольцы, я совершенно случайно увидел, как на выходе из промкомбината отца остановил милиционер. Он быстро и как-то профессионально провел рукой по впалому отцовскому животу и взял его за рукав. Я не слышал, о чем они говорили, но милиционер держал отца за рукав, и отец покорно за ним шел. Но почему-то они повернули не к милиции, а к кустам сирени, что окружала промкомбинат.
Оттуда отец вышел один. В тот вечер он не клал на кухонный стол колбасу и не отстегивал деревяшку. В своем чулане я слышал ее неумолчный стук по половицам и шепот бабки, только не мог разобрать слов.
На следующий день отец снова пришел с колбасой, а на следующий, устроив засаду, я разгадал секрет этого наивного и жалкого жульничества голодного времени: милиционер ждал отца, и они молча, отстраненно уходили в кусты сирени, откуда отец выходил один. Просто теперь он выносил два круга колбасы – для милиционера и для себя.
Избави бог, я не пытаюсь кинуть тень на высокую честь советской милиции, да и на поступок отца я сейчас смотрю несколько по-другому, просто я объясняю, почему я отказался подать заявление в ряды ВЛКСМ. Мое поколение было воспитано в высоком уважении к «членству в рядах», точно так же, как мы знали истину «яблоко от яблони недалеко падает». Может быть, мы не знали ее, просто наши четырнадцатилетние души чувствовали жизненный смысл этих слов. Я все это сейчас понимаю, но не знаю лишь одного – почему мой отказ вступить в комсомол, высказанный вслух и без объяснений, не имел никаких для меня последствий. Меня не вызывали, не разбирали, не требовали объяснений, и я не стал изгоем большим, чем был.
Я лишь помню, что отец пришел ночью ко мне и положил руку на мой затылок, точно знал, что я не сплю. Он неловко погладил затылок, поправил одеяло и ушел. Мягкое «тук» резинового наконечника костыля и «шарк» тапочки. Тук, шарк, тук, шарк и заключительный вздох. Подушка моя была мокрой, потому что я плакал бесшумно и обильно. Я хотел быть в рядах, я вообще всю жизнь, а в те годы особенно, хотел быть вместе со всеми, хотел быть частью шумного горячего стада, хотел в грохоте копыт мчаться вперед вместе со всеми, когда твой взмыленный бок касается бока соседа и пыльный ветер вздувает гриву и врывается в ноздри, а мы единым разумом стада знаем, что нет преград, мы все сметем на пути и пространства покорно лягут под наши копыта.
Когда на горе среди жесткой травы я принял решение сбежать навсегда, я смотрел на крышу промкомбината, где работал отец, и думал о его коллегах, таких же знаменитостях сферы обслуживания. В этом здании работал парикмахер Лазаревич, который, наверное, взял внешний облик с преуспевающего адвоката времен своей юности. Лазаревич носил великолепную седую гриву, очки с золотой дужкой, а поперек жилетки он носил золотую цепь золотых же часов. Он лично ежеутренне брил председателя горисполкома. Если в этот момент у него в кресле сидел намыленный клиент, Лазаревич с твердой вежливостью пересаживал намыленного клиента в свободное кресло, брил председателя горисполкома и с той же твердой вежливостью говорил затем: «Извините. Теперь продолжим».
Еще был сиропник Зигмунд. У Зигмунда был рецепт сиропа для газировки, который он хранил так же тщательно, как знаменитая фирма «Кока-Кола» хранит рецепт своего напитка. Без сиропа Зигмунда и отцовской колбасы в нашем городе и прилегающих местностях не мыслились свадьбы, именины или иные даты. Зигмунд готовил сироп сразу партией, выгнав из цеха всех и завесив окна одеялами.
Я как-то спросил отца, зачем Зигмунд это делает. Он же, отец, не таит секрет своей возмищевской колбасы.
– У него сын в институте. Ему надо, – ответил отец.
* * *
Мельпомен шел впереди меня с прутиком в руке. По бокам его очень симметрично бежали две ездовые собаки. Они бежали, опустив тяжелые головы, и только изредка, как по команде, взглядывали на Мельпомена, точно читали на его лице предстоящий маршрут.
Мы шли в противоположную от аэропорта сторону. Поселок кончился, и мы шли по узкой тропинке среди лиственниц. Потом и тропинка свернула к речному обрыву. Внизу под тяжелой глиной, кое-где неряшливо закиданной снегом, лежала река. Противоположный берег ее еле угадывался темной полосой тальника, и еще дальше шло рыжее пятно лиственничного леса. Тот берег назывался Низина, и он бежал на запад болотистой равниной, где неизвестно чего было больше – озер или перемычек суши между ними. «Водички-то вроде побольше», – говорили местные старожилы. Берег, на котором мы стояли, назывался по-местному Камень. Здесь шли низкие сопки с долинами рек, которые впервые вошли в географию по докладным запискам казаков-землепроходцев.
Мельпомен повернулся и пошел от берега прочь прямо по целине. Собаки пошли следом за ним, а я за собаками. Мельпомен углубился в чахлый лиственничный лесок. Снег был еще неглубок, и мне было легко идти по широким следам Мельпомена. Лиственницы вдруг расступились, и я увидел как бы небольшую поляну, расчищенную от деревьев. В глубине поляны стоял дом неправдоподобного для здешних мест облика. Он был двухэтажный, кирпичный, с южной верандой, и окна у него были по-южному большие и светлые. Такие дома можно видеть в пригородах Сухуми или в иных теплых местах. Все это так не вязалось с засыпанной снегом поляной, зябкими зимними лиственницами и этим небом, что я как-то не сразу догадался, что дом нежилой.
Мельпомен обернулся ко мне. Он разглядывал меня вдумчиво и серьезно, как, допустим, мы могли рассматривать только что купленную и доставленную домой дорогую вещь. Допустим, новый холодильник. Я даже видел в глазах Мельпомена – серых, чуть выцветших, с легкими склеротическими прожилками, – видел в них сожаление, грядущее сожаление, что и этот, последней модели, агрегат устареет, сломается, выйдет из строя и покроется желтым налетом старения, несмываемой паутиной кухни. Собаки тоже смотрели на меня. Но без особого любопытства.
Я почувствовал странность и некую чертовщину. Этот странный нежилой дом (и какой дом!), и этот человек с диким прозвищем и, видно, немалым прошлым, и странная моя роль в этом углу страны, черт те где, черт знает при чем – чертовщина.
– Вот тут и жил дед Лысков, который вам пригодился бы больше меня.
– Где он сейчас?
– Умер, – сказал Мельпомен и неопределенно кивнул в заснеженные пространства Сибири. – Он, знаете, сдох.
– Все-таки умер или сдох? – Я понял, что Мельпомен уже нашел интонацию разговора со мной только на «вы», и уровень слов он тоже определил.
– Сдох, – беспечально сказал Мельпомен и улыбнулся.
– Так при чем тогда наш совхоз?
– С миром ли? И сказал Ииуй: что тебе до мира? Поезжай за мной, – Мельпомен покачал головой. – И я, знаете, поехал за ним.
– Ииуй – это Библия? Я тут не силен.
– А в чем вы сильны? Чем богаты? – усмехнулся Мельпомен. – Богатство то же, что обоз для армии. Передвигаться с ним трудно, но бросить его нельзя.
Я молчал. Когда человек начинает говорить притчами и цитатами, лучше молчать. Он сам разъяснит.
Мельпомен прошел несколько шагов перпендикулярно нашей тропинке. Образовалась в снегу как бы буква Т, и хвост ее тянулся в лиственничный лес, откуда мы только что вышли.
– Умеющий молчать слышит много признаний, – сказал Мельпомен, и голос его весело прозвенел среди тишины. Собаки зевнули. Мельпомен закурил, с ясной насмешливостью улыбнулся и стал неторопливо ходить по перекладинке буквы Т.
– Не знаю, кем вы служите в этом совхозе. Думаю, что вообще вы там с целью странной и, может быть, даже нечистой… Расскажу историю свою и деда Лыскова. Я – юрист. Был адвокатом, был судьей и был прокурором. Назначили меня прокурором в район приисков, это на Алдане. Тем временем война. Я стал просматривать папки дел. Дел много – знаете, прииск, народ разный. Мелкие кражи, хулиганство, драки. Контингент – мужчины в возрасте от двадцати до пятидесяти. Иных на приисках нет. Где они в данный момент? Они на фронте или по дороге к нему. И таким путем в качестве первого служебного шага я прекратил следствие по девяносто шести делам. Одним росчерком пера. Над этими мужиками вела сейчас следствие эпоха. Я видел, что это следствие самое беспощадное и самое беспристрастное из всех, ибо их личные дела взяла в свои руки История. Зачем тут прокурорский надзор и эти конторские папки? Кто я?
– Потом, позднее, вам все это припомнили, – вставил я.
– А как же! – с удивлением воскликнул Мельпомен. – Юридически необоснованный шаг со стороны прокурора, ибо из этих девяноста шести один попал в плен, а один оказался власовцем. Из девяноста шести – двое. Сколько из них погибло, я не мог знать. Ибо я перестал быть прокурором. Я понял, что не могу быть юристом, ибо служение закону оказалось выше меня.
Приехал я в эти края. Имелся тут человек. Но… Черт с ним! Сюда приехать легко, уехать труднее. Вот тут я и вырыл землянку. И жена в ней жила, и сын. Отнеслись ко мне как к чудаку. Кличку дали. Живу волком. И приходит однажды ко мне старичок. Голова как одуванчик, полушубочек на нем чистенький, в руке палочка, морщинки на лице промытые, ясные. «Зима, – говорит, – на носу, мил человек». – «Зима, – отвечаю. – А тебе какого черта?» – «Я тебе рыбки принес, – говорит. – Вяленая рыбка, хорошая. Вот отведай». Тут что-то во мне шевельнулось. От души ведь старик принес. В глаза смотрит ясно. Пригласил войти. И стал я у него вроде работника. Впрочем, не то слово. Окружил меня заботой старик. Денег дал семье на одежду. Расписку не взял. «Это, мил человек, глупости. На душу нету расписки». Приспособил к делу. Старик здешний, тут Лысковы столетия жили. Все – здешние рыбаки. Главная забота – сети. Рыбы-то в реке ведь не меряно, не ловлено. Сети у старика были. Лишние. По осени помогал ему неводить, потом подо льдом. Не то чтобы он мне науку преподавал. Сети есть, места есть, остальное сам быстро усвоишь. Прожил зиму. Деньги кое-какие завелись. Весна. А я уезжать и как-то определяться уже не хочу. Такое чувство – мне рыбаком надо было родиться. А дед горизонты раскрывает и говорит о смысле бытия. Своими словами, но хорошо говорит. «Что тебе люди? Иди за мной!» Ну, он Библию плохо знал. Это я ее знал по должности, с сектантами как юристу приходилось общаться. Работаю у деда еще год. Потом узнаю – он мне примерно третью часть платит. Того, что положено. Я в рыбалку вошел, меня уважать стали. Черт, думаю, с ним. На жизнь хватает. Землянку оборудовал. Потом дед ко мне в помощь еще одного приспособил. Кудрявый Леха, отщепенец людей. Когда выпить не было, работать умел. Ему дед вообще не платил. Платил выпивкой и одеждой. Этого я не стерпел. Отошел от деда. Вступил в колхоз. Я уже рыбак, мне можно вступать в колхоз. Получил участок, дом построил. С дедом Лысковым не ссорюсь. Очень он мне стал интересен. Вижу его установку жизни. Пригреть человека вроде меня. Дать ему место работы, ласку, дать почувствовать две ноги. И на этом взять себе толику денег. Без обиды. И никакой контроль, никакой надзор не придерется. У деда участок. Выдан ему для ловли рыбы. Он и ловит. Имеет право вдвоем и втроем, если отсутствует принцип эксплуатации. А где эксплуатация? Разве я могу сказать, что дед меня эксплуатирует? Нет, не могу. Он мне помог, сети дал, учит меня и сам рядом со мной работает. Это называется – промысловая артель. Так и идет по жизни ласковый и безгрешный старик. Потом я понял. Дед ко мне зашел как раз.
«Федюша? – спрашивает. – Тебе место, где старая твоя землянка, не нужно?» – «А на кой оно мне черт», – отвечаю. «Ты отдай его мне. Я там дом построю». – «Да строй, старый черт. Места в тайге, что ли, мало?» – «Нет, Федюша, – он говорит. – То место тобой в смятении выбрано. Ты спокойствия искал и там его обрел. То место хорошее». – «Валяй». И только тут стало видно, сколько дед накопил, что у него есть. Кирпичи по разным кладовкам, железо, цемент. И люди – как будто он со всей Сибири собрал – забулдыги, но ведь мастера. Дом они, видишь, выстроили на славу. Забулдыги исчезли, распустил их дед. Драки при расчете не было, значит, заплатил.
Мельпомен помолчал, обернулся к дому и посмотрел на него. Южного облика кирпичный особнячок стоял спокойно и приветливо отблескивал окнами. Наверное, в этом доме было тепло и уютно жить в окружении этих лиственниц, тишины и неяркого северного неба.
– А потом что? – спросил я.
– Я, видишь ли, этих ребят, что дом строили, нашел. Кого где. В обычном их состоянии. Побеседовал о деде. О том, что он им говорил, что платил, как он их разыскал и так далее. И после этого сказал деду Лыскову: «Либо ты, либо я. Вдвоем нам в этом поселке на одной реке не жить. А я уезжать не собираюсь».
– Ну и?
– Дед мои слова принял спокойно. Посмотрел лишь на меня с укоризной. Зашел перед отъездом. «Я, – говорит, – Федюша, завещание написал. Если умру, тот домик тебе. Живи». Взял мешок с сетями, полушубок свой надел, палочку взял и улетел. На Территории рыба понадобилась. Золото там пошло, значит, и бичи развелись, бесприютный народ. Наладил там дед большую рыбалку. Но вдруг умер.
Мельпомен вдруг остановился, посмотрел кругом и прошел мимо меня по обратной дороге. Собаки следом за ним – нос в хвост, я за собаками. Минули полоску лиственниц, вышли на берег и, точно повторяя маршрут, пошли к поселку. Когда показались окраинные дома, Мельпомен остановился и сказал:
– Козимо Медичи писал: «Мы обязаны прощать своих друзей». Быть добрым к опустившемуся – долг человеческий. Но если в доброту вносится подлость – хуже ли это просто подлости? Доброта должна быть одной добротой. Твой Рулев – зачем, по какому пути он идет? Если ты протягиваешь руку – протягивай ее открыто и до конца. Бросить добро на половине дороги нельзя. Знает ли он это? Уверен ли он, что сумеет помочь? Уверен ли, что ему это позволят?
– А кто запретит? – сказал я.
– Дурак! – сказал Мельпомен, и я увидел в глазах его жалость. – Во все века на Руси были убогие и неприкаянные. И во все века их тянуло в Сибирь. Здесь тебе дадут трояк вместо десяти копеек, здесь проще и легче прожить, были бы руки. Но что есть наш бич? Это человек с душевным изъяном. Он выбит из жизни. В руках государства – палка. Встань в ряды, или тебе будет плохо. Государство право, бич ему дорого стоит. Но мы люди, отдельные личности. Если видишь заблудшего и презираешь его – пройди мимо, не демонстрируй презрение. Он и так знает, что его презирают. Если видишь озверевшего – бей его, но только пока он озверел. Если тянешь ему руку помощи, знай, что ты уже утратил право бить. И твой долг, человека, а не общества, понять его душевный изъян. В ряды он и без твоей помощи встанет. Рулева хочу повидать. Рыбалкой вашей займусь. Будь здоров и иди в другую сторону.
Анкета
Ваши ближайшие родственники
Мать
Мать я впервые увидел, когда приехал поступать в институт. Точнее, я сбежал из нашего городка, сбежал от отца и его промкомбината, и наиболее естественным поводом бегства было – поступить в институт. Школу я окончил с золотой медалью. Причина, почему мать разошлась с отцом, когда это было – мне неизвестно. Неизвестно мне и то, почему она не взяла меня с собой, оставила у отца с бабкой. Я знал лишь, что у меня есть мать и что она живет в Москве, работает официанткой в одном из крупных столичных ресторанов. Она встретила меня на Киевском вокзале. Видимо, отец дал ей телеграмму, наверное, он посылал ей мои фотографии, потому что она меня сразу выделила из толпы, сказала:
– Значит, ты и есть мой сын?
Она чмокнула меня в щеку сухими губами и принялась молча разглядывать меня, а я ее. Мимо текла вокзальная толпа. Я видел среднего роста женщину в хорошем трикотажном костюме, еще вовсе не старую, если сравнить с отцом; вообще все в ней было отличное от нашего захолустья, чувствовалась благополучность и гигиена, и нашими, семейными, были лишь глаза. Они горели темным сухим пламенем в глубоких глазных впадинах. Такие глаза были у моей бабки. Мать держала меня за локти, мы были почти одного роста, и я видел темные волосы без единого седого волоска. Она вовсе не походила на официантку. Когда я попробовал освободить локти, она так же просто и глухо сказала:
– Пойдем.
В такси она сидела рядом и смотрела прямо перед собой, я же смотрел вбок, на мелькающие дома.
– В общежитие тебе нельзя, – сказала она.
И еще через минуту:
– У меня тебе тоже будет неудобно.
И еще через минуту:
– Я сняла тебе комнату. Однокомнатную квартиру. Знакомый уехал за границу. Будешь жить там. Потом посмотрим.
И еще через минуту:
– Тебя надо переодеть. При твоей фигуре это просто. Завтра я тебе все привезу.
Мы приехали. Это было на Преображенке. Немного мебели, какая у всех, немного книг, немного керамики, проигрыватель. Жилье человека, который уезжает за границу и оставляет его знакомой официантке.
– За комнату я буду платить, – сказала мать. Она сидела на краю диванчика и не осматривала комнату, наверное, потому, что хорошо ее знала.
Я молчал.
– Так как технический институт для тебя отпадает, я выбрала тебе гуманитарный. Будешь на филологическом учиться. Поступить помогут.
– У меня медаль золотая, – сказал я.
– Знаю. Только под оккупацией ты был и в комсомоле не состоишь. Почему?
– Это мое дело, – сказал я.
– Твое, – согласилась она. – Деньги я тебе давать буду.
* * *
Не настала ли пора поговорить о Семене Рулеве, о его роли в моей судьбе, или, наоборот, моей роли в его?
Семена Рулева я впервые встретил в Сокольниках. Это было за пределами официального парка, на берегу реки Яузы, на поросшем березками с желтыми песчаными тропками обрывчике. Я часто ходил здесь, потому что жил рядом, и, кроме редких спортсменов, тренирующихся на желтых песчаных тропках, тут редко кто ходил в будние дни. День был осенний, солнечный, из тех осенних дней Подмосковья, когда жить бывает грустно и хорошо. На этом обрывчике у меня было любимое место, откуда виднелась только река, слабый кустарник и на той стороне старый забор со старыми покосившимися домами – на глаза не лезло ничто индустриальное, и лишь в стороне раздавался нервный грохот электричек Ярославской дороги. На этом самом месте я его и увидел. Стоял по-городскому стройный лысоватый парень в хорошем костюме, в белой рубашке с расстегнутым воротом и смотрел, как я к нему подходил. Лицо у него было смуглое, по-городскому худощавое, и по этому лицу было нельзя угадать, двадцать пять или тридцать пять лет человеку. Он подождал, когда я подошел ближе, и вдруг улыбнулся чистой хорошей улыбкой.
– Свобода! – сказал он. Улыбка сверкала на смуглом лице, и он бережно подержал что-то в руках – большое и хрупкое – и повторил: – Свобода!
Глаза его смотрели на меня доверчиво и печально, так смотрят иногда обезьяны в зоопарках, он умолял меня понять, в тот же момент оценить, взвесить и присоединиться к нему в оценке того великого комплекса, что он понимал под словом «свобода».
– Что – свобода? – спросил я.
Он еще раз оглянулся кругом, взвесил руками большое и хрупкое, задержал взгляд на осенних березках и вынул из внутреннего кармана начатую бутылку портвейна.
– Свобода – это осознанная необходимость, – сказал он и протянул мне бутылку.
Прогрохотала электричка. Я взял портвейн, вежливо отхлебнул и увидел в сторонке еще одну пустую бутылку, закинутую в кусты. Шумно дыша, пробежала группа в тренировочных костюмах. Они бежали, точно делали тяжелую и очень нужную работу. Глаза спортсменов были сосредоточенно прикованы к песку на тропинке.
– Свобода! – печально повторил, глядя на их спины, Семен Рулев и опять улыбнулся. – Неужели не понимаешь? Люди гибнут за это слово, потому что…
– Суть-то не в слове, – сказал я.
– Вначале было слово, – возразил он библейским текстом и махнул рукой.
Черт его знает, почему я с ним разговорился тогда. Была грустная московская осень, не хотелось идти на лекции, и мне понравилась его подкупающая улыбка и то, что человек может вот так сказать первому же прохожему о том, что наболело у него на душе. Пусть даже под влиянием портвейна номер пятнадцать.
У нас начался бессвязный разговор о свободе. Мы открывали друг друга. Рулев непринужденно уселся на землю, прислонился спиной к березке и поставил в траву рядом недопитую бутылку. Я нашел место почище и тоже сел.
– И ведь ни один из тех миллионов, что погиб за свободу, не знал смысла этого слова. Никто не знает. – Он отхлебнул и закончил: – И не узнает…
– Но в результате все-таки было дело, – возразил я. – Возьмем, к примеру, освоение Сибири. Не будем трогать французскую революцию.
– Она погибла потому, что к слову «свобода» она прицепила глупые слова «равенство» и «братство». Равенства не было и не будет. Это кошачий бред. А на братстве всю жизнь кормились одни демагоги, – пророчески подняв палец, вдохновенно сказал Рулев. – Есть свобода и хлеб. Этим исчерпана жизнь человека.
Я промолчал. По неизвестному сцеплению обстоятельств меня последнее время интересовали мужики, которые триста лет назад промчались по диким просторам Сибири, терпели дикие муки, писали слезные юродиво-униженные письма царю, были жестоки, выносливы, несчастны и нищи. Что направляло их энергию именно на восток? Они не знали слова «романтика», и краткого опыта хватало, чтобы понять, что материальные блага из них получат лишь единицы, если получат. При равной затрате энергии…
– Но это же просто, как мячик, – кричал Рулев, упираясь спиной в березку. – В официальной истории они называются казаки-землепроходцы. Официальная история – чушь. Это были бичи, голытьба, рвань. Что главное в любом босяке? Ненависть к респектабельным. Ненависть к живым трупам. Где респектабельность – там догматизм и святая ложь. Ложь! Он бежит, чтобы не видеть их гладких рож, пустых глаз и чтобы его не стеснял регламент. Он бежит от лжи сильных. Он ищет пустое место, куда они еще не добрались. В тот момент на востоке было пустое место. Туда и бежали твои землепроходцы. А по их следам шли респектабельные, чтобы установить свой идиотский порядок. И принести туда свою ложь.
– Ты анархист, что ли? – спросил я.
– Дурак, – необидно сказал Рулев. – Нацепить ярлычок и успокоиться, да? Свобода!
Он подержал руками воображаемую свою ценность, и руки бессильно упали вниз.
Мы не разошлись. Рулев пил, но не пьянел. Он вытащил из кармана еще бутылку, на его тощей фигуре городского парня, видимо, можно было спрятать много бутылок. Я с интересом наблюдал.
Рулев, как я вскоре узнал, был старше меня на семь лет. Был кадровым офицером, уволился из армии по суду чести (иначе не отпускали), поступил в университет на исторический и вот сегодня решил бросить его. «История – мертвая вещь. Никто не может узнать историю».
По дикому совпадению оказалось, что мы живем рядом. В получасе ходьбы друг от друга. И когда мы через парк и через тихие сокольнические переулки вышли к Преображенке, он пригласил заглянуть к нему.
О жизни своей он рассказывал с хорошо затаенным юмором. Глаза его смотрели вдаль в восторге пьяного вдохновения. Жизнь Рулева в его пересказе была разорвана на эпизоды, каждый эпизод имел самостоятельную ценность и вес, имел свой объем, юмористические и мрачные стороны. Впрочем, стороны бытия Рулева не были мраком сами по себе. Это были каверзы судьбы, которая не всегда играет по правилам и, кроме того, любит шутить не всегда уместно, но без малейшей злобы.
Лишь один раз, когда мы проходили мимо новостройки с развороченной землей, с рычащими самосвалами, с разбросанными бетонными блоками, гнутыми прутьями арматуры, он остановился и процитировал: «Век девятнадцатый, железный, воистину жестокий век, тобою в сумрак бесконечный беспечно брошен человек. Двадцатый век – еще страшнее…» Минут пять после этого он молчал, лишь улыбался, и улыбка его теперь таила затаенную каверзу, хорошо обдуманный хитрый ход.
Дом его находился на тихой улочке, выходящей на Преображенскую площадь. Это был уголок старой Москвы, несомненно, обреченный на снос. С улицы мы зашли в дверь в торце двухэтажного дома. Поднялись по деревянной, с балясинами лестнице на второй этаж; потом поднялись еще выше, и Рулев ввел меня в скрипучую обширную мансарду, которую с улицы вовсе не было видно. Здесь был уют холостяцкого нерегламентированного жилья, с собранной кое-как мебелью, несколькими книгами на полке, плитой на кухне и, главное, с горбатыми древними полами, которые выли и визжали на разные голоса.
Я не сразу понял атмосферу уюта, которая была тут, и то, что те несколько книг, которые были на полке, были любимыми книгами Семена Рулева.
Пройдясь по половицам так, что они завыли на разные голоса, он сказал:
– Там еще и чердак есть. Тоже мой. – Он сказал это счастливым голосом обладателя небольших, но радостных ценностей и опять подержал в руках нечто не очень важное, но близкое и дорогое ему.
Дорогой мы зашли в магазин. Рулев, уже не предлагая мне, налил себе стакан вина, нарезал колбасы, положил на тарелку несколько перышек осеннего лука, кусок хлеба, посмотрел сбоку, поправил зеленое перышко и лишь тогда сказал:
– Выпьем за моего папу – крупного подлеца, который все делал вовремя.
– Как это? – ошарашенно спросил я.
– Знаешь, есть люди, предрасположенные к подлости. Когда затевается большая, сильная подлость, они тут как тут. Безнаказанно издеваться над теми, кто втрое выше тебя, – разве не счастье? Жрать в три горла и между глотками бормотать про высшие идеалы – ну разве не наслаждение?
– Где же твой отец?
– Он умный мерзавец. Ушел ровно за год до закрытия лавочки. Заболел, пенсию получил. Стало не до него.
– Как же ты жил с ним?
– А я не жил. Он меня поместил в суворовское училище.
– А как сейчас собираешься жить? Университет бросил. И вообще… Без образования в наше время… Диплом…
– Господи! – Рулев посмотрел на меня, как на марсианина. – Я же вырос в Сокольниках! К десяти годам я знал о человечестве все. Я и умею все. Устроюсь куда-нибудь, где надо уметь все. Или уеду туда, где нужны люди, умеющие все.
Он закурил и улыбнулся насмешливо и открыто, и я опять сразу попал под обаяние этой улыбки.
– Да. Ты в самом деле устроишься и, наверное, умеешь все, – сказал я с открытой завистью.
– Ну а ты-то? Ты как живешь? – с пьяноватым участием спросил Семен Рулев.
– Я, как ты, не могу. У меня принципов много… наверное, лишних.
– Для кого как, – мудро сказал Рулев. – Для кого принципы просто излишни. Другому они нужны как воздух. Отними у него принципы, и личность рассыплется. Ты, наверное, из таких.
– Наверное, из таких.
– Но историю всегда делали люди без принципов.
– Только не в науке, – вяло возразил я.
– Да твоя филология разве наука? – изумленно спросил Рулев. – И в настоящей науке работали именно те, кто отвергал ее прошлые принципы. Они были принципиальны в обыденной жизни, в отношениях между людьми. Но в поисках истины они были вовсе беспринципны, пока… не создавали новые принципы.
– Согласен.
– Но это все ерунда. Я вообще хотел узнать, как ты живешь.
Я промолчал. К немногим объективным моим достоинствам относится умение промолчать. Наверное, это наследственное, отец тоже умел молчать. Но я превзошел его: в тех местах, где отец вздыхал так, что позвонки становились видны под хлопчатобумажным его пиджаком, в этих местах я тоже молчал.
…Так началась моя странная дружба с Рулевым. Меня тянуло к нему. Я думаю, что без моего общества он обходился прекрасно, но, когда я к нему заходил, он всегда радостно говорил:
– О-о! Возьми Еще пришел. Ну, здравствуй! – он протягивал мне вялую узкую ладонь и обязательно говорил что-либо вроде: «Ну что, Возьми Еще, пойдем по бабам? Возьмем у вокзала шлюх – накрашенных, наглых, немытых. А?»
– Да брось ты! – смущался я.
– Не пойдем! Черт его знает, что там подхватишь. И вообще все это ведет к половому бессилию. Давай по-свински нажремся водки. Теплой, противной.
– Ты же знаешь, нельзя мне, – защищался я.
– Правильно. Не будем травить печень и мозги. Мы лучше чайку выпьем и поговорим. Потом пройдемся по асфальту, подышим.
– Идет, – говорил я.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.