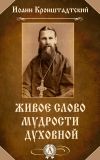Автор книги: Ольга Жукова
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 27 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
К несчастью, это удалось сделать несколько позже. Н. И. Канищева пишет: «Против Долгорукова было инспирировано дело о превышении власти в качестве предводителя дворянства. Обвинение было построено на чисто формальных придирках – речь шла о раздаче зерна крестьянам по разрешению князя. В таких действиях не было ничего криминального; точно так же из года в год поступали многие предводители дворянства. Однако пострадал лишь Долгоруков, и это говорило о том, что “избирательные” придирки выполняли репрессивную функцию. Следствие и разбирательство тянулись очень долго и закончились в декабре 1910 г.: отчисленный с поста предводителя по приговору суда, Павел Долгоруков потерял право занимать какие-либо выборные должности. Последовало лишение его придворного чина камергера. Но и эти удары он выдержал спокойно, и, “не потеряв лица”, продолжил общественную деятельность: на нем лежали обязанности бессменного главы пацифистского “Общества мира”, созданного в Москве в 1909 г. по его инициативе»[490]490
Канищева Н. И. Павел Дмитриевич Долгоруков // Российский либерализм: идеи и люди. Под общ. ред. А. А. Кара-Мурзы. М.: Новое издательство, 2007. С. 515–516.
[Закрыть].
Эта политическая нечистоплостность власти, связанная с представлениями о политически «целесообразной» борьбе со своими оппонентами, проникла и в моральное сознание выдающегося государственного мужа П. А. Столыпина. Фигура Столыпина в истории России – глубоко трагическая. При всем личностном масштабе реформатора, которого по справедливости можно считать последним защитником русского престола, проявленном им мужестве и воле, политическая мораль Столыпина, этого яркого представителя дворянской служилой этики, нередко не соответствовала «кодексу чести» дворянина. Ему приходилось перенимать «приемы» царедворной политической морали, что проявилось в отношениях Столыпина с Думой и с ее первым председателем С. А. Муромцевым. Хорошо известно, что Первая Государственная дума была разогнана с помощью Столыпина, причем весьма изощренным способом политического обмана. В тот момент, когда Столыпин в пятницу разговаривал по телефону с Председателем думы Муромцевым и просил включить в повестку дня в понедельник его доклад, на руках у него уже был подписанный императором указ о роспуске Первой Думы и о назначении его, действующего министра внутренних дел, Столыпина, премьером.
Каковы бы ни были тогда мотивы поведения Столыпина, эта историческая фигура грандиозно возвышается на политическом небосклоне последнего десятилетия Российской империи. Именно об этом, вспоминая реформатора на страницах «Возрождения», пишет П. Б. Струве, видя в Столыпине «строителя той новой России, которая во всяком случае должна быть. Все остальное в нем, – добавляет Струве, – в его приемах, в его действиях и даже в его идеях имеет второстепенное значение. Столыпин, как и все люди, ошибался и даже совершал крупные ошибки»[491]491
Струве П. Б. Дневник политика. С. 158.
[Закрыть].
Но в текущем политическом моменте подобные моральные уловки, который позволял себе из политической целесообразности даже Столыпин, только поднимали градус недоверия общественности к власти. Апофеозом обвинений правящих государственных верхов со стороны оппозиции можно считать антиправительственную речь П. Н. Милюкова против Штюрме ра и близких к императрице германофилов, произнесенную на заседании Думы, 1 (14) ноября 1916 года, в самый разгар войны с Германией. «Я вам назову этих людей! Манасевич-Мануйлов, Штюрмер, Распутин, Питирим, Протопопов. Это та самая придворная партия, победой которой, по словам “Нойе Фрейе Прессе”, было назначение Штюрмера – победа придворной партии, которая группируется вокруг молодой императрицы», – восклицал с думской трибуны Милюков, обращаясь в зал с патетическим вопросом: «Что это, глупость или измена?»[492]492
Государственный архив Российской Федерации. Ф. 102. ДП. ОО. Оп. 246. Д. 307. Л. Ат. 1 (1), л. 145 об.
[Закрыть] Непримиримый лидер кадетов, Милюков, считал себя морально правым адресовать правительству такой жесткий вопрос. На полях сражений Первой мировой в 1915 году погиб младший сын Милюкова, Сергей, ушедший добровольцем на фронт.
Если политическая мораль власти воспринималась радикальной оппозицией не иначе как недееспособность или предательство, то нравственно недопустимым для умеренной либерально-консервативной общественности было и политическое поведение революционеров.
Революционный нигилизм и аморализм «левых». В качестве эпиграфа, проницательно характеризующего мораль и нравственные принципы политической борьбы большевиков, можно было бы предпослать высказывание выдающегося русского мыслителя С. Л. Франка из его статьи «De profundis», давшей название знаменитому сборнику 1918 года «Из глубины»: «Неприкрытое, голое зло грубых вожделений никогда не сможет стать могущественной исторической силой; такой силой оно становится лишь когда начинает соблазнять людей лживым обличием добра и бескорыстной идеи»[493]493
Франк С. Л. По ту сторону правого и левого. Париж: YMCA-Press, 1972. С. 486.
[Закрыть].
Философ и социолог В. А. Чаликова проделала блестящий мысленный эксперимент, выявивший историческую метаморфозу народнического самосознания – его трагическую транс формацию в большевистский революционный аморализм. Она допустила возможность того, что знаменитая фраза молодого Владимира Ульянова при известии о казни брата «Мы пойдем другим путем» была произнесена. «Я убеждена теперь, – пишет Чаликова, – что “другой путь”, действительно, был избран, что был совершен духовный переворот в поколении, в его незаурядном представителе. И только за духовным последовал роковой политический переворот. Владимир Ульянов разрывал с Александром Ульяновым, а Александр был из тех, кто еще верил в исправление мира подвигом и жертвой – убийством одного и искупающей убийство гибелью другого, его крестной мукой. Поколение Александра еще читало некрасовские строки так, как они были написаны: “Дело прочно, когда под ним струится кровь”, – то есть моя кровь. Ленинизм рассчитывал на чужую кровь, хотя обильно пролил свою. В ленинизме не было жажды жертвы, и это выразилось впервые в ясном ощущении мальчика, что он не хочет, “как Саша”, что крест его не манит, что “положить живот за други своя” ему не сладостно»[494]494
Чаликова В. А. С Лениным в башке // Век XX и мир. 1990. № 8. С. 34.
[Закрыть]. «Оказалось, – продолжает Чаликова, – можно заниматься ликвидацией людей и быть спокойным, уравновешенным: играть в шахматы, удить рыбу, наслаждаться горными прогулками. Тут была важная деталь: не делать ничего такого собственноручно, действительно идти другим путем, чем Александр, который взял на себя и деяние, и расплату…»[495]495
Там же. С. 34.
[Закрыть]
Анализируя тексты русских мыслителей, исследовавших социально-культурную и духовно-нравственную природу русского коммунизма и большевизма, философ и историк русского либерализма А. А. Кара-Мурза делает вывод о том, что в какой-то момент радикалами было «снято противоречие между нехристианской этикой русских революционеров, уже поправших принцип “не убий”, и их же пока еще христианской психологией»[496]496
Кара-Мурза А. А. Большевизм и коммунизм: интерпретации в русской культуре. М.: ИФРАН, 1996. С. 18.
[Закрыть].
На это обстоятельство указывает и Чаликова, приводя примеры добольшевистского революционного сознания – эсера Зензинова, писавшего, что ни раскаяние, ни даже казнь террориста не спасают его от бремени греха; эсера Каляева, который все откладывал покушение, чтобы не пострадали женщины и дети. «…эту противоречивость, мешающую запустить “массовый тотализатор”, большевизм радикально снял, приведя психологию в гармонию с этикой», – заключает исследователь[497]497
Там же. С. 19.
[Закрыть].
Самым страшным результатом освобожденной от нравственной рефлексии и разума политической этики становится псевдомораль бунтующей черни, в которой происходит нравственная перекодировка волеизъявления народа, его совершенно оправданного требования правды и справедливости. В этом случае различия между «черным» и «красным» уже нет. На это обратил внимание С. Л. Франк: «Толпа, участвовавшая в былые времена в еврейских погромах и еще в 1915 году устроившая в Москве по мнимо-национальным мотивам немецкий погром, есть та самая толпа, которая совершила большевистский переворот, громила помещиков и “буржуев”…»[498]498
Франк С. Л. По ту сторону правого и левого. С. 54.
[Закрыть]. Та же самая толпа громила барские усадьбы и дворцы, в которых был накоплен огромный культурный капитал многих поколений, та же самая толпа громила церковные святыни – памятники истории и духовной культуры Отечества…
Моральные дилеммы русской политики. Между реакционной политикой правых и революционным возбуждением левых в начале XX века сформировалась трагическая взаимозависимость. Эту роковую русскую связку увидел и объяснил в истории освободительного движения и такой личности, как Столыпин, П. Б. Струве. Реформаторские усилия царского премьер-министра для Струве символизировали прогрессивный путь России, осуществляемый властью. Однако роковое начало русской истории проявилось в судьбе самого Столыпина. По словам Струве, Столыпин «боролся на два фронта: во-первых, с ли берально-радикальным общественным мнением, которое за десятилетия отрицания и оппозиции, и, в значительной мере, оппозиционного бездействия утратило исторический смысл и чутье живой действительности; во-вторых, с реакционным недомыслием, самоуверенным до гордыни и в своей гордыне ослепленным до… страсти»[499]499
Струве П. Б. Дневник политика. С. 158.
[Закрыть].
Моральный крах этих политических сил состоял в том, что либеральный радикализм сомкнулся с разрушительной стихией большевизма, а реакционное недомыслие, выразителем которого стал сам монарх, помешало Столыпину в полной мере реализовать реформы и дать возможность центристским силам занять ведущее место в политической конфигурации империи. По словам Струве, «за либерально-радикальным общественным мнением стояла дремавшая, полицейски обузданная, но не укрощенная историческим народным опытом народная же стихия революционного максимализма»[500]500
Там же. С. 159.
[Закрыть]. Она вылилась в большевизм. В то же время монарх не поддержал Столыпина. Реформатор не смог подчинить царя «в своем лице государственной необходимости» и «изнемог в борьбе с монархом»[501]501
Там же. С. 159.
[Закрыть]. Морально-политическим уроком трагедии русского государства следует считать, по мнению Струве, тот факт, что «государство как идея и соборное существо выше всякого “эмпирического” человека, хотя бы он был монарх, и что государственная необходимость должна в интересах государства и самой монархии превозмочь и монаршую волю как эмпирическую единоличную волю»[502]502
Там же.
[Закрыть].
Эти строки о Столыпине написаны выдающимся русским философом, экономистом и политическим деятелем в эмиграции. Пройдя в развитии политического мировоззрения путь от легального марксизма к консервативному либерализму, Струве всегда оставался безупречным поборником идеи свободы и культуры. И в этом следовании идеалам юности и молодости во все периоды политической деятельности он предстает интеллектуально честным. Струве, мыслителю и политику, удалось в концепции культуры и свободы, артикулированной блестящей по философской глубине идеей «личной годности», соединить ценности либера льной культуры и религиозной традиции России, преломить их сквозь призму правового сознания, трудовой этики и христианской морали. Положительный синтез либерализма и патриотизма в интеллектуальном и политическом опыте Струве состоялся на почве универсализма русско-европейской христианской культуры[503]503
См.: Кара-Мурза А. А., Жукова О. А. Свобода и вера. … С. 134–170.
[Закрыть]. А. С. Пушкин, Б. Н. Чичерин, И. С. Аксаков были для него носителями положительной либерально-государственной идеи на высоком уровне развития национальной культуры – либеральными консерваторами.
Находясь в стане освободительного движения, борясь за конституционное устройство Российского государства, Струве уже в 1906 году отчетливо понял, что самой большой опасностью для государственности и национальной культуры становится не «враг справа», а «враг слева». Можно говорить о государственном инстинкте Струве, сына пермского губернатора, но можно вспомнить и иное – более глубинное чувство, которое составляло родовую сторону его личности – его отношение к России как горячо любимой Родине. В немалой степени Струве унаследовал его не только в семье, но и через почитание либерального славянофила И. С. Аксакова – кумира своей юности. Красноречивый пример патриотической мотивации в политическом поведении Струве, в тот период еще публициста-эмигранта, приводит в своих воспоминаниях А. В. Тыркова-Вильямс. Она какое-то время жила рядом с семьей Струве, вынужденная скрываться от властей после судебной истории с перевозкой нелегальной газеты «Освобождение».
Эпизод, описываемый Тырковой, относится к периоду русско-японской войны и характеризует отношение Струве к поражениям русских на фронте. По словам Тырковой, в «ос вобожденских кругах» очень часто считали, «чем хуже – тем лучше». Такое поведение демонстрировала немалая часть антиправительственно настроенной интеллигенции и буржуазии. Тыркова свидетельствует: «Струве провел резкую грань между собой и пораженцами, и я ему за это до сих пор благодарна»[504]504
Тыркова-Вильямс А. В. На путях к свободе. С. 185.
[Закрыть]. Однажды, вспоминает Тыркова, к Струве явился эсер, по фамилии Максимов, чтобы от имени японцев «предложить денег на расширение революционной работы»[505]505
Там же. С. 185.
[Закрыть]. Струве вышвырнул его из дома и в гневе, «потрясая кулаками, вопил:
– Мне, вы понимаете, мне предлагать японские деньги?! Как он смел? Мерзавец!
Интонации были для меня знакомые, – пишет Тыркова. – Так вопил Струве на Казанской площади, стоя в рядах арестованных[506]506
3 марта 1901 года П. Б. Струве был арестован за участие в демонстрации на Казанской площади. За этим событием последовала административная ссылка в Тверь (апрель – ноябрь) с запретом жить в университетских городах.
[Закрыть]. Поражениям Струве не радовался, хотя разделял всеобщую уверенность, что война вынудит правительство на реформы; но то, что ему осмелились предложить сговор с неприятелем, что его хотят подкупить японскими деньгами, привело его в праведное бешенство. Долго не мог он успокоиться. А с.-р. в это время пользовались помощью и деньгами японцев, чтобы через Финляндию переправлять в Россию бомбы и оружие для террористических актов…»[507]507
Там же. С. 185.
[Закрыть]. Спустив провокатора с лестницы, Струве решил для себя главный нравственный вопрос русской политики: что в истории, являясь истиной, не «перестает быть от этого политической правдой»[508]508
Струве П. Б. Дневник политика. С. 120.
[Закрыть]. Об этом морально-политическом выборе, однажды совершенном, христианский либерал и русский патриот Струве еще раз свидетельствовал на страницах «Возрождения», в 1926 году.
Прояснение драматических событий русской истории начала XX века через дискурсивный анализ важнейших этико-по литических понятий и моральных прецедентов общественной практики не теряет своей актуальности и нравственного смысла. Проделывая эту работу, мы получаем шанс на историческую истину, не противоречащую политической правде.
Глава 6. Россия и свобода: философия культуры и истории Г. П. ФедотоваГеоргий Петрович Федотов (1886–1951), религиозный философ, знаток русской культуры и публицист, разделил эмигрантскую судьбу выдающихся представителей образованного класса России. Для Федотова, пережившего трагедию разрыва с исторической Родиной, вопрос о культурном и политическом устройстве России, мучительный для ученого-эмигранта, стал главной философской и публицистической темой. Воспринявший дух европейского просвещения от своих университетских учителей, Федотов был приверженцем ценностей культуры и свободы, что выдает в нем человека европейской культуры с ее философской и политической центрированностью на проблеме личности и общества, решаемой в христианско-либеральном духе защиты индивидуальных и политических свобод. В то же время социалистическая окраска его «западничества» сближает его с поколением русских интеллигентов, в той или иной степени переживших увлечение материализмом и марксизмом и позднее вернувшихся в лоно религиозно-философской традиции. Но в отличие от Бердяева, Булгакова или Франка, по словам Ф. А. Степуна, «Федотов, единственный, который, придя в Церковь, не отказался от интеллигентски-революционного прошлого»[509]509
Степун Ф. А. Г. П. Федотов // Новый журнал. 1957. № 49. С. 225.
[Закрыть].
Федотов, сын надворного советника, правителя губернаторской канцелярии Саратова, в годы обучения в Петербургском технологическом институте оказался в рядах марксистских пропагандистов. С началом революции 1905 г., вернувшись в родной Саратов, он проводил агитацию за социал-демократов, был арестован, выпущен за отстутствием улик и затем скрывался в Вольске. Настоящий арест за участие в революционной деятельности произошел 17 августа 1906 года. Федотов был арестован и выслан в Германию. От марксистского соблазна молодого борца за социальную справедливость Федотова спасла его склонность к гумнитарным наукам – искренний и живой интерес к европейской истории и культуре. Огромная заслуга в этом обращении Федотова к ценностям знания и культуры принадлежит его наставнику, профессору Петербургского университета И. М. Гревсу, историку-медиевисту, знатоку Античности и краеведу. Под его началом Федотов стал профессионально заниматься средневековой историей Европы, работая над подготовкой магистерской диссертации «Святые епископы меровингской эпохи»[510]510
Работа не завершена, на защиту не выносилась; сведения о ее подготовке можно почерпнуть из отчетов С-Петербургского университета 1914–1915 гг. самого Г. П. Федотова.
[Закрыть].
Расставание с марксистскими иллюзиями молодости и постепенное обращение Федотова к религиозной проблематике истории связано с деятельностью религиозно-философского кружка «Воскресение», который он организовал вместе с А. А. Мейером в 1918 году[511]511
Кружок существовал с 1917 по 1928, в Петрограде. Помимо Федотова и Мейера в него входили историк, краевед Н. П. Анциферов, историк-востоковед Н. В. Пигулевская, литературовед, музыковед Л. В. Пумпянский, Е. Н. Нечаева, ставшая женой Г. П. Федотова, художник К. С. Петров-Водкин, пианистка М. В. Юдина.
[Закрыть]. Собственно, с эссе этого периода «Лицо России» (1918) начинает определяться основная философская тема творчества Федотова – русская духовная традиция и культурная история России. Проблематизирующим началом историсофских и культурфилософских построений Федотова, как и для многих русских интеллектуалов, становится трагический опыт революции.
Отъезд из России в 1925 году принесет Федотову испытания эмигрантской жизни. Вдали от Родины он преподает в Св. – Сергиевского православном богословском институте по кафедре агиологии (1926–1940), активно участвует в деятельности Русского студенческого христианского движения, является членом «Братства Св. Софии», вместе с Н. Бердяевым, о. С. Булгаковым, К. Мочульским входит в благотворительное и культурно-просветительское общество «Православное дело», созданное по инициативе монахини Марии (Скобцовой). Основные работы Федотова парижского периода связаны с деятельностью журнала «Новый град», где вместе с И. Бунаковым-Фондаминским и Ф. Степуном он пытается осуществить синтез позитивных идей социализма, либерализма и христианства.
Политическая позиция журнала и самого Федотова состоит в принципиальной критике фашизма и коммунизма как тоталитарных идеологий, свидетельствующих о глубоком кризисе европейской культуры и политического сознания. Федотов вместе со своими соратниками по перу вступает в борьбу за «правду Нового Града», за человека, которого можно узнать только по тому, во что он верует, какого он духа. Именно христианство, по мнению редакторов журнала, сохраняет человека как целое, давая ему цель и смысл жизни, надежду на социальную правду, при том, что признает трагизм его существования. «Современное развитие “позитивной” мысли, консервативной, либеральной и социалистической, – пишут в редакционной статье авторы журнала, – разбивает единство христианской правды в осколки. Каждый из них становится кривым зеркалом мира и односторонне-опасным орудием действия. Лишь христианство не эклектически, а целостно утверждает равенство целого и части, личности, и мира, Церкви и человеческой души. Христианство бесконечно выше социальной правды, христианству, в его трагическом развитии на путях истории, случалось тяжко погрешать против социа льной правды, и все-таки осуществление социальной правды возможно лишь в христианстве: как общественное выражение абсолютной правды Христовой»[512]512
От редакции // Новый град. 1931. № 1. С. 7.
[Закрыть].
В цикле статей в «Новом журнале» – «Рождение свободы» (1944), «Россия и свобода» (1945), «Судьба империй» (1947), относящихся к американскому периоду жизни Федотова, тема обретения Россией своего пути к свободе, онтологическим ядром которой является христианство, становится доминирующей. Согласно периодизации А. А. Кара-Мурзы, понятие свободы у Федотова проходит четыре эволюционные стадии. В интерпретации исследователя, первый этап связан с марксистско-социалистической трактовкой свободы, что допускает возможность насилия во имя свободы, в силу слабости власти, но без революционного фанатизма, второй определяется христианско-социалистическим пониманием свободы (под влиянием А. А. Мейера, его книги «Религия и культура», 1909 г.). Дискурс о свободе здесь обогащается идеей «нового коллективизма», т. наз. «пребывания вместе», «общего переживания восторга общения со свободным бытием», любовь выступает против ненависти, накопленной в различных классах. Третий этап – христианско-демократический, с доминированием идеи свободного творчества нации в истории, не политической оппозиции правого и левого, а противопоставления цивилизации против варварства. Наконец, четвертый этап – христианско-либеральный, где свобода выступает как высшая ценность личного бытия и культурного творчества человека[513]513
См. подробнее: Кара-Мурза А. А. На пути к христианскому либерализму: эволюция концепции «свободы» в трудах Г. П. Федотова // Политическая концептология. 2015. № 1.
[Закрыть].
В этом синтезе социальной интуиции свободы и христианской веры, «неслиянно и нераздельно» соединившихся в интеллектуальном и духовном строе Георгия Федотова, его соавтор по журналу «Новый град», Федор Степун увидел особый метафизический тип личности. По его мнению, Федотов был «интеллигентом совершенно нового духа и стиля, в котором церковное православие гармонически сливалось с социалистической встревоженностью и утонченнейшею культурой художника и эстета»[514]514
Степун Ф. А. Г. П. Федотов. Там же. С. 227.
[Закрыть]. Проницательно его замечание о Федотове-авторе: «Читая его, иной раз видишь перед собой типичного русского интеллигента-радикала марксистского толка, поселившегося в келье старца, и в этом не чувствуется раздвоение личности, а как бы религиозная двухполюсность ее»[515]515
Там же. С. 225.
[Закрыть]. Такое сочетание «начал христианской истины и марксистской социологии» можно было бы счесть за противоестественное. Работы Федотова, по мнению Степуна, дышат, с одной стороны, «христианским ожиданием преображения мира», а с другой – «подчинением марксистскому требованию активной, т. е. изменяющей лицо мира науки»[516]516
Там же. С. 222.
[Закрыть]. В этом сближении Степун усмотрел мировоззренческое сходство Федотова с немецким протестантским богословом П. Тиллихом, также как и Федотов, перебравшемся в Америку из Европы.
И все же: кем по своим воззрениям и духу был Г. П. Федотов, пытавшийся обнаружить и взрастить западноевропейскую идею культуры и творческой свободы человека на почве духовно-национальной традиции России, – религиозно окрашенным публицистом, сторонником христианского социализма или философом истории и культуры христианско-либерального типа? Можно ли помимо эволюции его политических взглядов говорить об эволюции философского мировоззрения, о формировании особого видения отчественной истории и культуры? В этом контексте примечательно высказывание Юрия Иваска о том, что «всю жизнь Федотов занимался тем, что выкорчевывал плевелы на посевной площади православия и социализма и взращивал добрые посевы»[517]517
Иваск Ю. П. Молчание: Памяти Георгия Петровича Федотова // Опыты. 1953. № 1. С. 151–152.
[Закрыть]. Какие посевы удалось взрастить Федотову в философии российской истории?
Русский путь свободы и культуры. Творчество Г. П. Федотова с полным основанием можно назвать монотематичным, центрированным на проблеме «русской жизни», культурной истории России, ее духовной традиции. Дата ухода из жизни Федотова – 1951 год. Середина XX века – это послевоенная политическая и социальная история, которая подготавливает новый цивилизационный этап – постиндустриальный, контуры которого определяются открытостью глобального мира, трансформациями традиционных культур, универсальностью технологий, потоками трудовых мигрантов. Кажется, что эпоха модерна – национальных государств и культур – завершается. Постмодернизм деконструирует ценности и смыслы культуры модерна, пересматривает и даже отказывается от христианского культурного предания Европы. Но именно христианские основы европейской и русской культуры с потрясающим упорством защищает Федотов.
В отношении идейного наследия русского религиозного мыслителя с точки зрения актуальности его культурфилософских концепций важен не только концепт модерна и постмодерна, обозначающий тенеденцию развития постсекулярной Европы, с ее активными процессами дехристианизации. Как и в случае с другими русскими философами возникает сюжет, заданный трагическими обстоятельствами российской истории XX века. Все творчество Федотова отвечает на один вопрос: как случилось, что с Россией произошла глобальная историческая и метафизическая катастрофа?
Укорять русский культурный класс, к которому принадлежал Федотов, университетских профессоров, интеллектуальную элиту и провинциальных интеллигентов в том, что он «просмотрел» и «потерял» Россию, было бы большой ошибкой. Как яркий представитель этого слоя Федотов унаследовал и все родовые черты русской интеллигенции. Для него мотив служения оказался важным, но не ограничивающим горизонт культуры. В чем это проявилось? Православная интуиция русской культуры с ее мотивом спасения в среде народнической интеллигенции обрела черты служения, своего рода, секулярной аскезы, покаяния перед народом, «не влюченным в нацию» (В. В. Вейдле). И если Федотов избежал мистического соблазна русского народничества, «русского соблазна», по словам Бердяева, с его гипертрофированной идеей служения обоженному народу, то он не избежал социалистических увлечений. От идейных крайностей его спасала отчетливо выраженная потребность в культуре – культуре, которая станет потом делом всей его жизни: «Его дело – оправдание культуры, которая так страстно и на все лады отрицалась у нас – со времени Белинского и до “Русской идеи” Бердяева. И он боролся с этим отрицанием (нигилистов и апокалиптиков), которое довело Россию до нового советского варварства и облегчило торжество зла (большевизма), способного погубить все человечество»[518]518
Иваск Ю. П. Молчание. С. 153.
[Закрыть].
Федотова справедливо назвать человеком европейской культуры, которому идея социального порядка, основанного на праве, интеллектуальная дисциплина и духовная трезвость, формирующие своего рода аристократизм духа, были присущи как личностные свойства. Федотов одновременно и реалист и аристократ. Впервые лично встретившись с ним зимой 1926 / 27 года в Берлине, Ф. Степун записал свое впечатление, которое «было несколько неожиданное. Ни намека на свойственную большинству русских людей житейски-бытовую простоту в обращении, очень сдержанная речь с паузами и умолчаниями, тихий, но богатый интонациями голос; во внешнем облике, несмотря на заношенный пиджачок, нечто очень изящное, хрупкое и даже “декадентское”, что не встречалось у писателей-бытовиков и партийцев-общественников. Во всем образе нечто аристократически-отъединенное, отнюдь не располагающее к интимности»[519]519
Степун Ф. А. Г. П. Федотов. С. 222.
[Закрыть].
Этого скромного аристократизма подчас русской интеллигенции не хватало – доминировали какие-то «уклоны», идейные или аскетические, как проницательно заметит писатель и публицист Б. К. Зайцев. Преодоление «уклонов» в русской интеллигенции происходило во многом благодаря сознатель ному возвращению к вере и православию. Этот путь прошел и Федотов, принадлежа к слою носителей креативных идей, выражаемых в высоких практиках культуры – искусстве, науке, философии. По сути, он и выступил главным модернизатором русской действительности и русского социального порядка.
Примечательно, что два эмигранта, Зайцев и Федотов, сходятся в оценке роли православной веры в жизни русского народа. Говоря о повороте интеллигенции к вере, Зайцев рассуждает о преемственности и разрыве духовно-культурной традиции. При этом его аргументация соответствует логике рассуждений, содержащихся в главных трудах Федотова. Хранителем православия в России всегда считался народ, но он же веру и не удержал. Как пишет Федотов в «Трагедии русской святости», «на заре своего бытия Русь предпочла путь святости пути культуры. В последний свой век она горделиво утверждала себя как святую, как единственную христианскую землю. Но живая святость ее покинула. Петр разрушил лишь обветшалую оболочку Святой Руси. Оттого его надругательство над этой старой Русью встретило ничтожное сопротивление»[520]520
Федотов Г. П. Собрание сочинений: в 12 т. Т. 11. М.: Мартис, 2001. С. 353.
[Закрыть]. Раскол обескровил Россию, подготовив путь петровской церковной реформы и секуляризации культуры. Установившееся в народном быту и сознании обрядовое благочестие без живительной силы веры, усилий духа и разума, вело только к консервации социального порядка и постепенному «развоцерковлению». «Однако столетия Империи, создавшие если не разрыв, то холодок между иерархической Церковью и народной религиозностью, не уничтожили окончательно святости», – пишет Федотов[521]521
Там же. С. 354.
[Закрыть]. Традиция русской святости стала единичным подвигом: «Вдали от покровительственных взоров власти, не замечаемая интеллигенцией, даже церковной иерархией, духовная жизнь теплится и в монастырях, и в скитах, и в миру… В пустынь к старцу, в хибарку к блаженному течет народное горе в жажде чуда, преображающего убогую жизнь. В век просвещенного неверия оживала легенда древних веков»[522]522
Там же.
[Закрыть].
Государственная церковь Российской империи, превратившаяся в «ведомство дел православного вероисповедания», со своей миссионерской и просветительской задачей не справилась. В эпоху трех революций русский народ оказался массово неверующим, в то время, как «разуверившаяся» интеллигенция в своем интеллектуальном и духовном опыте проделала шаг к традиции, более того – придала ей новое историческое дыхание, осмыслила ее философски и богословски. В этом грандиозном историческом прецеденте, явленном в рамках логики развития русской культурно-политической общности, и стал разбираться Федотов вместе с другими российскими интеллектуалами.
Русским религиозным философам и социальным мыслителям во многом удалось выполнить свою культурную задачу по осмыслению многообразных сюжетов актуальной современности. Оказавшись на цивилизационном разломе старого и нового миропорядка, за пределами России, в идейно-концептуальном плане русская мысль достигла своего ακμή[523]523
ακμή – высшая точка, вершина (др.-греч.).
[Закрыть]. Выступая против насильственной подмены критических структур философского мышления социальной мифологией, борясь против ленинско-большевистской версии истории, она не только сохранила свою метафизическую интуицию, но и выработала продуктивные философско-культурологические подходы к анализу социально-политической традиции России. Для одних русских мыслителей эта работа была скорее духовно-личностной борьбой, как, например, для Николая Бердяева, для кого-то, как для Петра Струве, она несла в себе и политический смысл. Федотов оказался не чужд философско-политической публицистике, вызвав этим раздражение в эмигрантской интеллектуальной среде, что даже привело к конфликту в Свято-Сергиеевском богословском институте. В ситуации раскола русского мира общественно-культурная линия поведения Федотова определялась, на наш взгляд, важной этической установкой – категориями не только долга и чести, личной моральной безупречности, но и дела, в соответствии с новозаветной максимой «вера без дел мертва» (Иак 2, 26). Для Федотова такой способ «верификации» истины выразился в исследовательском стремлении осмыслить проблему взаимообусловленности религии и общества, православия и политической практики, духовной традиции и искусства в истории России. Но для него также важно было попытаться решить ее путем социального и культурного делания. Федотов задействовал две публичные площадки – общественную и научно-образовательную, с которых выступал как философ-публицист и ученый.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?