Текст книги "В погоне за светом. О жизни и работе над фильмами «Взвод», «Полуночный экспресс», «Лицо со шрамом», «Сальвадор»"
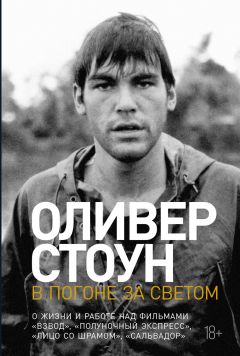
Автор книги: Оливер Стоун
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Следующее поколение немцев взяло реванш за Первую мировую войну, вступив в Париж в мае 1940 года. Моей матери тогда было почти 19 лет. В городе ввели жесткий комендантский час, который погасил любые проблески веселья и ночных развлечений. Все продукты, особенно мясо, выдавали строго по карточкам. Настоятельно рекомендовали исключить встречи с друзьями. Ожидание в очередях стало обыденностью. Наконец, возможно, самое худшее заключалось в запрете получения достоверных новостей извне. Немцы были вежливые, бесчувственные, проницательные и, что наиболее важно, методичные. Они пугали французов. Немцы регулярно навещали дом родителей мамы, чтобы проверить документы у их постояльцев с тем, чтобы выявить среди них «проблемных» людей: смешанной крови и еврейского происхождения. Родители постоянно наставляли маму: «Никогда не заговаривай с немцами, переходи на другую сторону улицы и проверяй, чтобы у тебя всегда при себе было удостоверение личности». Мама старалась не краситься, одевалась в безвкусную одежду и уродливую обувь на пробковой подошве. Это продолжалось целых четыре года. Она ненавидела немцев пуще любой заразы и намеревалась наверстать все, что было упущено за эти годы, как только наступит ее день. Она будет веселиться. Веселиться до упаду.
Военная обстановка начала меняться после потрясающей победы СССР в Сталинградской битве в 1943 году. Красная армия начала вытеснять немцев с территории России назад, в Восточную Европу, в то время как союзники застряли в Италии. Наконец, в июне 1944-го произошла высадка союзников в Нормандии, и к августу Париж был освобожден. Мир неожиданно закрутился вокруг новой оси. Все прошлые жесткие правила были отменены. Прибывшие с деньгами, нейлоновыми колготками, сигаретами смешливые американцы выглядели как боги в глазах бедных французов. Однако до окончания войны оставалось еще девять тяжелых месяцев. Под натиском союзнических войск с запада и под напором русских, которые ценой большой крови сокрушали военную машину Германии на востоке и затем квартал за кварталом брали Берлин, от нацистской империи к маю 1945 года остались одни руины.
Именно в этот месяц, в день, напоенный ароматами весны, мой отец, подполковник Луи Стоун, увидел мою мать, направляющуюся на велосипеде в Racing Club через город, в котором все еще не было автомобилей. Он поддался импульсу – на мой взгляд, это лучший образ действия – и последовал за ней на своем велосипеде. Где-то в районе Булонского леса он намеренно столкнулся с ней, извинялся и, изображая, что он потерялся, попросил сориентировать его. Мне очень хотелось бы быть там в этот момент, чтобы записать их первые слова друг другу. Романтичной 24-летней француженке было крайне тяжело отказать этому темноволосому, здоровому как бык, симпатичному молодому человеку, с щербинкой между зубами и нахальными манерами Гейбла в военной форме. В свою очередь, как мог он, служа у Дуайта Эйзенхауэра в парижской штаб-квартире Главного командования союзных сил, не воспользоваться своими преимуществами, чтобы поухаживать за местной девушкой, живущей по талонам? Он недурно изъяснялся по-французски и был решителен, настаивал на повторной встрече и умудрился заполучить ее адрес, хотя он и казался ей староватым в его 35 лет по сравнению с ее женихом, которому было чуть за двадцать.
К ее удивлению, на следующий день он наведался прямо к ней домой (телефоны тогда еще не были повсеместно распространены) и в стилистике Ретта Батлера представился застигнутой врасплох семье, отметая любые протесты с ее стороны с упоминанием помолвки. В дело пошли подарки, приобретенные в магазине для американских военных: он принес с собой окорок, кофе и шоколад и полностью очаровал этих французских «крестьян», на которых большое впечатление произвел тот факт, что он был офицером при «le général Eisenhower» – генерале Эйзенхауэре. Английский был легким для изучения языком, и языком, способствующим «покорению мира», как бахвалился Уинстон Черчилль, и она знала как раз достаточно слов на английском, чтобы с милым акцентом обсуждать основные темы, пусть и недостаточно, чтобы разделить интересы моего отца, в том числе обсудить сильно заботивший его вопрос о необходимости завершить войну, которая, на его взгляд, не закончилась в 1945 году.
За США оставалась самая сильная экономика мира, не затронутая бомбежками, и статус очевидного морального победителя. Русские оказались дискредитированы в силу их странного языка, предполагаемого грубого поведения в отношении «цивилизованных» немецких барышень и давнего недоверия к большевистской революции 1917 года. Мой отец работал на Уолл-стрит до того, как его назначили в финансовое подразделение G-5 Главного командования союзных сил. Его отправили из Франции в Германию. В 1943-м он питал симпатии к русским и сочувствовал им как отчаянно сражающимся аутсайдерам. Однако к 1945 году русские были уже нашими полноправными союзниками и вместе с нами оккупировали Германию, и мой отец вновь обратился к давнему противостоянию с коммунизмом. Он называл бедствующих русских «мухлюющими ублюдками», которые, весьма вероятно, наводнили всю Западную Европу поддельными долларами. Позже он рассказывал мне, что они украли наши клише для печати денег. Он начал верить в так и нереализовавшиеся амбиции генерала Джорджа Паттона продвинуться на восток, навстречу нашему «союзнику», и взять Москву, чтобы покончить с коммунизмом раз и навсегда. Многие, хотя далеко не все, разделяли такой образ мыслей, но понимали, что даже если это и произойдет, то приведет к огромным материальным потерям и человеческим жертвам. В мире очевидным образом намечался раскол, и мой отец, естественно, хотел остаться на правильной стороне пропасти между богатыми и нищими.
Также он поведал, что французы выглядели «необычными» в его глазах. У него были девушки в Нью-Йорке, Вашингтоне и Лондоне, однако «les Françaises» – «француженки», – знающие толк в моде и духах, с их акцентом и сметливостью, показались ему более склонными к материнству и ориентированными на семью. Однозначно, француженки были одеты лучше, чем английские девушки, которых он встречал в Лондоне: аскетизм последних либо оправдывался суровым военным временем, либо был отражением их готовности идти на жертвы ради войны. Француженки же всегда были настолько тщеславны, что умудрялись находить возможность быть желанными и «выглядеть хорошо» постоянно. Вернувшись в Париж из Германии и продолжив ухаживать за матерью, отец устремился мыслями в будущее. Он был настойчив и, по ее словам, прямо заявил ей: «Я хочу, чтобы ты была моей женой. Я искал тебя 35 лет. Я не хочу потерять тебя». За этими словами последовало завернутое в шелковую бумагу кольцо с 10-каратным бриллиантом грушевидной формы, которое он неожиданно извлек из кармана своей формы.
В мире моей матери благовоспитанная девушка католической веры, помолвленная с приятным молодым французом из хорошей семьи, не могла нарушить обет верности и неожиданно сбежать в неизвестную ей страну со столь же неизвестным ей американским солдатом. Позже, когда я познакомился с Клодом, несостоявшимся женихом матери, у меня не сложилось впечатление, что она любила его так же, как он любил ее. Отвергнув благородного Эшли, Скарлетт из нашей версии романа сделала выбор в пользу Ретта через шесть месяцев после окончания войны. В декабре 1945 года Жаклин Полина Сезарин Годде и Луи Стоун (полное имя – Абрахам Луи Сильверстайн) сделали, вероятно, самую большую ошибку в жизни, которой я и обязан своим существованием, и сочетались браком в здании парижской мэрии. Моя мать была одета в красное платье от модельера Жака Фата, пальто из красной шерсти на подкладке из тафты и красную шляпку с пером. На церемонии бракосочетания присутствовали члены ее семьи, американские офицеры и Клод, который пришел, как она написала в своих воспоминаниях, «в надежде, что я передумаю». Я уверен, что ее родители были обеспокоены, поскольку не знали, каким человеком был этот американец. Но они знали свою дочь достаточно, чтобы понимать, что, даже если они и будут против, она не посчитается с их мнением. К тому времени уровень английского моей матери заметно подтянулся, хотя свой очаровательный акцент, как отмечали члены ее семьи и я лично, она унесла с собой в могилу без каких-либо значимых изменений.
Мои родители провели свою первую совместную волшебную ночь в королевском номере гостиницы Ritz. Белыми цветами были украшены все портьеры, мебель и люстра. На белых шелковых простынях были вышиты их инициалы. Пользуясь привилегиями, доступными высокопоставленному американскому офицеру, они провели свой медовый месяц на юге Франции. Затем переехали в парижский отель San Régis, где меня, скорее всего, и зачали на отличном французском постельном белье, в перерывах между кофе и круассанами. И в январе 1946 года мои родители отправились в плавание к Новому Свету. Их сопровождали 17 мест багажа, со слов моей матери, и 20 тысяч американских солдат, возвращавшихся на военном корабле домой. Моей матери досталась главная роль как единственной женщине на борту, хотя она и замечала, что была «безбилетница». Звучит как эпизод из фильма, однако мой отец, который всегда был непреклонно честным в отношении «преувеличений» моей матери, подтвердил эту историю. Это была лютая зима – одна из самых неприятных на памяти опустошенной Европы. Невыносимому путешествию по северной части Атлантического океана сопутствовали бури. Молодую жену, еще не осознавшую факт своей беременности, рвало на протяжении примерно 12 дней. Я думаю, ее нежданный гость заметил, что его первые моменты жизни были отмечены резкими порывами и штормом.
В 1976 году, стоя у ограды в Бэттери-парк и представляя себе тысячи ликующих солдат, проплывающих на корабле мимо статуи Свободы, я так же живо мог представить свою мать в молодости, как она размышляла, с некоторым простодушием, не только о том, что уготовано для нее в будущем, но и о том, кем был человек, за которого она вышла замуж и ребенка которого вынашивала. Позже она рассказывала мне, что Америка показалась ей ошеломляющим и странным местом, что еврейская семья ее мужа встретила ее «прохладно» и отличалась от французских семейств, где все знали друг о друге практически все, хотя бы потому, что они были беднее и жили в более стесненных условиях, а кроме того, они по природе были открытыми и эмоциональными. Окружение моего отца хранило «тайны» и позволяло себе осуждать других, отмечала мама. Они выросли в интеллектуальной среде: среди их предков были умудренные раввины из Польши, отпрыски которых эмигрировали в Нью-Йорк в 1840-х. Родственники матери моего отца были из каких-то неведомых уголков Восточной Европы. Они «наносили визиты» в манхэттенский Ист-Сайд, чтобы поглазеть на эту француженку, Жаклин, но держались друг друга и предпочитали оставаться в своем Верхнем Вест-Сайде.
Вот в такой обстановке в вихре боли и крови я и появился на свет 15 сентября 1946 года. Роды, по рассказам, были настолько тяжелыми (потребовались щипцы), что маме уже больше не было суждено родить, да и я, как говорят, еле-еле выжил. Мама сфотографировалась со мной, когда мне было полгода: я широко улыбаюсь и гляжу в камеру, кажется, выкрикивая «баба» или что-то похожее. Уже позже она придумала мою реплику для этой сценки – «Je suis fort!» («Я силач!»). Мама часто говорила, что я, пусть и «походил на китайчонка», был радостным малышом. Мой отец – непрактикующий иудей, а она – сомнительная католичка, поэтому было как-то логично, что меня вырастили в традициях американской Епископальной церкви. Я посещал церковную школу по воскресеньям вплоть до 14 лет. Я жил в достатке, здоровье и любви.
Своего отца я начал узнавать гораздо более постепенно, в отличие от моей матери, поскольку отцы довольно часто не торопятся поверить свои секреты сыновьям. Для него война была самым упоительным временем. Шло время, и он с тоской приговаривал, что это были «лучшие годы его жизни», с которыми 40 лет мирной жизни после окончания Второй мировой войны никогда не могли сравниться. Мой отец родился в 1910 году и вырос в семье фабрикантов, которые разбогатели в 1920-х. Это была эпоха нелегальных питейных заведений, женщин, обретших независимость в годы Первой мировой войны, бейсболиста Бейба Рута, боксера Джека Демпси и впервые пересекшего на самолете Атлантический океан авиатора Чарльза Линдберга. Отец, его два брата и сестра решили сменить свою фамилию с Сильверстайн на Стоун. Несмотря на квоты, ограничивающие поступление евреев в вузы, они были приняты в Принстон, Гарвард, Йель (мой отец) и Уитон (его сестра). Мой отец был умным, проявлял склонность к математическим наукам, хорошо писал. Внешность темноволосого красавца, вне всяких сомнений, была ему в помощь.
Первым из трех крупных потрясений, пошатнувших папину жизнь, стал обвал биржи в октябре 1929 года. Его отец, Джошуа Сильверстайн, продал свою Star Skirt Company и вложил полученные деньги в акции. Понесенные убытки привели к тому, что его сбережения растаяли, и у него осталось в собственности только недорогое жилье для сдачи в аренду в Гарлеме. В 1931 году мой отец завершает обучение в Йельском университете и погружается в самую гущу Великой депрессии. Ему повезло найти работу контролера торгового зала в универмаге, где ему платили $25 в неделю. Он часто рассказывал мне, насколько был сломлен этим неожиданным поворотом судьбы. На следующий год ему посчастливилось найти работу аналитика в бэк-офисе на Уолл-стрит. К 1935–1936 годам он уже был лицензированным биржевым маклером. Когда началась Вторая мировая война, благодаря своим связям ему удалось получить назначение на должность в армейских финансовых органах сначала в Вашингтоне, а в 1943 году – в Лондоне. Он жил холостяцкой жизнью, без каких бы то ни было обязательств. Это подтверждается несколькими выразительными фотографиями с привлекательными девушками, но, очевидно, ни одна из них не произвела на него достаточно глубокого впечатления. Поскольку, по всей видимости, больше всех он любил и боготворил свою высокую и грациозную мать, которая родила пятерых детей (один из которых умер) и затем посвятила им всю свою жизнь.
Вторым потрясением его жизни стала ее неожиданная смерть от инфаркта. В 1941 году она только вступила в свой шестой десяток, ему же был 31 год. О силе пережитого им удара я могу судить только по тому, как он говорил о своей матери, точнее, по тому, что он никогда не упоминал никаких деталей о ней. Люди обычно критикуют своих родителей хотя бы за пережитые обиды, и тем более удивительно, что о Матильде («Тилли») Майклсон не прозвучало ни одного слова, ни одной истории, ничего человечного. Я полагаю, то чувство горя, которое он, скорее всего, испытывал, им же отвергалось как «жалость к себе». Его эмоции застыли на настолько глубоком уровне, что мы уже не могли к ним пробиться. Я уверен, что частичка его умерла вместе с нею; определенная холодность, которую ощущали мы с матерью, исходила из его сердца. По воспоминаниям моей матери, он никогда не плакал, ни разу по поводу чего бы то ни было. Казалось, будто бы он все держит под контролем. Образцовый отец, отдалившийся ото всех со священным образом своей матери. По этой причине я не думаю, что моя мама смогла бы разгадать человека, за которого она вышла замуж.
Мой отец выразил свою тоску по чему-то вечному и свое ощущение от бессмысленно мрачной судьбы в стихотворных строках 1932 года:
Удел красоты – будь то видение, звук иль мысль –
Не оставаться вечно неизменной.
Не задуши ее в объятьях и не смотри в упор ты на нее.
Ее судьбу определим мы сами.
Все так и есть.
Верх мудрости, похоже, их ученье.
А человек своей дорогою идет
И счастлив мимолетным озареньям красоты.
Я полагаю, что война спасла моего отца от удручающих мыслей, позволив ему – пусть только на некоторое время – скрыться от прошлого. Однако жизнь ему отравляли его финансовые страхи, порожденные Великой депрессией. После окончания Второй мировой войны республиканцы сыграли на выборах 1946 года на страхах [электората] и завоевали большинство в конгрессе США. Начиналась холодная война, и папа отказался от своего прошлого восприятия России в позитивном ключе и яростно спорил со своими многочисленными друзьями – евреями либерального толка. Те поддерживали позицию Франклина Рузвельта, предлагавшего установить послевоенный мир, обеспечиваемый ООН и «четырьмя полицейскими» (США, Россией, Великобританией и, при условии присоединения к остальным, Китаем). В отличие от них, мой отец страстно ополчился против Рузвельта и гневно рассуждал о подрыве наших общественных устоев «Новым курсом» на фоне так и неразрешенной проблемы безработицы, с которой удалось справиться только в ходе войны. Соответственно, мы должны были продолжать добавлять топлива в топку национальной военно-промышленной машины, которая и так усилилась за период 1941–1945 годов. Ко временам корейской войны 1950–1953 годов, эта его точка зрения воспринималась как нечто само собой разумеющееся, мы уже никогда более не вспоминали некогда его кумира и бывшего начальника Дуайта Эйзенхауэра, ставшего президентом США в 1953 году. Военные расходы необратимо росли и достигли гигантских размеров. США перешли от горячей к холодной войне, не дав себе хоть чуточку времени, чтобы поразмыслить над этим. Страхи времен Великой депрессии по поводу безработицы более не являлись проблемой. Любые протестные настроения пресекались на корню Джоном Эдгаром Гувером, Джозефом Маккарти, потребовавшим присяг лояльности Гарри Трумэном и националистически настроенными СМИ.
В последующие 20 лет, вплоть до окончания войны во Вьетнаме, даже когда мой отец зарабатывал большие деньги, он никогда по-настоящему не расслаблялся. Он отказывался обладать тем, что можно было арендовать: квартиру, таунхаус в Нью-Йорке, участок земли, картину и даже машину, если ее можно было взять напрокат. Он любил говорить, что «Я здесь проездом, мой мальчик» или «Гекльберри», как он называл меня в память о величайшем творении его любимого автора Марка Твена. Особенно ему нравились эпизоды с пьяным папашей Гека, возможно, из-за полной его безответственности. Любимый фотопортрет отца был сделан в молодости, когда он пропал на несколько дней и вернулся в образе неопрятного и небритого бродяги. Возможно, именно поэтому он не хотел чем-либо владеть. Это было отражение гордыни, которая предшествовала грехопадению. «Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести из него»[11]11
Стих 7 Главы 6 Первого послания к Тимофею. Близкая по смыслу цитата встречается в Книге Иова, Глава 1, Стих 21: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь». В обоих случаях перевод взят с официального сайта Московского патриархата: http://www.patriarchia.ru/index.html.
[Закрыть] и т. д. и т. п. Эта философия затрагивала, конечно же, и меня, его единственного наследника. «Никто не выйдет отсюда живым» и «жизнь – это не миска с вишнями» – вот те мрачные афоризмы, которые я слышал, пока рос.
Чтобы не создать у вас превратное впечатление, должен признать, что моему отцу был присущ тонкий еврейский юмор и самоирония, и многие ценили его за это. Он рассказывал мне на ночь замечательные истории. Героем повествования был олицетворявший темную сторону его личности «Злой Саймон» – на мой взгляд, предшественник Лемони Сникета. Злой Саймон мог принимать бесчисленное множество форм и обличий, чтобы попытаться добраться до меня. Иногда он меня похищал. Злой Саймон пугал меня не меньше, чем русские. Отец всегда предельно четко указывал, что я не должен ни на что рассчитывать (вероятно, чтобы предостеречь меня от ожиданий, которые были у него самого до мирового экономического кризиса, начавшегося в 1929 году). Как и его отец, он был готов оплатить учебу сына в колледже, и на этом помощь заканчивалась. Являясь светским человеком и высмеивая замкнутых евреев-хасидов из Бруклина («Почему они не хотят вести себя как американцы?!»), он тем не менее был гораздо более привержен постулатам Ветхого Завета, чем был готов признаться в этом самому себе. Я полагаю, что отец столь часто демонстрировал мне нестабильность жизни с моих самых ранних лет (разумеется, периодически пугая меня русскими, которые проникают в нашу страну) частично по причине беспокоящей его перспективы, что я разделю экстравагантный, «показушный» французский менталитет моей матери.
Почему же он женился на своей полной противоположности? Как склонный к самоотрицанию осмотрительный еврей из общества, контролируемого белыми англосаксами, и по большей части рациональный человек, он должен был осознавать авантюрность брака с француженкой «крестьянского» происхождения. С другой стороны, возможно, он понимал, что брак с человеком вне его «племени» парадоксальным образом может дать новый импульс выдохшемуся генетическому фонду. Его жена не добавила их семье ни денег, ни благородной крови, ни образования, ни деловых связей. Она не была частью властных структур Нью-Йорка и Вашингтона, которые в конечном счете будут доминировать в мире и в которые он, выпускник Йельского университета с военным прошлым, мог бы пробиться, даже несмотря на свое еврейское происхождение. Мама же была изгоем, приятной незнакомкой для тех властных женщин, которые держали в своих руках ключи от всех дверей. Когда я спросил папу об их браке, он откровенно сказал, что женился на ней, «поскольку она могла стать хорошей матерью». Такой формулировкой он всегда пытался уйти от признания любви к моей матери. Под нажимом он мог бы сознаться, что «единственная женщина, которую я когда-либо любил, была мать» – его собственная.
Секс, а не деньги, сбили с пути моего отца. Секс в принципе был больной темой для поколения Второй мировой войны. Лицемерие современной жизни драматически обыгрывалось в актуальных пьесах Артура Миллера, Теннесси Уильямса, Уильяма Инджа и позже Эдварда Олби, а также в романах Джерома Дэвида Сэлинджера, Нормана Мейлера, Сола Беллоу, Филипа Рота, Джона Апдайка, Джеймса Джонса и других авторов. В мироздании Нью-Йорка второй половины 1960-х, как я понял с течением времени, разводы после долгих традиционных браков стали общепринятым и почти неизбежным вторым актом жизненной пьесы. Моя мать позже рассказывала мне, что она не обращала внимания на измены, однако к 1949 году, примерно тогда же, когда мыльный пузырь уверенности американцев в их монопольном обладании атомной бомбой лопнул благодаря усилиям Советов, баланс сил неожиданно резко изменился и в нашем доме, когда мой отец был застигнут с поличным. По ее уверениям, она сломала швабру об его спину, и они не на шутку подрались. В ход пошли экзальтированные и исступленные обвинения. За годы повторения истории со шваброй мама сакрализировала свой поступок до ранга протеста французской революционерки, разоблачающей предательство супругом ее и их брака. Если его бестактный обман так легко было вскрыть, значит, он был известен и посторонним, и ее унижение было публичным для них обоих. Жизнь не могла продолжаться как раньше. «Король умер…» Ее отвергли. Это был тяжелый удар, разбивший вдребезги ее американскую мечту. Обо всем этом я ничего не знал.
Как и многие в такой ситуации, она попыталась спасти положение рождением еще одного ребенка, которому были бы рады и мой отец, и я. Однако за вынашивание меня она расплатилась своим здоровьем. Однажды поздно ночью, когда мы гостили в доме в Ист-Хэмптоне, я услышал шум на первом этаже. Сквозь перила я наблюдал, как врачи увозят мою мать в больницу. Вслед за ней, как я помню, вынесли завернутый в одеяло окровавленный плод 5–6 месяцев. В последнем видении я не уверен, вся ситуация слишком напоминала фильм ужасов.
Мой отец продолжил свои похождения более осторожно, в то время как моя мать взяла на себя роль отважной героини. Скарлетт была отвергнута Реттом и извлекла максимум из этой ситуации. На лето она уезжала во Францию, иногда я составлял ей компанию, если меня не ждали в каком-то детском лагере с адаптированным индейским названием у страшно холодного озера где-нибудь в штате Мэн или северной части штата Нью-Йорк. Во Франции 1950-х годов мою мать принимали как кинозвезду. Она привозила с собой голубые джинсы, косметику и электронику, которые во Франции нельзя было купить. Мама оставляла меня у своих родителей в сельской местности к востоку от Парижа, а сама отправлялась гостить к своим друзьям побогаче в их загородные дома близ Парижа или уезжала на юг Франции, где получала свою дозу европейской чувственности и стиля, который с течением времени с учетом современных бытовых удобств из США превратился в новый международный стандарт элитарности.
Мои французские бабушка и дедушка были полной противоположностью моим маме и папе. Я несколько раз проводил у них лето. Мемé всегда казалась мне старой, грузной и душевной, как многие женщины, выросшие на рубеже веков. Она была приземленным человеком. Мемé часто прикладывала платок к ячменю на своем набрякшем, слезящемся веке, на мир она смотрела буквально вполглаза. Мемé постоянно о чем-то беспокоилась: о предстоящем ужине, запасах еды, денег и, если она не думала о своей дочери, сыне, или о ком-то из постояльцев, то беспокоилась о нас, своих внуках. «Quel souci!» – «Какая неприятность» – была ее вариантом «Ой вей![12]12
Идиш Oy vey, букв. «О горе!».
[Закрыть] Что же теперь!» Еще одна – нараспев произносимая «Oh la la! Qu'est ce qu'on va faire!» – «Ой-е-ей! Что мы будем делать?». Она всегда приберегала для нас что-то особое, одну или две «p'tit bonbons» – конфетки, которые были скрыты где-то в глубине ее огромного платяного шкафа. Это также могла быть жестяная баночка со сластями, или дорогой шоколад, или иногда хрустящие бумажные франки с напечатанными на них портретами писателей и военных – большие и яркие послевоенные купюры, делавшие нас счастливыми, – с ними мы могли отправиться в кино или за комиксами.
Поскольку места в их тесном доме в Париже было мало, мне как любимчику – «l'Américain», «американцу» – позволяли спать в постели Мемé и Пепé. Мемé рассказывала мне сказки про «le Loup», волка, который обитал на крышах Парижа, и, когда все засыпали, спускался по дымоходам, чтобы без ведома родителей утащить шаловливого ребенка из кроватки. Во Франции с волками связано много мифов. Считается, что волчьими стаями кишели леса в Средние века, да и сейчас поговаривали, что видели волков в больших лесах. Я всегда страшно пугался и хватался за Мемé, как Красная Шапочка в известной французской сказке. Помните, что обнаружила девочка в доме своей бабушки? Я приглядывался к Мемé. В темноте было сложно что-либо разглядеть, но ее рот абсолютно точно не был длинной мохнатой пастью со страшными острыми зубами. Это была всего лишь Мемé, мягкая улыбка которой всегда обнадеживала меня. Она прижимала меня к своей теплой груди. Любить Мемé было проще, чем любить мою мать, хотя бы потому, что Мемé всегда была рядом со мной, а мама… была замечательной, но вспыльчивой и непоследовательной.
Пепé, как и многие французы, не задумываясь, шлепал непослушных детей, однако когда ему перевалило за шестьдесят, чаще всего просто ворчал, как старая собака, греющаяся у огня. Он был любящим человеком, который, как я уже отмечал выше, рассказывал мне истории о Великой войне. Они принимали природу жизни стоически – и, по моим наблюдениям, так вело себя большинство французов. Они вдосталь хлебнули войны. Я постепенно проникся симпатией к пожилым людям за их безразличие к течению времени, моде и идеям. Это ключевое преимущество, которое дает нам возраст. Пепé стал лучше как человек благодаря Мемé, которая оставалась верной ему до конца их дней. Вместе они не уступали по крепости камню. Я только позже по жизни понял фразу, которую услышал в детстве: мужчина может позволить себе сбиться с пути, однако женщина должна быть стойкой в своей преданности. При отсутствии морального центра – а для него достаточно по крайней мере одного человека с принципами – не будет прочной семьи, а без семьи каждый из нас страдает. Эти тяжелые истины мне преподали мои родители, которых я горячо любил.
Когда я был ребенком, казалось, что детей из состоятельных семей отсылали в школы, церкви, лагеря, усаживали есть за отдельные столики и в другое время, чем взрослых. Детей воспитывали так, чтобы они были всегда на виду, но чтобы их не было слышно. Моя мать с ее нервным нравом могла быть такой же жесткой со мной, как когда-то ее отец был с ней – что и сформировало, на мой взгляд, ее сильный и непокорный характер. Это было в традициях французов: «une bonne gifle» – хорошая оплеуха или шлепок по заднице открытой жесткой ладонью, наэлектризованной гневом, позволял быстро утихомирить непослушного ребенка. Могли выкрикиваться сильные, эмоциональные выражения, но они перезапускали нашу систему без мучительной вины с обеих сторон. За эти годы моя мать несколько раз в бешенстве гонялась за мной по квартире, иногда со стеком для верховой езды в руках, чтобы показать мне, кто здесь главный. Однако мой отец не мог поднять на меня руку, но он позволял себе сурово отчитывать меня каждый раз, когда обнаруживал «C»[13]13
По шкале оценок в американских школах условно схожа с российскими «4-» или «3+».
[Закрыть] в моем табеле успеваемости.
Многие годы спустя мама рассказала моему сыну историю о том, как я в 8 лет пришел к ней со слезами на глазах: «Ты меня больше не любишь!»
«Почему ты так думаешь, любимый?» – спросила она.
«Потому что ты меня больше не шлепаешь».
Она пояснила моему сыну: «Понимаешь ли, детям нравятся, когда им делают замечания и объясняют, что правильно и что неправильно. Помни об этом – тебе это пригодится с твоими собственными детьми». Поскольку я был очень сильно привязан к маме, я скучал по ней и любил ее все больше и больше и всегда дожидался ее возвращения. Большим везением было провести время с ней, когда она возвращалась с какой-нибудь вечеринки где-то в первом-втором часу ночи и заглядывала ко мне, чтобы поцеловать меня на сон грядущий. Источая всепроникающую соблазнительную смесь духов и винных паров, она прижимала меня к себе – чувственная сцена пожелания спокойной ночи, которая повторяется во многих старых европейских фильмах, но которую я сейчас редко где вижу. Портрет Мадонны с младенцем. Моя мать была естественной и непринужденной во всем, в том числе в вопросах половых различий. Она прохаживалась обнаженной в своей спальне, и в детстве я часто видел ее в душе или на унитазе. Стыдиться было нечего. В конце концов, Франция была лишена столь многого в военные годы: хорошее мыло было редкостью, душ воспринимался как американская роскошь, равно как и замечательные унитазы со смывными бачками. Повсеместная близость стала привычной.
Моя мать рано осознала, что женщины – обычные человеческие существа, а не богини с огромными сиськами – искаженный образ, который многие мужчины сначала создают в своем воображении, а потом сами же им пленяются. У нее к этому было гораздо более здоровое отношение, чем в англоязычных культурах с их подавленными эмоциями. Не скрою, ее «сексуальные» манеры, возможно, взрастили во мне тайное влечение к моей матери. Но привело ли оно к искажению моих ценностей? Может быть, я любил ее слишком сильно, но я предпочту такую судьбу тому холодку и налету отчетливой неприязни или недоверия, которое я замечаю в некоторых мужчинах. Она также никогда не была одной из тех мегер, которых мы видим в пьесах Теннесси Уильямса – пресекающей мужское начало, властной, громкой. Да, она была эгоистичной и склонной к позерству, иногда – страстной и суровой, но всегда любящей. «Я тебя наказываю, но я люблю тебя» звучит гуманно для меня. «Я тебя наказываю, потому что я тебя люблю» – нет.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































