Текст книги "В погоне за светом. О жизни и работе над фильмами «Взвод», «Полуночный экспресс», «Лицо со шрамом», «Сальвадор»"
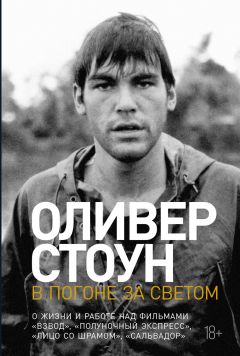
Автор книги: Оливер Стоун
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Мои актерские попытки были посредственными и слишком завязанными на мыслях. Я не мог освободиться от собственных оков, дать себе оторваться от земли, подобно птице, быть свободным! Мне как-то досталась напыщенная роль Томаса Бекета, за исполнение которой моя преподавательница русского происхождения неизменно ругала меня. Однажды я принял ЛСД, пришел в аудиторию и выжал максимум из роли этого архиепископа XII века. Моя учительница с жаром рукоплескала мне и сказала, что я наконец-то пришел к пониманию роли, похвалив меня перед классом. А я, будучи под ЛСД, абсолютно не понял, что именно я сделал. Я просто сделал это. Но мог бы я повторить это выступление? Как это сделать, я абсолютно не знал.
Изучать Чехова, искать вдохновение, опираясь на воспоминания о личных проблемах – казалось скучным и мелким занятием на той стадии моей жизни. Я хотел действовать. Мне нужны были активная жизнь, как у Джима Моррисона, женщины, секс. Сэм Пекинпа стал моим кумиром в США, а во Франции – раскованный Жан-Люк Годар, поскольку он понимал значение секса и насилия в кинематографе. В «Безумном Пьеро» (1965 г.) он сделал монтаж из 8–10 кадров: горящие спички, пистолет, пьяный американский офицер, французская цыпочка в шляпе на вьетнамский манер[33]33
Имеется в виду бамбуковая или соломенная шляпа конической формы.
[Закрыть], тигр и еще что-то. Весь визуальный ряд сопровождается грохотом стрельбы американской артиллерии. Эффект был совершенно поразительным – вы совершали метафорическое путешествие во Вьетнам. Годар сделал для современного кинематографа то же самое, что Сергей Эйзенштейн сделал для немого кино. В свою очередь, Луис Бунюэль в том же духе вывернул наизнанку сцену обычного званого ужина, как в «Скромном обаянии буржуазии» (1972 г.), чтобы одновременно в качестве участника и наблюдателя показать с психоделической ясностью безумство и иррациональность такого образа жизни, который, как бы мы ни пытались, вмешивается в наши планы. Чтобы вы окончательно поняли смысл эпизода, Бунюэль еще поднимает занавес, за которым обнаруживается смеющаяся над званым ужином аудитория. Я писал сценарии подобного толка. Я не принимал реализм и здравомыслие Чехова, Артура Миллера, Теннесси Уильямса и Эдварда Олби (хотя последнего я ценил и даже писал по нему доклад в школе-интернате). Я не хотел их реалистичности. Я только что вернулся из Вьетнама, где все протекало невероятно интенсивно, настолько отличалось от обыденных человеческих отношений, что гражданская жизнь казалась мне каким-то мелким фарсом. Люди бегали из стороны в сторону, беспокоясь о своих карьерах, деньгах, любовных делах. Да какая разница! Я был настоящим анархистом на том этапе жизни.
Хотя я знакомился со множеством женщин моего возраста и спал с некоторыми из них, я был им чужд, а некоторые из них в моих глазах выглядели психопатками, абсолютно безбашенными и невротичными, поэтому я предпочитал женщин постарше. К примеру, сидишь ты наедине с девушкой, вы оба подаете друг другу правильные сигналы. Вы особо друг друга не знаете, но ты должен взять инициативу в свои руки, поскольку ты парень. Ты обнимаешь и целуешь ее, и вдруг – «щелк», приехали, просто потому, что «хочу ли я на самом деле быть с этим парнем?» Многие женщины проецируют это чувство сомнения, и постепенно ты начинаешь ощущать его и чувствовать себя чертовски виноватым, типа «Вау, я что ли слишком напорист? Не боится ли она, что я попытаюсь ее изнасиловать?»
Прежде чем ты успеешь подумать что-то еще, дальше – больше: «Кто этот парень? Мне некомфортно».
И далее в том же духе. Всех охватывает паранойя, и даже если девушка больше под кайфом, чем ты, с криками «Уйди! Оставь меня в покое!» она выбегает на улицу мегаполиса, где может и погибнуть. Один раз девушка прокричала мне: «Нет, нет, нет! Я не хочу жить! Не хочу жить!» Безумные, экзальтированные фразы или, как пел Джим Моррисон, «причудливые сцены на золотом прииске». Да, в Нью-Йорке вас ждет знакомство со странными людьми.
People are strange when you're a stranger.
Люди чужие, когда их не знаешь.
Faces look ugly when you're alone.
Лица пугают, когда ты один.[34]34
Эквиритмический перевод – Марат Джумагазиев. Неэквиритмический перевод этих строк: «Люди странные, когда ты незнакомец. Лица выглядят уродливо, когда ты один».
[Закрыть]
Бывший одноклассник предположил, что я могу поучиться в киношколе и получить диплом колледжа. Диплом за что – «за походы в кино»? Это звучало нелепо, поскольку у меня, как и у большинства американцев, никогда не было проблем с тем, чтобы сходить в кинотеатр. Итак, по прошествии почти года с момента моего возвращения, осенью 1969 года, я поступил в Школу искусств при Нью-Йоркском университете – без какой-либо определенной цели, а просто потому что в этом что-то было. К тому же, около 80 % стоимости обучения оплачивалось по GI Bill[35]35
Закон 1944 г., полное название – Servicemen's Readjustment Act или Закон об адаптации военнослужащих к мирной жизни.
[Закрыть]. Я смотрел множество фильмов и прошел курс продакшна, в рамках которого каждый из учащихся поработал режиссером-сценаристом, оператором-постановщиком, монтажером и актером, снимаясь на 16-миллиметровую кинопленку в черно-белых короткометражках продолжительностью от одной до пяти минут. Наши преподаватели были увлеченными и серьезными людьми: Хейг Манукян – их лидер, мудрый и человечный 53-летний интеллектуал, выросший на улицах Нью-Йорка, всегда носивший маленькую шляпу порк-пай[36]36
Шляпа с круглой плоской тульей и загнутыми кверху полями в форме пирога со свининой, откуда она и получила свое название. Читатель, возможно, вспомнит аналогичную шляпу у главного героя телесериала «Во все тяжкие».
[Закрыть]; руководитель программы Дэвид Оппенгейм – величественно выглядящий служитель муз; Чарли Милн – эксцентричный искатель дзен, соблюдавший день безмолвия раз в неделю, – заведовал отделом ценного оборудования, следя за тем, чтобы у всех нас был равный доступ к нему. И Мартин Скорсезе[37]37
Далее по тексту автор предпочитает называть режиссера «Марти».
[Закрыть], звездный выпускник Нью-Йоркского университета, которому тогда еще не было тридцати. Он уже снял несколько известных короткометражных фильмов и в тот момент переживал творческие муки на различных этапах создания малобюджетного полнометражного фильма «Кто стучится в мою дверь?» Вскоре он снимет «Злые улицы», которые станут его входным билетом в Голливуд. Марти тогда выделялся достигавшими плеч жирными волосами и очень быстрым, пронзительным и нервозным нью-йоркским говором. На утренние занятия он обычно приходил совсем никакой, поскольку он иногда всю ночь напролет смотрел старые фильмы, которые крутили по телевидению. В те дни, когда еще не было видеокассет, в Нью-Йорке имелось лишь ограниченное число репертуарных кинотеатров. Я никогда не забуду его спонтанную лекцию по поводу величия экспрессионистского безумия Джозефа фон Штернберга в «Распутной императрице»[38]38
The Scarlet Empress (более близкий к оригиналу перевод – «Алая императрица»). Отметим, что фильм посвящен жизни Екатерины II.
[Закрыть] (1934 г.) с Марлен Дитрих. Марти боготворил кинематограф столь же ревностно, как любил Бога молодой герой «Дневника сельского священника» Робера Брессона (1951 г.). На занятиях Марти было весело, они проходили под безостановочный пулеметный диалог с классом при полном отсутствии условностей. В то же время он понимал, за какой приз для посвященных мы все боремся и что лишь некоторые из его студентов добьются успеха. Я точно помню, что осознавал это, возможно, потому, что я был старше большей части моих сокурсников.
В Нью-Йоркском университете ощущалось инстинктивное недоверие к людям, которые ранее служили в армии и бывали «там». Я редко сам признавался в том, что я служил. Однако некоторые люди все-таки догадывались. Нам были не рады здесь. Это висело в воздухе. Даже по их взглядам я понимал, что мы порознь. Убивал ли я во Вьетнаме? У меня был неясный страх перед этим вопросом. Большинство студентов оказались левого толка: радикалы, марксисты, анархисты. А некоторые просто хотели заработать денег в рекламном бизнесе или где-то еще. Это был Нью-Йорк, и их реакции по большей части оправдывались тем, что позже назовут политической корректностью, а их подозрения в отношении меня не учитывали того, через что я прошел во Вьетнаме.
Найва Саркис была изумительной ливанкой с оливковой кожей и безупречным, немного высокомерным британским акцентом. Хотя она была воспитана в христианских традициях, ее лику было впору украшать финикийскую вазу IV века до нашей эры, поэтому я игнорировал ее акцент. Я познакомился с ней на вечеринке в Верхнем Манхэттене, на которую меня пригласила мать. В рваных джинсах, я был под кайфом, заносчив и изображал безразличие. Я ее заинтриговал, поскольку сильно отличался от цивилизованной массы, к которой она привыкла. Что принципиально, она примет меня таким, каким я был: зверем из джунглей, опасным для себя самого, а потенциально – и для нее. Все, что я хотел заполучить, – ее теплое смуглое средиземноморское тело. Это море было и в моей крови: через связь с Францией и через Одиссея. Когда мы в первый раз занялись любовью, весь этот претенциозный нью-йоркский лоск испарился вмиг. Срывая одежду, мы вцепились друг в друга, как две сорвавшиеся с цепи собаки. Ей было 28, а мне 23. Она была здравомыслящей женщиной, нашедшей свое место в мире. Она работала главным помощником представителя Марокко в ООН, имела приличную зарплату и квартиру с фиксированной арендной платой на 50-й Восточной улице. Она была никак не связана со мной, моим отцом, моей матерью, Нью-Йоркским университетом и всем, что было в моем прошлом. Она была самостоятельным игроком. Доверяя мне и любя меня, она позволила мне постепенно войти в роль человека, свыкшегося с обычаями нью-йоркского общества образца 1969–1975 годов.
Через какое-то время по ее предложению я переехал из своей дыры в ее квартиру. Все еще случались всякие несуразности. Гуляем мы с Найвой средь бела дня по пешеходной дорожке. Вдруг – громкий хлопок от машины. И вот я уже лежу на тротуаре. Найва была в сравнении со мной медлительной: она спокойно поворачивалась в поисках источника звука, а затем обратно, удивляясь, куда я мог деться. Ей потребовалось некоторое время, чтобы понять, насколько сильно контролировали меня мои инстинкты и страхи.
В киношколе эта особенность была мне на пользу. Я начинал овладевать настоящим мастерством. Учился я в киношколе не писательству. Оно было частью моей жизни, одним из моих самых ранних воспоминаний. Примерно с 7 лет, каждую неделю мой отец задавал мне темы сочинений. В обмен на сочинение я получал 25 центов. Это была неплохая идея. Такое занятие не вызывало во мне желание писать, но, так как я хотел получить деньги, я потихоньку воспринял тот импульс к литераторству, который папа прививал мне. Много позже я понял, что это навык, который я могу использовать, чтобы заработать гораздо больше денег, чем мой отец или я могли бы представить себе. Папа говорил: «Я дам тебе четвертак, мой мальчик. Пиши, о чем угодно. Две-три страницы, просто расскажи о чем-то. К субботе успеешь?» Свой замечательный дар рассказчика папа проявлял, укладывая меня в детстве спать. На 25 центов в начале 1950-х годов можно было купить гамбургер или комикс из серии Classic Comics: «Роб Рой», «Граф Монте-Кристо», «Айвенго», «Одиссея», «Повесть о двух городах» – все они будоражили мое воображение, как это и свойственно классическим романам. На моей памяти, Джейн Остин и Генри Джеймса не иллюстрировали. Я написал несколько историй по мотивам фильмов об индейских войнах, которые я смотрел. Там, конечно, было много крови, но тогда в американской культуре это считалось нормальным. Можно было живописать убийство, а еще лучше – резню. Это в равной мере касалось денег. Деньги означали силу. Таким образом дети быстрее всего усваивают значение силы.
Папа также периодически брал меня в кино на хорошие фильмы или по крайней мере фильмы, которые он хотел увидеть, например, «Тропы славы» Кубрика (1957 г.) или его любимый «Мост через реку Квай» Дэвида Лина (1957 г.). Ему не особенно нравился «В порту» Элиа Казана (1954 г.) из-за постоянного «бормотания» Марлона Брандо, которое тогда еще было исключением из правила, хотя теперь это в порядке вещей. Однако даже в 9-летнем возрасте я понимал, что «В порту» – особый фильм, который установил новый стандарт реалистичности. Картина демонстрировала, что жизнь в моем родном городе была суровой и пугающей. Когда мы выходили из кинотеатра, отец всегда спрашивал меня: «Ну, что думаешь, сынок?» Я отвечал что-то типа «Мне очень (не) понравилось». Он же замечал: «Но заметил ли ты, что [вот это] было неправильно, и потому, что вот это произошло, [вот то] теряло смысл?» Я спрашивал: «Почему [это] [то] потеряло смысл?» И мы начинали разбирать, что имело смысл в фильме, как будто анализировали шахматную игру. Мой папа был логичным человеком, и в конечном счете он улыбался и замечал, что «у нас бы точно лучше получилось». Хотя мы оба не осознавали этого, он первым подтолкнул меня к мысли стать сценаристом.
Киношкола была принципиально новым опытом. Я уже повидал во Вьетнаме жизнь без прикрас, и это выработало у меня определенного рода дикость, первобытные инстинкты, которые, как подсказывала мне интуиция, нужно было пустить в ход. Почувствовать. Услышать. Все, что только можно! Превыше всего – 6-дюймовый экран перед моим лицом. Мои чувства теперь были завязаны на этой новой штуковине – 16-миллиметровой пленочной камере, будь то Bolex, Arriflex, Éclair – камере любой марки, которая мне доставалась из хранилища киношколы. Эта камера становилась моими глазами и ушами и фиксировала все вокруг меня. Мои глаза стали вездесущими и беспокойными в джунглях, способными видеть панораму мира на 360°. Мои уши были настроены на восприятие самого незначительного звукового колебания. Ты должен раствориться в джунглях, пахнуть как джунгли, видеть их насквозь. Ты становишься как змея, ползущая по опавшей листве, или как огромный паук, плетущий свою 10-метровую паутину в первозданном лесу. Ты должен быть настороже все время, чтобы выжить в самом примитивном значении этого слова. Иными словами, ты – камера, и ты как камера фиксируешь все это время и пространство (даже если они самые что ни на есть обыденные) и дерешь их по полной. Ты проникаешь в эту реальность всеми своими чувствами, но в первую очередь – глазами. Ты создаешь исключительно инстинктивно что-то свежее и новое на кинопленке. Для меня это было круто.
Равным образом я никогда не бросал и не воспринимал как само собой разумеющееся мое стремление к писательству. Я был одним из небольшого числа студентов с отделения продакшна, постоянно посещавших в течение двух лет сценарные курсы, которые в Нью-Йоркском университете, как это ни удивительно, были факультативными. Европейская «Новая волна» уничтожила всякое почтение к профессии сценариста, и профессии сценариста и режиссера считались двумя абсолютно разными родами занятий. Сценаристы воспринимались как мрачные пресмыкающиеся существа, обитающие за кулисами, а кинематографисты – как энергичные, бойкие креативщики на передовой, творящие совместно с актерами прямо в дни съемок. Киносценарии же были, скорее, сценарными планами. Сделав несколько попыток в этом направлении, я понял, что это совершенно не работает. Разумеется, с течением времени киносценарий вновь стал равноправной, а возможно, и наиболее важной частью мира кино.
За те два года я пересмотрел через новую призму восприятия множество фильмов, старясь как можно больше узнать о том, как создавать кино. Один из базовых принципов съемок фильма – поймать свет. Без света у тебя фактически нет ничего, нет различимой экспозиции. Даже то, что вы видите невооруженным взглядом, нуждается в свете, чтобы обрести форму и выделиться на общем фоне. Зимние дни в Нью-Йорке коротки, и когда солнце начинает клониться к закату, ускоряешься, чтобы успеть сделать последние нужные тебе кадры, потому что не можешь себе позволить ни искусственное освещение, ни возвращение на место съемки еще на один день. Такие обстоятельства сопровождали меня всю мою карьеру, даже на самых высокобюджетных фильмах. Каждый день я осознавал, что гонюсь за солнцем. Я бежал за ним от первых кадров до перерыва на обед, избегая по возможности уродующего все полуденного солнца, и предпочитая репетировать и сделать все возможное, чтобы поймать дневное освещение с 16 до 18 или 19 часов. Это была извечная проблема работы в определенном темпе, чтобы снять все кадры, которые мне требуются. Допустим, у меня в монтажном списке обозначено 18 кадров за день, а к 15 часам, в ходе съемочного процесса, я осознаю, что мне достаточно 12 или даже 9 кадров. Я хочу сказать, что мои лучшие или по крайней мере самые нужные кадры я снимал за последние час-два. «Что вам нужно, чтобы понять данную сцену? Знать не то, что вы "хотите", а то, что вам конкретно необходимо!» Вот мантра, которую мы все повторяли. Марти как-то привел на занятия Джона Кассаветиса, режиссера «Теней», а теперь и «Мужей», который снял их, уложившись в традиционные для Нью-Йорка небольшие бюджеты. Это был приятный и открытый человек, которого мы все глубоко уважали за его независимость. Он призывал нас осознать наши мотивы – что нам нужно – в создании фильмов. Чтобы показать нам, что он имеет в виду, он проводил с нами актерские упражнения, выбирал для нас разные роли, а мы импровизировали. «Как актеры не тратьте время, сразу переходите к сути. Что вам необходимо от вашего партнера в этой сцене? Одобрение? Деньги? Секс? Любовь? Что?» Вот что я называю личным подходом. Он в буквальном смысле жертвовал своим здоровьем ради кино.
Ближе к концу первого года обучения я снял короткометражный фильм: «Последний год во Вьетнаме». В нем не было диалогов. Снимал я его на грубую 16-миллиметровую черно-белую кинопленку с отдельными переходами на 8-миллиметровые цветные вставки. Цветные эпизоды должны были изображать вьетнамские джунгли, вступающие в контраст с черно-белой зимой на бетонных улицах Нью-Йорка. Это решение сработало, поскольку я представлял живущего в одиночестве молодого ветерана, все еще пытающегося привыкнуть к гражданской жизни. Герой просыпается пасмурным утром. В моем исполнении персонаж создавал ощущение неуверенности и потерянности. Он спонтанно собирает в сумку все свои памятные вещи, медали и фотографии. Все более усиливается впечатление, что у него были проблемы в прошлом. Фотографии из Вьетнама были моими первыми маленькими шажками в мир кино. Я купил фотоаппарат Pentax в магазине на нашей базе. Я убирал его в непромокаемый пластиковый пакет. Фотографии были единственной возможностью сохранить воспоминания. Писать же на бумаге было бессмысленно из-за постоянных дождей в джунглях.
Молодой ветеран ныряет в подземку в Нижнем Манхэттене. Он шагает в такт своей трости. Его нога была повреждена такой же шрапнелью, которая свалила меня при втором ранении. Герой садится на паром Staten Island Ferry. Оказавшись в Нижнем Нью-Йоркском заливе, он под громко звучащую в его сознании музыку из «В Средней Азии» Бородина погружается в свое сознание и в буквальном смысле выбрасывает полный воспоминаний мешок в бурлящий кильватерный след. Он очистился от прошлого. Чтобы усилить эффект, я наложил на картинку интеллигентный голос Найвы, читавшей ровным голосом по-французски отрывок из «Путешествия на край ночи» Луи Фердинанда Селина – дополнительное свидетельство изгнания боли, которую ощущает молодой герой. Эта вставка звучала бессмысленно, но она оказалась неожиданно мощной. Прошли 11 напряженных минут, и проектор отключился. В установившейся тишине я приготовился к обычным саркастическим ремаркам в духе «самокритики» китайской культурной революции, когда никого не щадили. Что же скажут мои однокурсники?
Никто еще ничего не сказал. Каждое слово приобретает особое значение в такие моменты. Скорсезе пресек любую дискуссию, просто сказав: «Перед нами режиссер». Я никогда не забуду это. «Почему? Потому что это личная история. Ощущаешь, что человек, который сделал этот фильм, прожил его, – пояснил он. – Вот почему важно оставаться с этими личными ощущениями, делать фильм своим». Никто не стал брюзжать. Не последовало даже обычной критики по поводу странного монтажа, проблем со звуком – ничего. В каком-то смысле, это был мой первый выход на публику. Первое утверждение моей личности… за многие годы. Этот фильм стал моей дипломной работой.
«Личное» Марти было завязано на яркой итало-американской субкультуре бандитского братства и смертельного насилия. Мое же «личное» было связано с моим взрослением в обеспеченной консервативной Америке и ее противоположности в виде сокрушительного безумия и жестокости Вьетнама. Однако пройдет еще много времени, прежде чем мое видение мира достигнет зрелости и проявит себя.
Я снял еще два более продолжительных фильма, но ни один из них не был запоминающимся. Черно-белые кадры, натужный символизм, перегруженный деталями сюжет, своего рода хулиганская дань уважения Орсону Уэллсу, Жан-Люку Годару и Алену Рене. Я доказал себе, что справляюсь в плане техники с более сложными съемками и живым звуком, ночи напролет я проводил в монтажных. Однако в конечном счете ничего глубокого там не было. Впрочем, я извлек из этого урок – нельзя вымучивать из себя повествование. Нельзя затолкать квадратный колышек в круглое отверстие со словами «Сойдет!». Мои новые фильмы никого не тронули во время показа в аудитории.
Когда Никсон под предлогом необходимости закончить боевые действия вторгся в Камбоджу в апреле 1970 года, через 18 месяцев после избрания на пост президента, студенты, да и большая часть населения, продемонстрировали беспрецедентное для этого поколения неистовство. Был случай, когда демонстранты, плотно забив улочки, прошли прямо под окнами квартиры Найвы, расположенной на втором этаже нашего дома. Они скандировали и несли свечи над головами. Это было торжественное и красивое зрелище. Однако я не был ни с ними, ни против них. «Да пошли вы! Я уже отбыл там свой срок, я не должен ни перед кем извиняться!» Таков был образ моих мыслей. И я не помню, чтобы разделял общий гнев по поводу стрельбы, открытой запаниковавшей Национальной гвардией в Кентском университете в мае того же года. Погибли четыре студента, еще девять были ранены. Состоятельные родители пострадавших были в бешенстве. Никсон зашел слишком далеко, но отказывался отступить. Все это было очень захватывающе. В воздухе пахло революцией. Я снимал материалы для коллектива, который мы образовали под руководством Скорсезе («Уличные сцены», 1970 г.), но отсутствовал, когда строители атаковали одну из наших студенческих съемочных групп на Уолл-стрит. По всей видимости, нападавших науськивали отморозки из близкого окружения Никсона. Две наши дорогие камеры и значительная часть оборудования были уничтожены.
На фоне этого общенационального хаоса из многих университетов выгоняли профессоров, будто бы мы переживали китайскую культурную революцию. Студенты отобрали киношколу у взрослых, «освободили» комнаты от оборудования, сформировали революционные комитеты, где всем заправляли парни и девушки из «Черных пантер», и после многочисленных обсуждений, полных трескучей риторики, провозгласили, что туалеты – унисекс-пространство. После недели «оккупации» был практически полностью разгромлен весь восьмой этаж школы, в чем я усматривал печальную кульминацию испорченных представлений американцев о революции без дисциплины. Каждый хотел стать генералом. У киношколы ушло довольно много времени и значительные финансовые средства на то, чтобы оправиться после всех разрушений. Ничего хорошего, кроме неистовства, не вышло из этого безумия. Мне следовало бы быть вместе со студентами, но я полагал, что они не готовы к чему-то серьезному, к тому же у них напрочь отсутствовала дисциплина, а уж если бороться с ублюдками, то надо быть готовыми к крови. Нужно быть безжалостными. С другой стороны, какими бы организованными ни выглядели «Пантеры», многие из них были обыкновенными расистами, которые далеко не ушли бы, перерезав всех белых.
Праздновать особо было нечего по окончании киношколы в мае 1971 года. Меня не ждала работа, а моими наработками тем более никто не интересовался. Диплом бакалавра изящных искусств ничего не значил – очередное настенное украшение, подобно моей Бронзовой звезде. У меня не было иллюзий. Несколько человек из нашего класса водили такси – самая стабильная подработка, которую я смог найти. Я трудился в ночную смену с 18 до 2–3 часов, что давало мне возможность днем писать киносценарии. С учетом чаевых я зарабатывал примерно $30–40 за ночь – нормальные деньги для того времени. С учетом зарплаты Найвы и фиксированной арендной платы за ее квартиру на жизнь нам хватало.
Я никогда не забуду ощущение опустошенности, с которым я возвращался через город домой от таксопарка в 2–3 часа утра. Автобусы в такое время – редкое явление. Одежды на мне было немного: свитер, армейская тропическая куртка и тонкие джинсы, которые не могли защитить меня от свирепых порывов холодного ветра с реки Гудзон, дующего вдоль высоченных стен нью-йоркского каньона. Можно было сдохнуть от переохлаждения прямо посреди пустой улицы, и всем было бы все равно, по крайней мере в это время суток. Под стук своих зубов я считал кварталы до квартиры Найвы – моего маленького убежища посреди большого мира. После подобной 45-минутной прогулки в обнимку с ветром я наконец-то добирался до дома, изрядно замерзнув. Меня еще несколько минут не отпускал озноб. Я тихонько забирался в кровать и обнимал ее теплое, как тостер, тело (тостом был я). Она ворочалась, и иногда мы молча занимались любовью в темноте.
Найва искала путь к моему сердцу. Когда наши отношения начали становиться серьезными, она сходила к своему гинекологу, который рекомендовал отправиться к доктору и мне. Вердикт врача из больницы при медицинской школе Нью-Йоркского университета стал неожиданно болезненным. Доктор сказал, что у меня никогда не будет детей из-за слишком малого количества сперматозоидов, и он не видел нужды разбираться в причинах. Впрочем, чего я ожидал? Если бы я в 1950-х годах посетил психушку с вопросами о депрессии, мне бы, естественно, сразу же предложили бы лоботомию. Имелся ли выход из моей ситуации? В принципе, нет. Мне было трудно поверить, что этот диагноз окончателен, но я принял его. Да, я был подавлен этой новостью. «Никогда не будет детей». Звучит как что-то из оруэлловского «1984». По всей видимости, бедам моей матери, которая смогла с трудом родить одного ребенка, предстояло продолжиться и в моем поколении. Я видел причину в тяжелых родах с помощью акушерских щипцов, или в операции, которую я перенес в 6 лет, мне преподносили ее как аппендэктомию, но в действительности это было удаление неопустившегося яичка.
Но была еще другая возможная причина этой ситуации: Вьетнам. Я впервые соотнес использовавшееся там химическое оружие с газовыми атаками времен Первой мировой войны, о которых рассказывал мне Пепé. Во Вьетнаме мы в больших количествах использовали агент «оранж»[39]39
Смесь дефолиантов и гербицидов, которую американские войска применяли во Вьетнаме для уничтожения растительности джунглей.
[Закрыть] производства Dow Chemical, который серьезно подорвал генофонд вьетнамцев и отравил их земли. Мы часто патрулировали в обработанных «оранжем» районах и ни о чем не волновались. То, что агент «оранж» имел побочные последствия для здоровья, тогда только становилось предметом исследований. Какая поразительная сделка с судьбой: как пехотинец я сохранил свою жизнь в обмен на уничтоженное будущее. Я сходил к еще одному врачу, чтобы услышать вторую точку зрения, но прогноз был все тот же. Мой отец воспринял известие стоически, а моя мать уверяла, что все это бредни и что у меня когда-нибудь будет ребенок. Она ведь была суеверной и всегда меня поддерживала.
И самое важное – Найву, похоже, это совсем не беспокоило, что навело меня на мысль о ее возможном нежелании иметь собственных детей. Не то чтобы мы могли их себе позволить, но в любом случае Найва быстро приспособилась к новым реалиям и в дальнейшем редко говорила о детях. Это заставило меня поверить в то, что наибольшее удовлетворение она получала от своей дипломатической работы и крепких связей со своей большой семьей в Ливане, особенно в качестве любящей тети и сестры.
Чего Найва хотела по прошествии почти года совместной жизни – так это пожениться. Она откровенно призналась мне, что в противном случае нам лучше расстаться. Она не могла продолжать жить в условиях неопределенности. Не имея каких-либо будущих перспектив, подобно самураю из фильма Куросавы, оставшемуся без господина, я согласился на брак, хотя все еще был слишком молод, чтобы осознать последствия этого решения. Мы устроили небольшую гражданскую церемонию в мэрии в присутствии ее любимого начальника-посла, его жены, моей матери, преисполненной надежд, и моего отца, настроенного скептически. Несмотря на то, что Найва маме нравилась, она понимала, что моя новоиспеченная супруга не та, «единственная». Ну а папа видел в ней своего рода очередную остановку на пути к той преисподней, куда я направлялся.
Со временем я стал чувствовать себя комфортнее. Моя жесткость смягчилась. Мои клыки притупились. Я не могу сказать, что для меня наш брак был основан на любви, скорее – на чувстве комфорта и взаимной заботе. Я был очень счастлив значительную часть моей жизни провести совместно с этой утонченной женщиной, которая отличалась цельностью и большей зрелостью, чем я. Она высоко ценила трудовую этику. У меня в год получалось примерно по два оригинальных сценария, не считая литературных обработок. Помимо вождения такси, у меня были подработки в качестве ассистента продюсера на различных проектах. Самым большим прорывом стала работа с Cannon Films, передовой независимой киностудией Нью-Йорка (именно они выпустили «Джо»). Cannon Films собиралась снимать комедию с большим бюджетом. Руководил проектом звездный режиссер студии Джон Эвилдсен (позже он снимет «Рокки»). В первый день у меня было простое задание: свозить актера на машине на примерку и в другие места. Без проблем. Я забрал его, и мы начали продираться сквозь нью-йоркские пробки. Он позволил себе несколько острот по поводу фильма. У меня сложилось впечатление, что в качестве стендап-комика он изображал типичного высокомерного нью-йоркца. По всей видимости, он привык к тому, что его шутки вызывают смех, но я не находил его особенно смешным, скорее несносным. Рабочий день закончился, я высадил его, а через час меня уволили. Что я натворил такого? Продюсер сообщил мне, что я, оказывается, целый день развозил на машине чертову звезду фильма – Джеки Мейсона, которого вывело из себя то, что я его не только не узнал, но даже не слышал о нем. Это было мое жесткое первое впечатление от киноиндустрии. Впрочем, меня абсолютно не удивило, что фильм «Стукач» (первая главная роль Мейсона в кино) превысил свой бюджет, по-видимому, из-за сумасбродства комика, и практически не попал в прокат. И без того бедствующая Cannon Films потеряла на этом много денег.
Наконец, с помощью одного из друзей Найвы, основателя крупной автотранспортной компании, мы с двумя молодыми продюсерами договорились о съемках малобюджетного фильма неподалеку от Монреаля.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































