Текст книги "Бархатная кибитка"
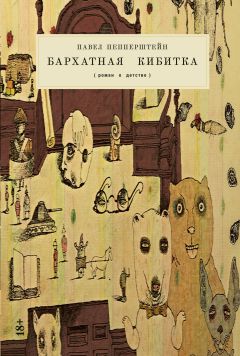
Автор книги: Павел Пепперштейн
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Глава двадцать первая
Животные
В возрасте от четырех до семи лет я жил у бабушки с дедушкой на Пресне, в большом, сером сталинском доме поблизости от Зоопарка. Это соседство наложило столь существенную печать на мое сознание, что я до сих пор считаю себя зоопарковским парнем.
В полумладенчестве я прошел странную инициацию – был укушен ламой. В ясный зимний день меня в очередной раз повели гулять в Зоопарк (в те годы я так часто бродил по этой заколдованной территории, что считал ее своими личными угодьями). Засмотревшись на ламу, которая стояла так близко от меня, сразу за прутьями ограды, я возжелал погладить ее встревоженно-горделивую мордочку и ради этого просунул свою неопытную руку сквозь прутья. Но лама, видимо, подумала, что ей протягивают нечто съедобное, некое лакомство, которое могло бы развеять ее гастрономическую скуку. Чтобы там ни подумала эта лама (кажется, она тоже была не вполне взрослой), но она совершила кусательное действие в отношении моей руки, а поскольку природа наделила ее большими и крепкими зубами, следовательно, эффект был ощутим. Впрочем, я не помню боли, зато помню яркую ленту крови, которая кинематографично хлынула на белый снег. Меня сразу же отвели в специальный медицинский домик, имеющийся на территории зоопарка, и там опять же не помню, что происходило, – запомнил только чубатое личико ламы и кровь на снегу. Blood on the Snow.
Животные – это всполохи, бросающие полоски света в глубину неосвещенных и пушистых пространств! Животные – это жалюзи! Какова связь между жалюзи и ревностью? Какова связь между ревностью и верностью? Среди животных верны лишь собаки, и людям хотелось бы, чтобы все животные были собаками. Но собаки – это миноритарная группировка экзальтированных сектантов. Собаки – это нечто, называемое силуэтами любви – посапывающие, потявкивающие, нетерпеливые и в то же время бесконечно терпеливые силуэты любви.
Но а что если перед иудеохристианской мыслью поставить задачу: сложить воедино всех зверей? Что получится? Никак не собака, конечно. Собака никогда не бывает суммой, она не бывает консенсусом, она не компромисс, но эксцесс. А что получится, если сложить воедино всех зверей? Какой нарисуется силуэт? Ветхозаветное предание утверждает: нарисуется силуэт кита, а еще вернее – бегемота. Еврейское слово «бегемот» означает животных, в плюрале.
В глубине смысла лежит это животное (немцы называют его Nilpferd – «нильская лошадь»), выставив из ряски лишь глаза. То есть бегемот – это в некотором символическом смысле «все животные». И в этом отношении он находится в символическом родстве с Левиафаном. Кит и бегемот – аргументы Бога. И в этом качестве они, как некие грандиозные образы, возникают в ветхозаветной Книге Иова. На жалобы Иова, на его крик о несправедливости ветхозаветный Бог отвечает подробными и чрезвычайно поэтизированными описаниями Кита и Бегемота.
В этом же контексте следует воспринимать бессмертные строки Корнея Чуковского:
Ох, и трудная это работа –
Из болота тащить бегемота…
Бегемота сложно извлечь на поверхность, хотя целая вереница животных впрягается в это дело. Но его непросто вытянуть из глубины, ведь, вытаскивая его, они вытаскивают из непрозрачной бездны свое собственное совокупное означающее. Они обнажают свое потаенное единство, свою животную тайну. Животные – это граница, и все топчущиеся на этой границе становятся пограничниками. Скотоводы, мясники, ветеринары, охотники, кавалеристы, юные натуралисты, жокеи, активисты Green Peace, работники зоопарков, доярки, рыбаки, художники-анималисты, циркачи, зоологи, энтомологи, орнитологи, повара, собачьи парикмахеры, язычники, дрессировщики, грумы, строители скворечников, китобои, сокольничие, устроители тараканьих бегов – все они сливаются в тревожной фигуре пограничника, разорванного изнутри глубочайшим смущением.
Моим первым личным животным стала черепаха. Это и логично: по мнению некоторых ученых, на черепахе зиждется мироздание. Черепаху звали Дуня. Характером она обладала ровным, выдержанным, нордическим, можно даже сказать, флегматичным – такое не редкость среди черепах. Возможно, и в этих панцирных рядах встречаются горячие головушки, но Дуня к их числу не принадлежала. И все же в ней теплилось некое бунтарское начало. В летние дачные дни я выносил ее попастись на травке (Дуня любила одуванчики), а чтоб она не убежала, я накрывал ее решетом – архаического вида берестяная конструкция, долетевшая до моих дней из баснословного аграрного прошлого. Однажды Дуня опрокинула решето, вырвалась на свободу и ушла куда-то. Больше я ее не видел, но много недель после ее бегства я терзался мучительными волнениями, думая о том, как сложилась ее судьба: жива ли она, здорова ли, не стала ли жертвой неведомых хищников? Где шагают ее неуклюжие ноги с крупными окостеневшими коготками? Куда смотрят ее подернутые пленкой глаза?
Вторым моим собственным животным оказался ёж Степан – крупная и очень колючая особь. Я обожал его столь же истово, как и Дуню. В последний год детсадовского периода (то есть когда мне было шесть лет) меня решили отправить на лето в летний детский сад. Я очень не хотел ехать туда, сопротивлялся всеми возможными способами, но родители уговорили меня, пообещав, что я смогу взять с собой Степана. Мои предчувствия меня не обманули: летний детский сад оказался летним детским адом. С моим Степаном нас сразу же разлучили – его поместили в вольеру при живом уголке, где уже жил другой ёж. Как ни странно, я был не единственным детсадовцем, который приехал с ежом. Еще один мальчик прибыл в сопровождении ежа. Наши ежи жили в специальном загончике, и мы с этим мальчиком каждый день приходили проведать наших ежей. Мы смотрели издалека на наших любимцев, к их колючим спинам тянулись наши тоскующие взгляды. Было так чудовищно, так безотрадно в этом детском концлагере, что мы даже не смогли подружиться с этим мальчиком – просто стояли, молча, понурые и жалкие, не отрывая взглядов своих от ежей. Даже словом не перемолвились, хотя и чувствовали себя собратьями по несчастью.
В августе родители забрали меня из летнего детского сада, и остаток лета мы прожили на даче в Ильинском. Родители сняли дачу – маленькую, темную, невзрачную, но эта дача казалась мне раем. После летнего детского сада я две или три недели молчал. Просто не произносил ни слова. Так подействовало на меня пребывание в детском концлагере. Я молчал вовсе не для того, чтобы выразить свой протест, молчал не в отместку – я радовался обретенной свободе, радовался родителям, я улыбался и излучал блаженство, но механизм произнесения слов на время сломался во мне. У меня как-то выморозило язык в то жаркое лето. Потом язык разморозился, и я снова стал разговорчивым малышом.
Первое, что я сделал после своего освобождения, – я пошел в лес и там отпустил своего Степана на волю. Вкусив горькой и безрадостной несвободы в детском концлагере, я не желал быть тюремщиком любимого колючего существа. Я отпустил его, но это не избавило меня от мучительных страхов за его жизнь.
В общем, животные сводили меня с ума. Они казались мне слишком хрупкими, слишком уязвимыми. Я слишком сильно любил их, и моя любовь была отравлена горечью волнений и ядом сострадания. Думаю, даже если бы я стал обладателем акулы или свирепого тигра, я все равно волновался бы за своих питомцев, не зная покоя ни днем, ни ночью.
Люди не вызывали у меня таких терзательных беспокойств. Конечно, я нередко волновался за своих родителей, поджидая поздними вечерами их возвращения домой. Но, за исключением этих моментов, я не особо беспокоился о людях. Мне казалось, они могут за себя постоять. Люди представлялись мне хитрыми, изворотливыми и на все способными. Вообще, достаточно прочными. А вот животные мне таковыми не казались, и я ощущал какую-то гипертрофированную и ужасающую ответственность за них.
Среди своих детских товарищей я не пользовался репутацией добряка. Хотя я в любой момент мог с легкостью отдать им любой неодушевленный предмет, мне принадлежащий (что я и делал постоянно), но добрым я им не казался, поскольку был чересчур смешлив и насмешлив, постоянно кого-то дразнил и над кем-то издевался и, кажется, в раннем детстве ранил немало ровеснических душ своими кривляниями. Но стоило мне увидеть животное, как я тут же превращался в какого-то сумасшедшего подвижника, в трепетного и бескорыстного влюбленного. Ради животных совершал самые различные поступки, в том числе достаточно оголтелые.
Когда на берегах водоемов я замечал рыбаков, сидящих с удочками, я тут же начинал ошиваться возле них, делая вид, что меня интересует рыбалка. Но цель моя была совершенно иной: если рыбак отвлекался, я хватал только что пойманную рыбу и кидал ее обратно в речные, морские или озерные воды. Так спас я немало рыб, рискуя быть отпизженным за злостное хулиганство.
Однажды (уже в начальных классах школы) я шел по городу со своим школьным портфелем и вдруг увидел тетку, которая преследовала мышь. Низкорослая, жирная тетка в больших сапогах гналась за убегающей мышью, пытаясь наступить на нее и раздавить своим громоздким каблуком. Не успев подумать ни о чем, я подбежал к этой незнакомой тетке и изо всех сил ударил ее портфелем в лицо. Причем, помню, специально ударил замком наружу, чтобы максимально травмировать лицо этой женщины выпуклой металлической пряжкой портфеля. После этого я тут же убежал со всех ног, не оглядываясь. Бегал я быстро, ноги у меня были длинные и часто спасали меня от разных злоключений. Так что тетке-кубышке было меня не догнать. Помню, как она изумленно вопила за моей спиной.
В общем, я был в раннем детстве стихийным зеленым радикалом, хотя ничего не знал о зеленом движении. Впрочем, встречались среди моих детских знакомых и более радикальные зеленые, чем я. К ним относился, например, сын известного в те годы барда Булата Окуджавы, с которым я познакомился в Коктебеле, в доме творчества. Сына Булата Окуджавы тоже звали Булатом Окуджавой, то есть он был Булатом Булатовичем, но мы в нашем детском кругу называли его Булкой. Этот Булка был заядлым экологистом и борцом за природу. Весь литфондовский парк был оклеен прокламациями и призывами, которые заботливо изготовлял и распространял Булка. Берегите природу! Не мните цветы и зеленые насаждения! Не обижайте животных и птиц!
Булка являлся настоящим энтузиастом и делал это все по собственной инициативе, без какого-либо внешнего побуждения. Несмотря на схожесть наших взглядов, мы с ним особо не дружили. Булка был постарше, и сейчас я даже не могу вспомнить его лицо. Зато его прокламации хорошо помню, написанные разноцветными буквами, иногда снабженные небольшими убедительными рисунками.
Если бы тетка, пытающаяся убить мышь, встретилась бы не мне, а Булке, он, наверное, не ограничился бы простым (хоть и жестоким) ударом портфелем по ее лицу. Думаю, он сжег бы дотла эту пузатую женщину в крупных сапогах, он спалил бы ее потоком кипящего огня, который хлынул бы на нее прямо из его пылающего сердца. И спасенная мышь продолжила бы свой стремительный бег среди шипящих кучек дымящейся золы – только эта зола и осталась бы на память о тетке в крупных сапогах.
Что же касается меня, то я не особо горжусь своим жестоким поступком: наверное, мышь спаслась бы и без моей помощи, ведь она была проворна, а тетка неповоротлива. Хоть я и сбежал без труда от этой фурии, но вскоре после этого происшествия мне пришлось отловить ответочку от подобной тетки. Я шел по аллее на Речном вокзале, а навстречу мне продвигалась похожая тетка, только ростом повыше, в таких же точно сапогах с тяжелыми каблуками, в таком же светлом пальто с меховым воротником. Но эта казалась не столь энергичной. Наоборот. Она шла, как бы глубоко задумавшись о чем-то, какая-то осоловевшая, даже остекленевшая. В руке у нее болталась авоська с двумя бутылками кефира – две белые стеклянные емкости с крышечками из зеленой фольги. Мы медленно поравнялись – казалось, она меня вообще не видит. Но в момент, когда она уже почти прошла мимо меня, вдруг некий рассвет осветил ее оглушенное лицо. В инертных глазах, устремленных на меня, вспыхнуло внезапное понимание, как будто она кого-то узнала во мне, и губы ее произнесли нараспев, даже с некоторой радостной лаской, смешанной с изумлением: «Ах ты, жидёныш!» И в следующей момент она обрушила на меня удар своей авоськой с тяжелыми бутылками, целясь мне в голову. Я успел слегка отклониться, удар пришелся по плечу, задев ухо. Было больно, меня качнуло, но я устоял на ногах и сразу же побежал. Бежал быстро, так же как от женщины-мышеубийцы, но на этот раз никто меня не преследовал, никто не вопил за моей спиной. Я не удержался и оглянулся разок. И, наверное, превратился бы в соляной столб, если бы она сама не стояла бы там соляным столбом, застыв в этой темной аллее, провожая меня непостижимым взглядом, в котором минутная интенсивность быстро гасла, уступая место изначальной остекленелости.
Этот удар был ответом на мой удар. Я не сомневался в том, что, вступившись за мышь, я случайно объявил войну некой разновидности демонов, которые по каким-то причинам предпочитали принимать облик немолодых и пухлых женщин, обутых в сапоги, облаченных в пальто с меховыми воротниками. Впоследствии мои стычки с загадочными и мрачными представительницами этого демонического сословия время от времени возобновлялись, но лишь до тех пор, пока не навестило меня половое созревание. Чем отчетливее пробуждался в моем теле мужчина, медленно вытесняющий мальчика, тем меньше враждебности ощущал я со стороны подобных существ. Демоны этого типа вступают в войны с детьми, они могут докучать женщинам и девушкам, но к мужчинам относятся подобострастно. Причем, полагаю, происходит это не в силу социального статуса, но исключительно благодаря защитным (обережным) свойствам фаллоса.
Однажды в разгаре январских морозов мы сидели с мамой в комнатах моих дедушки и бабушки на Пресне. Был вечер, дедушка с бабушкой куда-то ушли, мы сидели вдвоем в зимней полутьме, о чем-то болтая. И вдруг некий звук, очень слабый, прерывающийся и робкий, стал достигать наших ушей. То ли писк, то ли тонкий далекий плач. Мы поняли, что звук идет со двора, просачиваясь к нам сквозь инеистое стекло окна. Мы оделись и спустились во двор, в большой и кубический двор. Двор был совершенно безлюден в тот час, лишь темнели деревья и белели заснеженные лавки. На одной из этих лавок мы увидели крошечный комочек, который и оказался источником этого жалобного звука. Это был котенок. Мы принесли его домой, предложили ему теплого молока. Мы успели вовремя, если бы чуть помедлили, котенок бы погиб: слишком свирепствовал в ту ночь мороз. Так появился в нашей жизни Васька, классический серый, с черными полосками. Впоследствии выяснилась его принадлежность к женскому полу, но мы почему-то не сразу разобрались в этом обстоятельстве и успели привыкнуть называть его Васька и «он».
Васька – это была моя первая любовь в мире кошачьих! Свет не видывал более мудрого и тактичного котенка! Его не требовалось ничему учить, никак не нужно было его воспитывать. Васька понимал (точнее, понимала) абсолютно все. Некий ангел в серой полосатой шубке снизошел к нам с полосатых мяукающих небес. В тот период я научился спать абсолютно неподвижно, не меняя позы в течение всей ночи, не ворочаясь, не переваливаясь с бока на бок, не сворачиваясь креветкой. А все потому, что Вася спала на мне, свернувшись креветкой, и я не желал тревожить сладкий сон этой серой креветки.
Васька прожила у нас не помню сколько – два года? Три года? Потом все же она сбежала. Видимо, потребности ее женского организма увлекли ее в мир весенних дворов. Смутно помню, как я мучительно искал ее в этих весенних дворах, размазывая слезы по своему ошарашенному лицу. Но не нашел. А где-то через полгода я увидел ее во дворе – она была сильно беременна и сосредоточенно шла куда-то по своим беременным делам. На меня она даже не взглянула, и вид у нее был столь занятой и озабоченный, что я не решился подойти к ней. Напоминает сцену, когда Гумберт Гумберт находит Лолиту после долгой разлуки – беременную, бледную, погруженную в бытовые заботы.
Тебя как первую любовь,
России сердце не забудет!
Так могу я воскликнуть о Ваське. Под обозначением «сердце России» подразумеваю мое сердце. Но разве я не Россия? Я и есть Россия. Россия – это как бы такая менгрельская, княжеская фамилия. Я так иногда подписываюсь: князь Павел Витальевич Россия.
По закону баланса и равновесия впечатлений вслед за встречей с кошачьим ангелом последовала встреча с кошачьим демоном. Не только небесные высшие создания облекаются иногда в кошачьи гибкие, упруго-расхлябанные тела. Но случается, что и исчадия ада также не брезгуют этими телами, поселяясь в них со всем возможным удобством. Вскоре после исчезновения Васьки появилась в нашей квартире другая кошка. Принадлежала она не нам, а моим дяде и тете – Павлу Моисеевичу Шимесу, выдающемуся скульптору, старшему брату моей мамы, и его жене Марине Романовской, которая также была талантливым скульптором. Так вышло, что дядя и тетя уехали куда-то на полгода и попросили нас предоставить приют их кошке по имени Чика. Соглашаясь исполнить эту просьбу, мои родители, конечно, не могли предполагать, что доверчиво распахивают двери нашего жилища перед порождением зловещих бездн. Насколько Васька была мудра и чувствительна, настолько же Чика была хитра и интуитивна, но ее ум и ее интуиция всецело состояли на службе зла. Она немедленно догадалась, какие именно два объекта в нашей квартире наиболее любимы моими родителями и мной. И она предприняла скрытные и последовательные действия, чтобы уничтожить эти два объекта. Один из них был живым существом, другой был вещью, точнее, произведением искусства. Это были цветок и гобелен. Цветок – вернее назвать его деревом. Действительно целое дерево, живое и великолепное, проживало вместе с нами в нашей квартире. Называлось оно китайская роза, а если именовать на человеческий лад, то получится прекрасная дама по имени Роза Китайская. Эта дама росла в большом зеленом ведре, заполненном землей. Дерево обитало в кухне – большое, ростом повыше меня (а я уже приближался к возрасту школьника). Светлый ствол, раскидистые ветви. Крупные, блестящие, изумрудно-зеленые листья. Иногда на этом волшебном дереве распускались цветы – красные розы. Это были подарки от растительной феи. Порою они не появлялись месяцами, но вдруг зажигался красный огонек среди зеленой бликующей листвы. Она одаривала нас своими цветами по прихоти, своевольно и нежно, в те избранные ею моменты, когда ей хотелось особенно порадовать нас. Конечно, мы ждали этих подарков затаив дыхание и придавали особое значение их появлению. Цветы эти проникали в наши мысли, проникали в мамины стихи:
В зеленом ведре распустилася красная роза.
В зеленом саду кто-то утром играл на гармошке.
Рыдала под музыку чахлая, бледная проза.
Стихи мои, плача, чесали убогие ножки.
Это из маминых стихов тех лет. Роза была полноправным членом нашей семьи, и в те месяцы, когда она не одаривала нас цветами, она все равно общалась с нами, кокетничала с нами глянцевым сиянием своих листьев, излучая благую и умиротворяющую силу.
Чика убила это волшебное дерево, действуя скрытно, последовательно и систематично. Отравила. В качестве яда замедленного действия она использовала свою мочу. Она стала украдкой ссать в зеленое ведро с землей, из которой Роза черпала свои силы. Причем делала Чика очень осторожно, подссывая небольшими дозами, чтобы не выдать себя избыточной вонью. Как опытная и коварная отравительница, она разбрызгивала свой яд по всей квартире, создавая обонятельные обманки и отвлекающие участки аммиачного смрада, и никто из нас не догадался вовремя, что она ссыт в цветок. А когда догадались, то было уже поздно: Роза зачахла, умерла, засохла.
Французский гобелен восемнадцатого века висел на стене, и на нем, данный в тонах сепии, проступал слегка выцветший сказочный сад: павильоны, гроты, замшелые статуи, оглянувшиеся в застывшей пляске, изогнутые мостики над потоками, фонтаны, искусственные водопады, узкие беседки-пагоды. В уголках этого сада прятались влюбленные парочки, вершились поцелуи украдкой, кто-то подавал кому-то веер, дудочку или потерянный платок, фавны-вуайеристы выглядывали из сплетенных ветвей, а в глубине лиственных коридоров теснились придворные комедианты: пьяные арлекины вперемешку с игривыми коломбинами. Сутулые дотторе в широкополых шляпах плясали на комариных ногах среди тканевой ветоши, заплаканный Пьеро сжимал в руках потерянную дамой перчатку… Короче, кто бы там ни теснился и ни целовался на этом гобелене, все они блаженствовали в своем остановившемся мгновении. Но Чика уничтожила и этот выцветший рай. Гобелен предназначался для дворцовых покоев с высокими потолками, поэтому не мог развернуться в полный рост на стене нашей скромной советской квартиры: нижняя часть грациозного сада загадочно скрывалась за низкорослым шкафчиком, и под ногами этого шкафчика скручивалась в тяжеловесный рулон, видимый лишь тому любознательному человеку, которому приспичило встать на колени и заглянуть под шкаф, почти прижимаясь щекой к светлому лакированному паркету. Я это проделывал нередко, потому как в мои обязанности входило выметать оттуда пыль длинным растрепанным веником. Но Чика так умело и хитроумно распределяла по квартире очажки своей вони, что я не заметил ее уловок, направленных на уничтожение гобелена. Как-то так ей удавалось тонко и злокозненно ссать на нижнюю часть гобелена, что весь он заболел каким-то загадочным тленом, и его вынесли на помойку.
До сих пор думаю (хотя это и может показаться детским суеверием), что уничтожение Чикой этих сверхценных объектов – цветка и гобелена – внесло некую зловещую лепту в дело расставания моих родителей. Как раз тогда различные тени стали замутнять собой сияние их взаимной любви, появились размолвки, долгие препирательства из-за пустяков, тяжеловесные ссоры, вспыхивающие без видимых причин.
Все это в результате привело их к разводу, но произошло это не сразу, через некоторое время, а у Чики между тем имелась в запасе еще одна специальная пытка, предназначенная лично для меня. Она быстро поняла, что я склонен относиться к животным с избыточным трепетом, что я подвержен мучительному страху за их жизнь и благополучие. И вот она стала изощренно измываться надо мной. Когда мы с ней оставались в квартире одни, она забиралась на перила балкона (а жили мы на одиннадцатом этаже) и там начинала выделывать всяческие акробатические трюки. Например, вращаться за своим хвостом. Я взирал на это как под гипнозом, не осмеливаясь приблизиться и стащить ее оттуда, – мне казалось, я могу вспугнуть ее неосторожным движением, и она свалится в пропасть. Я ненавидел ее, но все же мысль о том, что она может разбиться вдребезги, наводила на меня дикий ужас. И так она вращалась и танцевала на перилах балкона, постоянно пристально наблюдая за моими терзаниями своими змеиными глазами, в которых пылала холодным огнем лютая, космическая злоба.
Когда мои дядя с тетей вернулись из своей полугодовой отлучки и забрали Чику – случился праздник! Входить к себе домой и осознавать, что по твоей квартире не слоняется злобный демон, гибкий мелкий желтоглазый бес – это безусловное блаженство. Наша семья вышла с большими потерями из этого полугодичного испытания. Погибла Роза, погиб гобелен, трещинка пробежала по союзу моих родителей, а сам я потерял веру в то, что все кошки прекрасны. И на руках моих долго еще не заживали глубокие царапины, оставленные ее когтями.
Через несколько лет после Чики художник Кошкин принес нам кошку. Точнее, кота. Точнее, котенка. И этот котенок поселился у нас. Это случилось уже после развода моих родителей, мама уже была замужем за Игорем Яворским, моим отчимом, и мы жили в зеленоватом доме на ножках, на Речном вокзале, и снова на одиннадцатом этаже. Котенка я назвал Фишкой. И опять я спал неподвижно, как мумия, потому что Фишка спал на мне и я боялся потревожить его сон. Если Васька была ангелом в кошачьем теле, а Чика исчадием ада, то Фишка оказался обычным котенком: простодушным, достаточно игривым. И все же он обладал одним выдающимся качеством: Фишка был Великий Срун. Постоянно меня мучил вопрос: как такое маленькое пушистое тельце может исторгать из себя такое необузданное количество говна? У меня не получилось приучить его срать в специальный поднос – или как называется этот металлический плацдарм, предназначенный для кошачьих дефекаций? Поддон, что ли? Странноватое слово, не уверен, что оно и в самом деле существует. Ну, ладно. В общем, Фишка срал везде и всегда. Вся квартира покрылась крупными котлетами говна, как будто здесь поселилась небольшая корова. Естественно, убирать говно за котенком – это была моя обязанность, маме с отчимом совершенно не хотелось этим заниматься, и они справедливо полагали, что если мне так уж хочется иметь котенка, то я и должен убирать за ним говно. Я не возражал – говно так говно. Но я не предполагал, что его будет так много!
В какой-то момент мама и отчим куда-то уехали на пару недель. В их отсутствие я жил у папы, в другой квартире, но в том же доме на Речном. Фишка же оставался один на одиннадцатом этаже, куда я пару раз за день заходил проведать его, накормить и убрать за ним говно. Специфические говняные острова успевали засохнуть, и мне приходилось отскребать их ножом.
Уезжая, мама и отчим предупредили меня, что в период их отсутствия должен приехать из Тбилиси старший брат Игоря – человек, обладающий звучным именем Ромуальд Ричардович. Он приедет и будет жить некоторое время у нас. Кто-то должен был передать ему ключ от нашей квартиры. Точная дата его приезда оставалась мне неизвестна.
И вот в один из дней, зайдя в нашу квартиру, чтобы в очередной раз накормить кота, я сразу же понял, что Ромуальд Ричардович приехал. Человек, входящий в нашу квартиру, прежде всего сталкивался с собственным отражением. Потому что прямо напротив входной двери стоял большой старинный платяной шкаф красного дерева, очень элегантный шкаф с огромным зеркалом, вделанным в его дверцу. Зеркало настолько большое, что вошедший отражался почти целиком. И вот, войдя к нам домой, я не увидел своего отражения – зеркало шкафа оказалось полностью закрыто газетами, аккуратно подклеенными клейкой лентой. В квартире нашей как будто совершенно изменился воздух, все сделалось таинственным, скрытным, непостижимым, как в мистической пещере. Везде царил полумрак, но кое-какие лампы мерцали по углам, также слегка прикрытые газетами. Незнакомые ботинки и мужское пальто в прихожей. Дверь в бывшую мою комнату (к этому моменту она стала уже комнатой моего отчима) прикрыта. Я подумал, что Ромуальд Ричардович, должно быть, спит. Фишка растерянно околачивался у входа в кухню. Даже он словно бы как-то изменился, что не помешало ему исправно обосрать весь кухонный пол.
Стараясь перемещаться тихо, чтобы не разбудить гостя, я заглянул в ванную. Зеркало над раковиной также заклеено газетой. Все зеркала во всей квартире тщательно прикрыты, как если бы в доме лежал покойник. Я вспомнил кое-что из рассказов моего отчима о его старшем брате. Вспомнил, что Ромуальд не переносит пауков и зеркальных отражений. По каким-то причинам ему не нравилось видеть свое собственное лицо, и он даже брился с помощью маленького зеркального осколка, отражающего только фрагменты обриваемого лица.
Фишка терся о мои ноги, предвкушая рыбу и молоко, которые я для него принес. Я зашел в кухню и почтительно приветствовал Розу Китайскую Вторую. После трагической гибели Розы Первой, которую извела коварная злодейка Чика, появилась в нашей жизни Роза Вторая, и она казалась перерождением Первой. Словно бы наша любимая растительная фея вернулась к нам: она снова росла у нас на кухне в зеленом железном ведре, она снова приветливо блестела своими темно-зелеными листьями (эти листья мне следовало время от времени бережно протирать влажной тканью), она снова порою одаривала нас своими красными цветами.
Я накормил кота, а потом, вздохнув, достал специальный какашечный нож из специальной коробки и стал отскабливать этим ножом присохшие к линолеуму островки говна. Ох, немало там было островов, почти как у берегов Греции! Но делать нечего – я терпеливо скоблил, сидя на корточках. И тут вдруг я услышал свое имя, произнесенное поразительным голосом – настолько необыкновенным и удивительным, что он и до сих пор звучит в моем сознании. Голос очень и очень низкий, настоящий глубочайший бас, роскошный, нюансированный, обогащенный какими-то подспудными акустическими вибрациями и резонансами. Голос, сочетающий в себе тяжесть барской шубы с гулом подземных каменных коридоров. Я поднял глаза: передо мной стоял, как мне почудилось, старец с белоснежным лицом (эта белоснежность никак не вязалась с мыслью о солнечной Грузии), лысый, с большой головой, как у мистического Шалтая-Болтая. Черты лица благородные, даже величественные. Огромный лоб. Огромные, слегка выпуклые глаза, полуприкрытые массивными веками. Небольшой, капризный рот над скульптурным подбородком. Патрицианский нос. Облик усталого римского сенатора. Встретившись с ним взглядом, я подумал: трудно поверить, что человек с такими глазами может бояться пауков и собственных зеркальных отражений. Слишком мудрым, слишком спокойным, слишком тайноведческим был этот взгляд из-под тяжелых век.
Таким предстал передо мной Ромуальд Ричардович Яворский, старший брат моего отчима. Белая, тщательно выглаженная рубашка, черные брюки, пушистые тапочки на ногах. Загадочная величественность, ему присущая, настолько поразила меня, что я даже забыл смутиться тем фактом, что меня застали за таким неприглядным делом, как отскребывание кошачьего дерьма. Не смутило это и Ромуальда Ричардовича. Он непринужденно предложил мне продолжать мое полезное дело, сам же вызвался скрасить мне мое занятие параллельной беседой. Усевшись на стул, он заговорил. И, надо сказать, он не стал тратить время на какие-то ничтожные темы – сразу перешел к вещам важнейшим. Я старался потише скрипеть и скрежетать своим ножом, чтобы внимательнее внимать его речам. Он спросил, известно ли мне, что в первый день нашей эры в Вифлееме родился не один мальчик, нареченный Иисусом. Родилось два мальчика, названных этим именем. Эти мальчики были Альфа и Омега, начало и конец. Они родились в одном городе, но впервые увидели друг друга через много лет, уже став взрослыми, и произошло это на реке Иордан, где ожидал их святой Иоанн Креститель. В момент Крещения в водах Иордана произошло чудо: два этих человека сделались одним человеком, дабы отныне существовать в одном теле. В этот миг в земном мире появился Иисус Христос.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































