Текст книги "Бархатная кибитка"
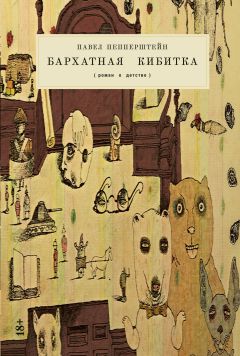
Автор книги: Павел Пепперштейн
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Все это излагалось глубочайшим вибрирующим басом, очень неторопливо, интеллигентно, без какого-либо сектантского фанатизма. Как бы просто передо мной разворачивали некую метафору странно-философского или же алхимического типа. Стиль изложения ничем не напоминал ни хипповские телеги, ни экзальтированные рассуждения неофитов. Отковыривая от светло-серого линолеума очередной каловый остров, я почти не верил своим ушам. О чем это он вообще толкует? Оказалось, он пересказывал мне один из откровенческих прорубов Рудольфа Штайнера. Ромуальд Ричардович был штайнерианцем.
Все это произвело на меня глубокое впечатление: алхимические речи, плавные оккультные метафоры, занавешенные зеркала, тяжелый медленный голос, умудренный и умиротворенный взгляд из-под отягощенных век, слабый свет настольной лампы, с трудом пробивающийся сквозь страницы советских газет «Правда» и «Известия». Во всей этой сценке присутствовала некая алхимическая правда. Да и известия долетали поразительные, как бы с того света. Сценка в целом удивительная: кухня в полумраке, я вожусь на полу на корточках, отскребая говно. Рядом Фишка, нажравшись, готовится к новым подвигам на сральном фронте. Флорическая красавица Роза Китайская Вторая благословляет нас бесшумным шелестом своих листьев на легком сквозняке (я открыл окно, чтобы развеять фишкину вонь). Приобщенный тайнам старец неторопливо пересказывает нам фрагменты антропософских откровений. На самом деле он не был старцем, просто выглядел старше своих лет. Но об этом не следовало упоминать в беседах с ним. Обликом он обладал роскошным, но это не мешало ему испытывать множество загадочных сомнений по поводу своей внешности. Потом Игорь рассказал мне, что Рома с юности закрывает зеркала, поскольку на каком-то этапе своего взросления он решил, что у него слишком маленький рот. В молодости занимался оперным пением (голос и правда поразительный), но затем забросил – возможно, из-за маленького рта, не знаю. Вообще-то рот у него выглядел вполне нормально.
Покончив с дерьмом, я предложил ему чаепитие, и мы еще долго беседовали. Когда я уходил, он вручил мне несколько книг Рудольфа Штайнера – все это были фотокопии дореволюционных изданий. После этого я стал страстным читателем швейцарского мистика. Не то чтобы я сделался штайнерианцем, но тексты эти давали пищу моему воображению.
Мимоходом замечу, что Рудольф Штайнер, если судить по его фотографиям, очень похож на актера Джереми Айронса. Точнее, Джереми Айронс очень похож на Рудольфа Штайнера. Если вы еще ничего не знаете об этом сходстве, прошу вас – загляните в интернет и сравните эти два лица. На мой взгляд, сходство впечатляющее. Поэтому я безмерно удивлен (даже возмущен) тем обстоятельством, что на экранах мира до сих пор не появился голливудский блокбастер, где Джереми Айронс сыграл бы Рудольфа Штайнера. В позднем детстве, лет в двенадцать, я так часто всматривался в фотографии Штайнера, что после, много лет спустя, когда я смотрел в кинотеатре экранизацию «Лолиты» (не кубриковскую, а другую, более позднюю), я не мог отделаться от подсознательного убеждения, что это именно Рудольф Штайнер вступил в сложную связь с американской девочкой, а затем жестоко убил ее любовника-драматурга – великолепного и капризного озорника по имени Клэр Куилти.
В общем, я с увлечением читал антропософскую и оккультную литературу и с удовольствием беседовал с Ромуальдом Ричардовичем, пока он оставался в Москве. И беседы эти происходили в контексте кормления кота и отскребания его говн. Через две недели мистический Ромуальд вернулся в Тбилиси, и больше я его никогда не видел. А Фишку моя мама вскорости отдала обратно художнику Кошкину – невмоготу уже стало терпеть это безудержное дерьмообразование. Художник Кошкин любил кошек, и они жили у него в большом количестве. Так что Фишка, наверное, был рад оказаться среди представителей и представительниц своего вида. Я любил этого безмозглого кота, но все же вздохнул с облегчением. Взял коробку с ножом-говноскребом, вышел во двор и с наслаждением швырнул эту коробку в мусорный бак.
Затем последовала эпопея с хомяками. Мой ближайший друг и молочный брат Антоша Носик купил в зоомагазине хомячью пару. Звали их Полкан и Бастинда. Он с нетерпением ждал, когда они начнут размножаться, – Антон осознавал это как некий бизнес-проект. Ему казалось, что он будет успешно распространять хомяков за деньги в нашем доме на Речном вокзале. Почему-то они долго не размножались, но зато, когда все же приступили к этому делу, то уже не могли остановиться.
Я к тому моменту прочитал уже немало книг о животных и понимал, на какой опасный путь мы с Антоном вступаем в качестве юных натуралистов. Этот путь вел нас прямиком к психотравме, к тяжелому удару по нашим детским чувствительным сердцам.
Столкновение с инфантицидом – переживание не из приятных. Родители, пожирающие своих детей, напоминают некоторых древних языческих богов, но юному натуралисту не всегда бывает просто смириться с таким развитием событий.
Впрочем, надо отдать должное Полкану и Бастинде – они долго подавляли в себе кровожадные поползновения по отношению к своему потомству. Первая пара поколений их отпрысков не пострадала. В доме нашем появились объявления, написанные Антоном: «Продаются качественные хомяки. 1 шт. – 1 рубль». Но никто не хотел их покупать. Цена стала стремительно падать – 50 копеек, 30 копеек, 10 копеек. Наконец цена упала до нуля: объявления стали предлагать хомяков бесплатно. Но жители нашего дома (заселенного в основном художниками) по-прежнему проявляли стойкое равнодушие к хомякам. Видимо, художникам не свойственно обожать этих грызунов.
Жилищные условия хомячьего клана стали стремительно ухудшаться – все они жили в кубической клетке в квартире, где также проживали Антон, его мама Вика и ее супруг художник Илья Кабаков, звезда московского концептуализма. Полкан и Бастинда продолжали компульсивно размножаться, и хомяки стали страдать от перенаселения, что и привело к вспышке инфантицида. Честно говоря, я с удовольствием вычеркнул бы это омерзительное воспоминание из своей памяти, но, к сожалению, такие вещи забываются с трудом.
В ужасе я взял себе двух юных хомяков, происходящих из этого семейства. Подумал, что хотя бы двоих спасу от неминуемой гибели. Действительно спас, но расплатился за это множеством сложных переживаний.
Посмотрев на весь этот кошмар с размножением, я взял себе двух парней. Подумал: долой размножение, в жопу эти детские трупики, пусть лучше будет светлая мужская дружба, ну или гомосексуальный рай – как получится. Но не вышло ни мужской дружбы, ни гомосексуального рая. Стоило этим пацанам немного повзрослеть, как они тут же разделились на агрессора и жертву. И первый стал беспощадно третировать и мучить второго. Я понял, что дело опять закончится смертоубийством, и мне пришлось их рассадить. С тех пор они прожили всю свою жизнь в одной квартире, никогда не видя друг друга. Я дал им велеречивые библейские имена – Вениамин и Иммануил. Что означает Благословенный Сын и С нами Бог. Но никто, кроме меня, не хотел называть их этими величественными именами, поэтому обращались к ним запросто – Веня и Моня.
Веня (Благословенный Сын) был рыжий, крепкого телосложения, черноглазый. Он и стал агрессором.
Моня (С нами Бог) был белоснежный альбинос. Глаза – как две ягоды красной смородины. Характер кроткий, созерцательный.
Вначале они жили в клетке, где имелось колесо для вращения хомяков. После расселения я оставил злого Вениамина жить в клетке, кроткому же Иммануилу я предоставил (в награду за его миролюбие) более роскошные условия. А именно ванну. Это, конечно, не очень обрадовало мою маму и отчима: каждый раз, когда кто-то из нас желал понежиться в горячей водичке, приходилось для начала посадить Моню в стеклянную банку, а затем тщательно вымыть ванну. Но все мы смирились с этими неудобствами из уважения к Иммануилу.
Веня прожил в своей клетке стандартный срок хомячьей жизни, в основном вращаясь в колесе. После того как его лишили возможности издеваться над Моней, у него не осталось других развлечений. Но жизнь Иммануила в просторной ванне оказалась, по-видимому, более сладкой, поэтому Моня прожил гораздо дольше. Он сделался хомяком-долгожителем. Когда он все же умер, я нарисовал его портрет, который долго потом висел у нас на кухне, над обеденным столом.
Однако не только домашние питомцы волновали меня. Будучи зоопарковским парнем, я влюблялся то в крокодилов, то в пеликанов, то в лемуров. А иногда всецело завладевали моим сердцем австралийские сумчатые. Я никогда не пропускал программу «В мире животных» по телику, и от одной лишь только заставки этой программы я сладко цепенел – там силуэты фламинго пролетали по небу, а силуэты обезьян скакали с пальмы на пальму. Стоило мне заслышать музыку этой заставки, как я сразу же отлавливал мощный приход, как наркоман, принявший дозу любимого наркотика. Ну и конечно же, я обожал книги о животных и прочитал их целую тонну. Из этой тонны наиболее обожаемыми были Сетон-Томпсон и Джеральд Даррелл. Мустанг-иноходец и серебристый лис Домино… Путь кенгуренка… Три билета до Эдвенчер…
В советской детской литературе о животных (подразумеваю художественную прозу, а не зоологическую документалку) наиболее признанным корифеем считался Виталий Бианки. Он описывал жизнь леса и лесных обитателей, а стиль его приятно колебался между сказочностью и реализмом. Рассказ «Как муравьишка домой спешил» является безусловным шедевром этого жанра. Как-то раз нам в школе дали задание написать сочинение о творчестве какого-нибудь выдающегося писателя-зоологиста. Поскольку я любил иногда повыебываться на уроках литературы, я написал сочинение под названием «Лес Бианки». За это сочинение мне поставили тройку с минусом – во-первых, за то, что там было много грамматических ошибок. А во-вторых, за якобы неприличную игру слов, содержащуюся в названии сочинения. Учительница литературы и русского языка, носившая удивительное имя Эмилия Элиберовна, сказала мне с упреком: «Вот ты вроде бы начитанный парень. Но почему ты так неграмотно пишешь? И почему тебя все время тянет на какие-то глупые шутки?» В общем, она была права. К счастью для меня, лесбиянкой она не являлась, а то, наверное, обиделась бы еще сильнее.
Хорошо лесбухой быть
И в большой избухе жить.
Это из моего стихотворения, посвященного сексуальным девиациям. Сейчас напрягу память и постараюсь процитировать это стихотворение целиком:
Быть садистом хорошо
Только май уже прошел
Мазохистом быть прикольно –
Нас ебут, а нам не больно
Хорошо нарциссом быть –
Хуем зеркало долбить
Стать хочу эксгибиционистом
Хуем потрясать неистовым
Пидарасом быть желаю –
Нас ебут, а мы крепчаем
Хорошо лесбухой быть
И в большой избухе жить
Если честно, онанистам
Легче жить чем трактористам!
Очень круто зоофилам
В ночь уйти с животным милым
Среди складок толстых штор
Притаился вуайор
Очень классно нимфоманке
Возлежать на оттоманке
Некрофилом быть – отстой
Особливо в летний зной
Копрофилом быть – говно!
Ну а впрочем, все равно
Чтоб стать классным оргиастом
Надо сделаться гимнастом
Можно стать асексуалом
С тихим воплем «Заебало!»
Можно фетишистом быть
В сапожок сестры дрочить
Все же славно быть садюгой
И бороться с зимней вьюгой!
Раздвигай скорее ноги
Нам открыты все дороги!
Все это великолепно, но при чем тут животные? Впрочем, в стихотворении упоминаются зоофилы, так что мы не слишком отклонились от темы нашего сочинения.
Оценка «три с минусом», которой удостоилось мое сочинение «Лес Бианки», меня вполне устраивала. Я не был честолюбив и вовсе не стремился учиться хорошо. К тому же эта магическая оценка была воспета моей мамой в ее прекрасной повести «Тройка с минусом, или Происшествие в пятом "А"». Эта повесть из жизни школьников моего возраста была очень популярна, особенно среди девочек. Само по себе название этой повести представляет собой буквенно-цифровой код: 3–5 «А».
На первый взгляд код выглядит именно так, и это заставляет глубоко задуматься. При более пристальном рассмотрении названия этой детской повести мы обнаружим также цифру шесть, спрятанную в слове «происшествие» (слово это нередко произносят смягченно, и тогда оно звучит как «про-ис-шесть-вие»). В таком случае код будет выглядеть так: 3–65 «А».
В этой повести описаны драматические события. Главная героиня – девочка-отличница Аня Залетаева (моя школьная учительница Эмилия Элиберовна и в этой фамилии, возможно, усмотрела бы нечто не вполне приличное) влюбляется в своего одноклассника Борю Дубова, становится рассеянной на почве влюбленности и в результате получает за сочинение тройку с минусом. Будучи стопроцентной отличницей, она не может смириться с этой оценкой и не смеет рассказать о ней своим взыскательным родителям, поэтому она решается на отчаянный поступок – похищение школьного журнала. Украв журнал, Аня пытается переправить тройку на пятерку, задействует для этого бритву. Однако, будучи неопытной в этом деле (я в ее возрасте справился бы с этой задачей играючи), она совершает неосторожное движение бритвой, и на месте цифры возникает дыра.
Таким образом, мы можем убедиться в том, что в названии повести зашифрованы ее основные актанты – тройка, минус, пятерка, а завершается цифровой код первой буквой имени героини (Аня). Скрытая же цифра шесть, препятствующая успешной трансформации тройки в пятерку, олицетворяет собой дыру, то есть грядущую дефлорацию, по видимости, которая в свою очередь способна привести к беременности.
Юный читатель (точнее, юная читательница) может сделать из всего этого вывод, что глубина и трепетность чувств, возникших у Ани и Бори по отношению друг к другу, обещают долгую любовь, а это означает, что в самом моменте зарождения этих отношений уже скрывается обещание грядущей дефлорации и, возможно, будущей беременности. Прежде чем «залететь» в реальности, Аня Залетаева «залетает» в символических рядах, инсценируя то будущее, которого она втайне желает. Шесть – беременная цифра (графическое воплощение этого числа свидетельствует об этом вполне красноречиво). Кроме того, в слове «происшествие» скрывается «исшествие», «исход», что в данном случае может означать будущее рождение.
Помимо всего прочего, название маминой повести ассоциируется с двумя литературными произведениями, приобретающими в данном контексте особую значимость. Речь идет о книге Корнея Чуковского «От двух до пяти» и о повести Игоря Холина «С минусом единица».
Начнем с того, что мама хорошо знала авторов этих произведений и оба обладали особым (отцовским) статусом в ее глазах. В мамином автобиографическом романе «Круглое окно» красочно описана дружба моих юных родителей с престарелым Корнеем Иванычем Чуковским, их визиты к нему на дачу в Переделкино. Корнея Ивановича мама считала своим учителем в области детской литературы, а он в свою очередь благословил ее как продолжательницу своего дела. Игорь Холин был ближайшим другом моих родителей и даже считался моим как бы символическим дедушкой. Таким образом, речь идет о текстах, написанных символическими отцами. Что же это за тексты?
«От двух до пяти» – одна из лучших книг о русскоязычном детстве, глубокое исследование детского языка и детских фантазий. «С минусом единица» – шедевр русской матерной литературы.
Вот цитата из «Круглого окна»: «Игорь Сергеевич Холин любил читать у нас свои романы. Когда он читал "С минусом единицу", нашпигованную матом, как аджика перцем, мы валились со своих стульев от хохота, потому что, кажется, такой чудовищный мат слышали впервые».
Моя мама любила мат. Как-то раз я, явившись из детского сада, зачитал услышанный мною там стишок:
В детском саде номер два
Раздаются голоса:
Сука, блядь, отдай машину,
Не то выколю глаза!
Мама очень порадовалась этому стишку и с тех пор, когда приходили гости, просила меня торжественно его декламировать. Что я и делал с большим удовольствием.
Поэтому я и до сих с наслаждением использую матерные слова в своих литературных текстах и не желаю от этого отказываться, хотя в нынешний период это и вредит отчасти судьбе моих книг. Но я сохраняю верность материнской (матерной) речи, сохраняю верность своим родителям и символическим родителям родителей. Стараюсь как бы соединить внимательное исследование детства (в духе Корнея Чуковского) со стихией раскованного языка. Однако вернемся к животным.
Хомяки болезненно проникали в мои сновидения. В бодрственной реальности мне удалось не допустить их размножения в нашей квартире, но во снах моих они размножались безудержно. Почему-то все они были белые с красными глазами, они выбегали изо всех углов, они струились по книжным полкам, по сервантам, по этажеркам и кроватям, они выглядывали из цветочных ваз, они постепенно заполняли всю квартиру, а затем и весь наш дом – семнадцатиэтажный дом на ножках. Их полчища лились по лестницам, вращались в лифтах, кишели на лестничных площадках. Все заполнялось белизной с вкраплением красных бусинок.
Поскольку на данном отрезке нашего повествования мы ненадолго отступаем от животных реальных в сторону животных сновиденческих, следует сделать следующее немаловажное замечание: сновидение предоставляет нам возможность не только общаться с животными, но и превращаться в них, быть ими. Так от века поступали герои сказок, а сновидец по самой природе своей является сказочным персонажем.
Возвращаюсь к сновидению о лавине живых белых хомяков, затопляющей собою семнадцатиэтажный дом. Я собираюсь вплести в ткань данного романа (причем вплести грубовато, прямолинейно, без какой-либо филигранности) два письма, посланные мною из Праги летом 1983 года. В одном из этих писем описывается парк, затопленный морем живых белых мышей. Такого рода фантазмы или же такого рода сновидения относятся к категории реликтовых, они (надо полагать) инсценируют воспоминания о наиболее ранних фазах эволюции нашего организма. Они напоминают нам о тех баснословных временах, когда в качестве веселых сперматозоидов (подвижных, белоснежных и невинных) влеклись мы в толпе наших столь же белоснежных и беспечных соратников к неведомой цели – к цели, о которой нам недосуг было помыслить в те сакральные, белоснежные мгновения.
Но не кажется ли вам, что вся эта распространяющаяся во все стороны белоснежность требует, в качестве уравновешивающего элемента, некоего пятна интенсивного цвета? Пусть это будет синий. Глубокий, яркий, синий цвет.
В течение последующих лет был у меня, уже в Праге, синий попугай, но он не являлся целиком и полностью моим – он был совместным, моим и моей сводной сестры Магдалены (она же в те годы называлась также Мадла, Мадленка, Мадлуш, Мадлоуш и еще целая вереница славянских вариаций на тему библейского имени), и в ее обязанности входила забота об этой птице: чистить клетку, наливать воду в поилку, насыпать птичий корм в специальные емкости из разноцветного яркого пластика. Но относилась она к своим обязанностям достаточно небрежно и как-то раз забыла закрыть клетку, да и окно в ее комнате оставалось открытым ради втекания привольного весеннего ветра, так что Бедя (так звали синего попугая) упорхнул. Надо полагать, он воодушевленно воспарил над нашей длинной Яромировой улицей, по которой в тот момент, скорее всего, влекся дребезжащий трамвай (по этой улице всегда влеклись дребезжащие трамваи), над красными черепичными крышами домов, построенных в начале двадцатого века. Эти дома заполняли собой долину Нусле и были окрашены в розовые, кисельные, охристые, зеленоватые, темно-желтые, задумчиво-серые и иные цвета, на их слегка закопченных, слегка потрескавшихся стенах встречались сецессионные личики: славянские девы распускали лепные волны своих волос. Дом наш – Яромирова, 34, – никогда не забыть мне этот адрес, за много лет впечатавшийся в мой мозг столь же прочно, как и облик этой улицы. Сколько раз вывела этот адрес моя рука на почтовых конвертах, в анкетах, квитанциях, расписках, заявлениях – сотни раз? Тысячи раз? Дом этот встраивался в линейку подобных домов, с одной стороны от этой линейки постоянно звенели трамваи, с другой же стороны пролегала железная дорога, где проносились составы, казавшиеся мне столь же знакомыми и родными, как и квартира, где мы жили, потому как я тоже постоянно проносился в этих составах, проносился мимо нашего дома, успевая мимоходом разглядеть чахлый и замусоренный садик, отделяющий дом от железной дороги: я постоянно курсировал в этих поездах между Прагой и Москвой, и это ландшафтное струение по восточноевропейским горизонталям, возможно, отразилось в вертикально воспаряющем движении, которое смог позволить себе синий попугай Беджих. Неужели мы назвали его в честь композитора Сметаны? С какого хуя, позволю спросить? Ведь мы не особенно любили музыку Сметаны, зато сметану мы очень любили и часто заправляли ею салат из редиса, огурцов, помидоров, болгарского перца и прочих ингредиентов – может быть, поэтому и назвали попугая Бедей? В общем, бедовый этот попугай воспарил, полагаю, над Прагой, восхищенный тем обстоятельством, что удалось ему вырваться на волю из нашего окна. Дальнейшую его судьбу не возьмусь описать, ибо о ней мне ничего не известно. Но осмелюсь предположить, что он совершил роскошный полукруг над автострадой имени Готвальда, которая проходила над нашим районом Нусле, громоздясь над нами на гигантских бетонных ногах, – райончик наш лежал в яме между двумя холмами: Вышеградом и Виноградами. Автострада эта и сейчас там громоздится и пролегает, но уже не носит имя Готвальда, забытого и отвергнутого коммунистического президента, к концу жизни утратившего человеческий облик. Автострада избавилась от имени Готвальда, а вместе с этим именем ушла в прошлое и скверная репутация, которой эта автострада пользовалась в те годы. А в те годы (речь о восьмидесятых) эту автостраду называли Мостом Самоубийц, и не зря называли. Действительно, постоянно люди спрыгивали с этого гигантского моста, и за много лет, что я прожил в тени этой суицидальной конструкции, я повидал десятки меловых силуэтов на асфальте – полиция обводила мелом разбившиеся тела. Но синий попугай, герой наш и приятель, оснащен упругими крыльями, и ему прыжок с этого моста обещает вовсе не падение на грязный асфальт, но наоборот – подъем в синее, беспечное небо. Куда направил он свой полет – о том мне нечего сообщить, и мне неизвестно, как складываются отношения между небольшими попугаями и крупными чайками, ведь чайки достаточно агрессивны и могут представлять собой серьезную опасность для неопытного попугая, бывшего домашнего, который только что сделался вольной птицей и еще не приобрел тех навыков, которые могут оказаться необходимыми в угрожающих горизонтах свободы. Однако если наш попугай все же не побоялся чаек, то я бы рекомендовал ему (хотя и не уверен, что мои рекомендации доберутся до его тысяча девятьсот восемьдесят второго года из моего две тысячи двадцать первого) покружиться на Влтавой, над ее речными островами, над ее сверкающими водами, а затем лететь в сторону Петшинского холма, увенчанного скромным подобием Эйфелевой башни: на этой псевдопарижской башенке вы сможете немного отдохнуть, пан Попугай, а после… После… Вольному воля, как говорится. Летите в сторону замка Троя, пан Попугай, там встретят вас трое: не совсем живые, замшелые, всего-навсего садово-парковые изваяния, но лица у них настолько многозначительные, что, пообщавшись с ними, вы, дорогой пан Попугай, сможете наконец решить, что же вам делать дальше с вашей освобожденной судьбой.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































