Текст книги "Ласко́во"
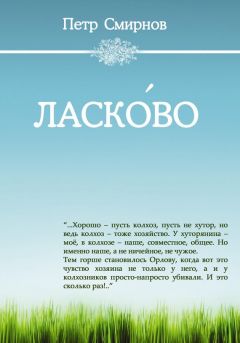
Автор книги: Петр Смирнов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– А чего, мужики, тянуть, – сразу стал агитировать Шурка, – я вижу, что теперь к тому идёт…
– Палашку не уговорил, а нас уговариваешь, – усмехнулась Дуня Коза. Дуня была вдовой. Муж в прошлогоднюю Пасху поспорил по пьянке, что может разом съесть пятьдесят яиц. Съел только сорок – умер от заворота кишок.
– Ён Палашки боицца, – поддержала Козу Алёна.
– Волк собаки не боится – брюзги не любит, – важно продолжал Шурка. – Я иду в колхоз. Вижу, что Пётра Николаев, Иван Марков, Васильев Сергей тоже согласны. Ну и так далее. Так что давайте, мужики, в колхозе и пахать вместе и сев проведём.
Бабы снова (видно, такая им по уговору была отведена роль) попытались шуметь, но на этот раз им этого не позволили. Носко вызывал и под диктовку Гришонка записывал новых колхозников. Тут же на собрании решили дать колхозу название “Сигнал”. Бабы тут же уточнили: “колхоз “Сигнал” – силком вогнал”. Носко не обиделся. Председателем стал Шурка, счетоводом – Гришонок, бригадиром – Сват.
Вступила почти вся деревня. Один Ося отказался наотрез. Вскоре его раскулачили и выслали.
Так в Шумаях началась новая жизнь.
Шурка возглавлял колхоз недолго – не справился, сняли. Пробовали выбирать других – тоже не получилось. “Прижился” лишь Гришонок. Он работал председателем до самой войны, и после войны до укрупнения в 1950 году.
С годами люди привыкали жить “по-колхозному”, привыкали к беспорядку. Многие уезжали…
Сергеев
До убийства активиста Семена Митрофанова наш сельсовет именовался Трави́нским (располагался в деревне Травинó). Когда я учился в Сорокинской школе, председателем был Сергеев. Низкого роста, рыжеватый. Был холост, держался немного высокомерно. По деревням часто ходил пешком.
Пришёл как-то к нам в Ласко́во, зашёл в избу. Разговаривал с папашей о хозяйственных делах, проверял квитанции об уплате налогов, о сдаче госпоставок – никаких претензий, всё в порядке.
– Слушай, Вась, и чего ты всё платишь, всё выполняешь, а в колхоз не идёшь?
В который уже раз папаша отвечал одно и то же:
– Я в своей деревне – не против.
Сергеев это тоже слышал не раз и не два. Но в Ласко́ве – он это хорошо понимал – уже нельзя было создать колхоз, мало осталось работоспособных.
– Ну, давай в другую деревню.
– А в какую в другую? Ближе всех Калиницы. Там никто не записался. И в Тяглице тоже.
– А в Махновку? Сына твоего я бы к себе взял на работу.
Хотя наверняка он это сказал не всерьёз, мне в это поверилось, и я сразу представил себя за одним из столов в сельсовете.
– Махновка не под руками, – ответил папаша. – Постройку ломать да перевозить силы нету.
– А если я тебе найду готовую постройку? В Махновке, или, скажем, в Травине?
– О-о, не-е, в чужую постройку не хочу.
Долго беседовал Сергеев с папашей, так и этак уговаривал его вступить в колхоз. Не уговорил.
– Ладно, – сказал, прощаясь, – на меня не обижайся, если что.
По-прежнему в нашей деревне каждый сам обрабатывал свою землю. Однако теперь не только колхозам, но и единоличникам сельсовет доводил план сева по культурам. Представители сельсовета с большим деревянным циркулем (“шагомером”) проверяли выполнение плана. Сводку о выполненной за день работе ежедневно нарочный относил в сельсовет. Меня, как самого грамотного в Ласко́ве, тоже просили обмерять площади. Не сразу получалось: в школе-то этому не учили.
Отец упрямо продолжал выполнять планы сева, госпоставок, платил до копейки все денежные платежи. Но в колхоз идти не соглашался. Тятяша иной раз давал понять, что не надо бы так упрямиться перед властью. Но он уже не был хозяином.
Сергеев всё ещё почему-то благоволил к папаше, под разными предлогами вызывал в сельсовет, беседовал. Придраться было не к чему, всё было уплачено. Но ведь других упрямых уже вовсю облагали твёрдым заданием…
Однажды папаша вместо себя послал дежурить в сельсовет меня. Сергеев выразил неудовольствие, но обратно меня не отослал. Написал записку и велел отнести её в самую дальнюю деревню Чечулино, передать председателю колхоза. В дороге я прочитал записку. В ней Сергеев, “в силу того, что начались морозы”, обязывал председателя утеплить бурты с картофелем. Председатель Гаврила после прочтения записки разразился матёрной руганью. Очень был возмущен, что “идиот Сергеев из-за пустяка в такую даль прогнал ребенка аж с Ласко́ва”. Меня накормили, и я успел до ночи вернуться в Травино. Сергеев отпустил меня домой.
Когда Сергеева перевели работать в другой сельсовет, в Шмо́йлово, его имущество везли на четырёх подводах. А в Травино, говорили, приехал в одном летнем пальтишке. При немцах Сергеев жил в Шмойлове. Там и помер, как в шутку говорили, со страху.
Яша
В Тереховке жил до коллективизации молодой кузнец Яша с большой семьёй.
Всей округе нужна была Яшина кузница: одних лошадей подковать сколько, а ведь нужны ещё и телеги, и сани, и ухваты, и сковородники…
Яша вступать в колхоз отказался.
Колхоз отобрал у Яши кузницу. Пробовали ковать без Яши – не получалось. Несколько раз описывали и реквизировали яшино имущество за неуплату налогов – всё думали, что не устоит Яша, вступит в колхоз. Всё отобрали, голые стены оставили в доме – нужен был кузнец колхозу, ой как нужен! Шутка ли – пахать-сеять надо, а плуги-бороны не готовы. Но он ещё больше упрямился, не сдавался.
Лопнуло “терпение” властей. Взять с Яши больше было нечего, и объявили его вредителем. Приехали ночью, арестовали и увезли. Так и сгинул Яша.
Потом выгнали из дому его жену Таню с шестью детьми. Не дали взять из дому ни чашки, ни ложки, никакой одежды, кроме той, что на себе. Соседи плакали, когда председатель сельсовета Сергеев безжалостно выгонял на снег малых ребят.
Таня поселилась в Ласко́ве, в пустующем доме Тимохи. Летом помогала крестьянам-единоличникам в уборке урожая. На работу брала обеих дочерей. Мальчишки были еще совсем малые. Зимой кормилась шитьём. Не погибла баба – выжила! Детей отправляла в школу. Троих из них и мне потом учить довелось.
Вскоре был арестован и сослан младший брат Яши, Гаврила. Он тоже отказался вступать в колхоз. Его новый дом, в котором он и пожить не успел, был перевезён в Травино. Там из него сделали клуб. В том клубе я однажды видел, как Сергеев плясал “яблочко”. Хорошо плясал!
Колхозы
То было бурное во всех отношениях время.
Крестьянство (и молодежь в том числе) как бы раскололось. Единоличники считались устойчивыми, крепкими хозяевами, но обиженными властью. Их продолжали трепать налогами, натуральными поставками, а наиболее упрямых облагали “твёрдым заданием”. За его невыполнение описывали имущество, которое либо отдавали в колхозы, либо продавали на торгах.
Случалось, что изъятый у единоличника полушубок за бесценок покупал колхозник. На гулянке, увидев на другом свой полушубок, его бывший владелец кидался на “обидчика”, парни дрались, как враги, сначала один на один, затем вражда разгоралась деревня на деревню. Дело доходило до поножовщины и убийств.
Особенно ненавидели лодырей-бедняков, которые своим трудом ничего не нажили, а присвоили чужое. Про них и частушка была:
Хорошо тому живётся,
Кто зачислен в бедноту,
Ему на́ печь хлеб дается,
Как ленивому коту.
Пели и про колхозников:
Колхозники-колхозники,
Ужо вам попадет:
В ж… втиснут головешку,
Три недели дым пойдет.
Или:
Пойдём в колхоз,
Нечего бояться.
Сорок метров одеяло,
Будем укрываться.
В Тинеях при изъятии скота у единоличника уполномоченный Иван Муров схватил телёнка за хвост, но тот всё же убежал. Немедленно на гулянке прозвучала частушка:
В деревне-то Тинеи
Не идёт никто в колхоз.
Рассердился Ванька Муров,
Оторвал телёнку хвост.
Священники в церквах объявляли колхозников богоотступниками, и женщины-единоличницы, возвращаясь с проповедей, возмущались: зачем, мол, и колхозницы в церковь ходят? А те рассуждали по-своему: в колхозе мы только работаем, раз нас заставили, а богу как молились, так и будем молиться.
Вскоре, однако, отец Сергий внес ясность: всякая власть – от бога, работайте и молитесь, бог вас простит.
Помимо выселенных “кулаков” (со всей ответственностью утверждаю, что это были настоящие труженики), очень многие мастеровые и вообще трудолюбивые люди были вынуждены покидать родные места. Так что бегство людей из деревни началось с коллективизации, продолжалось вплоть до войны уже из колхозов, усилилось после войны, не остановить его и теперь.
Надо сказать, что некоторые из выселенных потом приезжали в родные места с Урала, из Сибири – посмотреть. Все они жили гораздо лучше, чем наши колхозники. Оно и понятно: они же прекрасные труженики, их в новых местах ценили и хорошо платили.
То было время беспощадной ломки единоличного уклада крестьянской жизни, утвердившегося за долгие годы. Метод диктата, бесцеремонного принуждения оттолкнул многих людей от колхозов. В наших местах уже в те времена народу в деревне осталось совсем мало по сравнению с тем, что было до коллективизации.
Когда пытаюсь теперь осмыслить события тех лет, прихожу к выводу о преждевременности коллективизации в наших краях. Сама идея кооперирования мелких единоличных хозяйств была, наверное, правильной. Однако излишняя поспешность, да еще и недопустимые методы погубили всё дело, и теперь его уже не исправить.
Что могло дать объединение, если не было не только тракторов, а вообще никаких машин? Поспешное обобществление коней, требование обязательной перетасовки их между ездовыми ухудшило уход за лошадьми. То же произошло и с коровами, с инвентарём и т. д. Резко упала производительность труда, ухудшилось качество работы.
И, наконец, главное. Не убедив крестьян на деле в преимуществах коллективного труда, добились обратного – пренебрежения ко всему общественному, как к ничейному. Красть, ломать, как попало бросать колхозное стали открыто. Кто и видел – молчал, потому что не жалко. На улице, под открытым небом стояли не убранные под крышу, как это было у заботливых хозяев, телеги на зиму, а сани на лето. В канавах валялись плуги, бороны, оглобли, поломанные колёса, рваные хомуты …
Председатели колхозов, счетоводы, бригадиры – часто наиболее болтливые и юркие мужички из бедноты – после всякого рода совещаний в сельсовете, а то и в райцентре “соображали” напиться не за свой счет, возвращались домой еле живыми, иногда потеряв лошадей и друг друга.
Народ сочинил песенку:
Бригадиры заходили,
Счетовод песни запел,
Председатель завертелся,
Видно, выпить захотел.
Выпить было легко: тайно пропивали колхозное зерно, давали “по блату” подводу и т. п.
Городские ругались: “У, колхозник!..”
А ведь колхоз, если бы он на деле был коллективным хозяйством самих крестьян, – это же лучшая форма! И – никаких совхозов в деревне! Только колхозы, но – чтобы управляли сами колхозники.
Пымаешь
Всю ночь выла вьюга. Между крыльцом сельсовета и дверью конюшни намело сугроб. Дежуривший в ту ночь мужичонка по прозвищу Пымаешь раза три намеревался пойти к лошадям, напоить и задать корма, но всякий раз, приоткрыв дверь, тут же её захлопывал. Ветер, казалось, подхватит его самого, сорвет с крыльца и бросит в объятия снежной бури.
“Ладно, погожу, пымаешь, может, к утру перебьёт”, – думал дежурный, накрываясь с головой полушубком и вновь засыпая на лавке. Во сне видел Носко. Тот страшно ругался и замахивался казацкой нагайкой. В страхе Пымаешь просыпался и шёл опять к двери, прислушиваясь к вою ветра. Показалось, за дверью стоит Носко, вот сейчас войдёт. Ну, пропал тогда! Открывал в страхе дверь, и в лицо било колючим снегом. Закрывал, возвращался к тёплому стояку. Сидел, думал.
“Вот, пымаешь, оказия. Хоть бы пету́н пропел, знал бы, скоро ль свет… Построились, пымаешь, за версту от деревни, петуна и того не слыхать…”
Снова клонило в сон. Нет, нельзя спать. Надо же сходить к лошадям. Пымаешь зажёг фонарь, застегнул на все пуговки полушубок, нахлобучил ушанку, надел шубные рукавицы – и пошёл. Ветер не утихал, пламя в фонаре прыгало, чёрной копотью покрывая стекло. Пришлось фонарь спрятать под полу полушубка. В конюшне – бывшем гумне – почувствовал облегчение от ветра и пурги. Вытряхнул снег из валенок.
Лошади мерно хрумкали клеверным сеном. Пымаешь осмотрел кормушки, повесил фонарь на гвоздь, убрал навоз. Делал всё не спеша, аккуратно, знал – Носко не потерпит беспорядка у лошадей. “Вот бы, пымаешь, пришел сряду, увидел бы меня за работой – совсем, пымаешь, другое б дело”, – думал мужик, набирая охапку сена.
Труднее было с водой. Ту, что была в бочке, он израсходовал с вечера. Идти же в такую непогоду ночью искать колодец или прорубь в мочиле было делом безнадёжным. В Сорокине с водой вообще было худо. Даже ручейка поблизости не было. У каждого жителя свой колодец.
Пымаешь опрокинул бочку, вылил остатки воды – набралось два неполных ведра. “Эх, маловато, ну да ладно”, – и дал сперва жеребцу Носко, а потом кобыле Гранова.
Покончив с делами на конюшне, Пымаешь возвратился в сельсовет, растопил стояк. Мало-помалу забрезжило в окнах. Ветер ослабел, вьюга успокоилась.
Носко всегда приходил на работу раньше всех. Рано пришел и в этот раз. В черной шубе и кубанке, в валенках и меховых рукавицах, он – по всему видно – собрался куда-то ехать. Небрежно буркнув на приветствие дежурного, спросил о лошадях. Пымаешь бойко ответил, что обе лошади всю ночь ели клевер.
– Сыты, пымаешь, сыты, – заключил он.
Носко направился к выходу. “Слава богу, пымаешь, пронесло”, – с облегчением подумал мужик и решил пойти расчистить прорубь на Тимошкином пруду. Зашел в сарай за лопатой и ведром. Там Носко запрягал в санки своего Кобчика.
– Поил? – спросил строго.
– Поил, пымаешь, поил, по полному ведру выпили, – затараторил Пымаешь и пошел на пруд. Он был уверен, что Носко уедет.
Но Носко не уехал. Увидев в конюшне пустую бочку, он решил проверить дежурного. Дождался, когда тот принес воды, потребовал:
– Дай! – и, взяв ведро, поднес коню. Тот сначала пофыркал (вода-то ледяная), но затем стал пить, цедя сквозь зубы. Выпил всё ведро до дна.
Носко, подавая ведро, приказал:
– Неси ещё!
Пымаешь, схватив ведро, побежал к пруду. “Вот беда, вот беда”, – повторял он про себя и жалел, что сперва взялся топить печку, а не расчистил прорубь, не принёс воды и не напоил лошадей.
Второе ведро с водой конь понюхал, но пить не стал. Носко поставил ведро и шагнул к побелевшему мужику. Тот знал, что в гневе Носко может огреть нагайкой, но нагайки сейчас не было. Может, пронесёт, подумалось, а уж ругань-то он стерпит любую.
Резкий удар кулаком в ухо свалил его на пол.
– Встань, – тихо сказал Носко.
Пымаешь поднялся.
– Врать будешь?
– Так ить поил…
– Врать будешь?!
– Не-е…
– Будешь дежурить ещё сутки, – сказал Носко и уехал.
Новые праздники
В 1932 году в Сорокине открыли ШКМ, и наш 5-й класс был в ней и единственным, и старшим.
Весна 1933 года выдалась дружной. 1 мая из окон школы мы увидели, как в Сорокино со стороны Тиней двигались толпы людей с красными флагами. Нас тоже построили возле школы и повели к сельсовету. Там была сколочена простенькая трибуна, на которой уже стояли Носко, Гранов и еще несколько человек. На площади выстроились колонны нарядно одетых людей: школьники из четырёх местных школ, колхозники, служащие. Позади колонн стояла любопытствующая неколхозная молодёжь.
Ничего подобного раньше мне видеть не приходилось. Я запомнил тот день как народный праздник. Организованный, совершенно не похожий на ярмарки с пьяными драками. Очень мне всё это понравилось.
Первым выступал Гранов, потом долго говорил Носко. Ему аплодировали, кричали “ура”. Я тоже кричал: восторг наполнял мою душу. Выступали секретарь комсомола, учителя, служащие, председатели колхозов – многие выступали, а Гранов всё вызывал и вызывал новых ораторов. Некоторые стеснялись, речь у них не получалась, в толпе смеялись, но аплодировали.
Потом школьники, а за ними и взрослые пели “Смело, товарищи, в ногу” и другие новые песни.
После митинга комсомольский секретарь Николай Мамаев показывал упражнения на турнике и брусьях. Парни пробовали тоже, но редко кто даже подтянуться смог больше трёх раз. Лишь Петя Шлеёнок из Пожен подтянулся двадцать раз, чего не смог и сам Мамаев.
Митинги у сельсовета 1 мая и 7 ноября вошли в традицию. Только после войны их почему-то заменили заседаниями накануне вечером, назвав торжественными. Однако никакой торжественности, да и самих праздников уже не стало.
Сельсовет
Носко никогда и никуда не уезжал втихомолку. На запряжённой ли в санки, осёдланной ли лошади – сначала покрасуется перед окнами сельсовета, проедет взад-вперед, и уж тогда только уедет. Трудно сказать, проверял ли он тем самым готовность к дороге, показывал ли людям свою требовательность, или просто удовлетворял свою казацкую прихоть. Под седлом Кобчик танцевал, и Носко красовался на нем, словно артист. Все, кто были в сельсовете, выходили на улицу смотреть. Не дивиться красоте, слитности седока с конём было нельзя. Кубанка, кожаная тужурка, подпоясанная и перехваченная крест-накрест на груди и на спине ремнями, галифе с широкими красными лампасами, сверкающие хромовые сапоги – всё гармонировало с крепко сбитой, ладной фигурой смуглого, чуточку горбоносого, черноусого казака.
Были раньше у крестьян-единоличников кони и получше Кобчика. Были и санки и тележки выездные. Были и гонки зимой в санках. Всё было до коллективизации. Но вот сёдел и верховой езды почему-то не было. И сам я не видел, и никогда не слышал о верховой езде в наших краях. Видимо, потому с таким интересом и смотрели на гарцующего Носко.
Однажды он уехал в колхозы подгонять завершение весеннего сева. На то были причины: вечером должен был приехать новый предрика (председатель районного исполнительного комитета) и на пленуме сельского совета вручать переходящее красное знамя. Сельсовет первым в районе завершил весенний сев. Такое было впервые – в наши края всегда поздно приходила весна, недели на две позже других начинали пахать и сеять, последними и заканчивали. И вдруг Носко всё перевернул! Вот тебе и двадцатипятитысячник, ай да казак!..
Сев, конечно, ещё шёл полным ходом, и план выполнен не был. Однако Носко приказал председателям колхозов отчитаться о выполнении, а некоторым – и о перевыполнении плана. Передовым он хотел быть, ему это было нужно, но на знамя он никак не рассчитывал. Заметка в газете, похвала – другое дело. А тут – знамя! И едет сам Быстров.
Тогда еще не было уголовной ответственности за приписки. Но и люди врать еще не научились.
– А как же, Андрей Васильич, а если спросят про план, что я скажу? – волновался демехо́вский председатель Григорий Ефимов. – Надо ж сказать, какой план и сколько посеяно.
– А ты не бойся, – отвечал Носко. – И запомни: если кто из начальства застанет – говори смело: сеем сверх плана.
Носко было недосуг подолгу беседовать с каждым, надо успеть объехать всех, предупредить. И чтобы явились на вручение без опоздания, и выступали, если понадобится, без боязни. А приехать в Демехо́во не на чем тому же и Быстрову. Не пойдёт же пешком. Пешком он может дойти до Тиней только. А там Макаров не растеряется.
Быстров, как оказалось, и не собирался проверять колхозы. Достаточно и того, что трясся по бездорожью на линейке 28 километров.
На пленуме в торжественной обстановке Носко принял знамя от Быстрова. Говорилось много об успехах, которых добился – “в тяжелейших условиях!” – Сорокинский сельсовет под руководством товарища Носко.
В том же году Носко перевели работать в более крупный, Верхнемо́стский сельсовет. Тому предшествовала публикация в окружной газете “Псковский набат” очерка, где возносился до небес “посланец питерского рабочего класса”…
В Сорокинский сельсовет прислали Фёдорова. Какое-то время он работал, и лишь потом был избран на общем собрании.
Я учился в шестом классе, но уже тогда обратил внимание на странность выборов. Как же так, думалось мне, Носко не присутствует, а его голосованием освобождают. Приехал Фёдоров, принял дела и уже работает, а его только сейчас избирают. Конечно, тогда я ещё не знал порядков, по которым люди становятся начальниками. И такая смена председателей сельского совета меня удивила.
Дядя Федя Копыткин, муж моей тётки, тоже присутствовал на том собрании. И когда он был у нас в Ласко́ве в гостях, я поделился с ним своими сомнениями. Он очень заинтересовался моими умозаключениями, а потом громко, чтобы все слышали, сказал:
– Ну-у, сын, ты далеко пойдёшь.
И, уже обращаясь к папаше, заключил:
– Ты подумай: сколько народу было, а никто на это и внимания не обратил. А он, ребёнок, заметил. И правильно заметил, вот что. Ну и ну…
Папаша, однако, не заинтересовался и разговора не поддержал.
Во время учебы в Сорокине я часто бывал в сельсовете на разного рода собраниях. Уже не совсем детский ум внимательно за всем наблюдал. Мои симпатии были всегда на стороне проводивших собрания, и я от души завидовал тем из них, кто умел хорошо говорить и убеждать. Эти люди, особенно те, что приезжали из района, казались мне гораздо более знающими, чем мои учителя. Я постоянно торчал в сельсовете, ко всему присматривался и прислушивался, знал всех уполномоченных, председателей, названия первых создаваемых колхозов. Внимательно прочитывал всю районную газету “Славковский льновод”, из неё знал всех руководителей района и даже Псковского округа.
До моего назначения в августе 1935 года учителем в Шумайскую школу я наблюдал работу сельского совета, так сказать, со стороны. Став учителем, познакомился с ней ближе. Сельсовет закрепил меня агитатором за колхозом “Красные Разло́мы” в деревне Демехово.
Радио тогда не было, газеты мало кто читал. После занятий в школе я проводил собрания по разъяснению вопросов внутренней и внешней политики. Собрания проходили оживлённо. Говорили все. Слова никто не просил, его “брали” кто когда хотел.
Ничто не мешало мне иногда закончить собрание пораньше: я его открывал и закрывал, сам писал короткий, на одной страничке, протокол, давал тут же его подписать председателю и секретарю.
А после собрания я спешил на свидание в Тинеи…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































