Текст книги "Ласко́во"
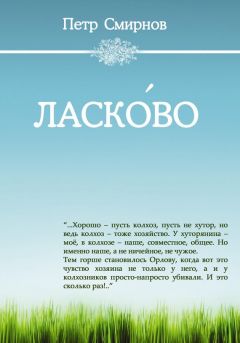
Автор книги: Петр Смирнов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Толока
Еще вчера папаша и тятяша принесли из-под навеса рогулю. Затем папаша снял с дрог задние колеса, подкатил к рогуле, смазал, надел на ось, прокрутил, приподняв, и закрепил заторчками.
Бабуша с мамой наготовили праздничной еды. Работников много, работа тяжелая.
Меня разбудили на заре. В избе уже курили за разговором мужики, приехавшие помогать: из Махновки – дядя Лёшка, муж папашиной сестры Нюши, с сыном Колькой; из Тереховки – дядя Ваня Гусак, муж маминой сестры Орьки (Арины), с дочерью Нюшкой. Наши деревенские ждали на улице, пока папаша и тятяша разбирали зáдруги (вставные жерди), чтобы можно было ездить прямо через двор. Семеро лошадей были уже запряжены. Люди толпились, переговариваясь и посмеиваясь.
Я поднялся сразу, наскоро ополоснул лицо из рукомойника и побежал к своей рогуле. Папаша помог влезть на Ваську верхом, дал в руки повод. Сам, держа коня за узду, подпятил рогулю к хлеву, и мужики стали вилами набрасывать навоз.
Я прикидывал, кто из повозников может меня обогнать.
Конечно, я знал всех лошадей и повозников. У махновского Кольки конь лено́й, бегать не любил. Когда его стегали кнутом, он только усиленно махал обрезком хвоста. (В Махновке на хуторах кто-то ночью обрезал всем лошадям хвосты, чтобы сдать волос на спирт-денатурат). Тереховский конь старый, спокойный, повозником на нем наш Митька. Из наших, деревенских, обогнать меня некому: у тети Матрены кобыла молодая, так она сама старая, поедет только шагом. У других ребят лошади в беге уступали нашему Ваське – это проверено, когда гоняли коней в поле.
На полосах, куда возили навоз, за старшую была мама. Она указывала свои полосы и – где гуще, где реже сбрасывать навоз. Сбрасывала Нюшка Гусакова, а девки разбивали его по полосе ровным слоем.
В повозниках я уже бывал, управлять лошадью умел, однако сидеть верхом позади седёлки или стоять на оглоблях было не совсем удобно. Особенно если обратно с пустой рогулей ехать рысью. Хотелось как взрослые – туда, с поклажей, степенно идти рядом с телегой; обратно – стоять на рогуле, держа вожжи. Но папаша опасался, что ненароком упаду под колеса, и не разрешал. Митька тоже ездил верхом, а вот Ваня Тимохин и Колька махновский – как взрослые, на вожжах. Пусть, думал я, Митька и Коля Бобкин – верхом, они младшие, но я-то ведь ровесник Ване да Кольке махновскому…
Сперва начали удобрять дальние полосы – на Тя́миной деревне, пока еще не утомились лошади. Потом переезжали на ближние.
До первого завтрака (до “перехватки”) подводы шли друг за другом в определённом порядке. Возвращаясь порожняком, приходилось уступать дорогу встречным подводам, а последнюю заставать под погрузкой. Мужикам во дворе, а бабам на полосе отдыхать было некогда.
Часов не было, время определяли по солнцу. Например, говорили:
– Ого! Солнце уже в перехватку, а Груня только печку затопила.
Или:
– Солнце-то уже к обеду клонит, зато и есть захотелось.
– Скоро шабаш: солнце за́ лес покатилось.
Когда солнце поднялось в перехватку, последнему повознику с поклажей велели передать бабам, чтобы шли “перехватывать”.
Лошадей, не распрягая, оставили кормиться свежей травой, которую тятяша откосил и разложил вдоль изгороди. Для угощения работников бабуша напекла овсяных блинов с маслом и сметаной. Ели по очереди: сначала копцы́, затем повозники, и, наконец, подошедшие с поля разбивальщицы.
Подкрепившись, опять приступили к работе.
Ездить надо было через всю деревню. На улице уже играли маленькие ребятишки. У своих домов копошились старики.
Выехав за деревню, я всё же решился слезть с коня и править вожжами. И тут обнаружил, что вожжей-то и нет. Пришлось по оглобле снова взбираться на коня. Меня обогнал Митька, первым приехав и на полосу, и во двор.
– Ну что, хрен моржовый, – поддел меня Гусак, – заснул?
Пришлось признаться, в чём дело. Папаша принес вожжи и завож– жа́л коня, наказав мне ездить тихо. Я сразу почувствовал себя взрослее: когда ехал с навозом – гордо шагал сбоку, а обратно – нарочно гнал коня рысцой, чтобы телега грохотала и все видели, как я ловко стоя правлю вожжами. Вскоре я обогнал Митьку, но меня стал тревожить Ваня Тимохин, обогнавший сразу и Колю Бобкина и Митьку. Тимоха, самый молодой среди копцов, смеялся над ними:
– Эх, вы, на таких-то конях поддались моему Ване! А ещё взялись навоз возить.
Другие хозяева жалели своих лошадей и старались не подзадоривать нас на быструю езду. Егор Бобкин говорил своему Коле:
– Не беда, не беда, езди как ездил.
Папаша тоже не любил, чтобы коня гоняли без нужды, но промолчал. Я всё-таки не верил, что Ваня меня обгонит. И тут, когда я возвращался порожняком, меня вдруг остановил у своего дома дед Бобка:
– Пе-еть, постой-ка!
Я остановился.
– Гляди-ка: у тебя ось-то в колесе.
Пришлось слезть с телеги, осмотреть оба колеса. Вроде всё на месте – колеса, заторчки. И ось на месте. А дед ушел в избу. Ладно, думаю, приеду – скажу папаше. И тут мимо меня прошмыгнул на сивой своей кобыленке Ваня.
Пока загружали Ванину телегу, я стоял и едва сдерживал слезы: скоро выпрягать на завтрак, а я утерял свое законное место. За это меня постараются облить водой из ведра, если не убегу. А позору сколько!
– Чего ты стоял там? – спросил папаша под насмешки Гусака и других.
– Дядя Вася (так звали Бобку) сказал, что у меня ось в колесе.
Мужики захохотали. Кто-то спросил у меня:
– А где же должна быть ось, как не в колесе?
Папаша успокоил:
– Дурачок, ось и должна быть в колесе. Это дед пошутил.
– Вот снимешь колёса, тогда ось не будет в колесе, – сказал дядя Лёшка.
– А то ещё скажут: “заяц” в хомуте. Меня, помню, так поймали, как сейчас Петьку, – рассказывал дядя Миша.
Но мне от этого легче не было: Ваня-то ездил теперь впереди меня и уже наступал на пятки тёте Матрене. Я, расстроенный, даже не спросил: что значит заяц в хомуте. Уже потом тятяша объяснил и показал, где “заяц”. Оказалось, что это самый верх сомкнувшихся клещин, которые в зимнем, возовом хомуте обшивали кожей, а в летнем, пахотном – толстой мешковиной. В любом хомуте есть “заяц”, так же как в любой телеге есть ось в колесе.
…Уже над Каменкой поднялось и жарко палило летнее солнце. Рой слепней кружил над лошадьми и жалил их до крови. Повозники одну за другой ломали ольховые ветки, отгоняя слепней. Но это мало помогало. Самый леной конь Бобкиных, и тот побежал даже с возом. Подгоняемые слепнями сильные кони Митьки и Коли Бобкина с возами на пашне обогнали часто останавливающуюся кобылу Вани Тимохина. Обидно было уступать Ване завоёванное место. Тем более что перед тем моего коня первым подпятили к хлеву, хотя подъехали мы с Ваней вместе. Не выдержал Ваня, заплакал. А мы с Митькой и Колей были довольны, что всё встало на свои места.
Наконец папаша объявил, что все едут последний раз, и будем выпрягать на завтрак. Из-за жары и слепней отпряжённых лошадей не погнали в омшáру (болотце), а спрятали во дворе, в тени и на сквозняке, задав травы.
Позавтракав, люди постарше легли отдыхать, а молодежь носилась друг за другом и обливалась водой. Мне удалось облить Олю Бобкину. Но вскоре она меня подловила и с помощью Клавди Мишиной посадила в мочило. Не избежали той же участи и другие мальчишки, но зато и девок всех пообливали…
И опять за работу. Упряжка между завтраком и обедом – самая трудная. Нещадно палит июньское солнце. Ни в тень спрятаться, ни в мочиле искупаться. Бьются кони, пожираемые крупными, как жуки, слепнями…
После обеда моего коня запрягают в плуг, и Нюшка Гусакова едет пахать. На остальных лошадях продолжают возить навоз. Тётя Матрена оставляет мне свою лошадь, а сама уходит домой.
К заходу солнца работа кончена.
На другой день папаша и Ваня Мишин все полосы с навозом запахали.
А потом – толока у Бобкиных.
По часам рабочий день в толоку был таким:
– с 4 до 9 утра – первая упряжка, с получасовой остановкой для перехватки (часов в шесть);
– с 9 до 11 – завтрак, выпрягание коней;
– с 11 до 15 – вторая упряжка;
– с 15 до 17 – обед, выпрягание коней;
– с 17 до 22 часов – третья упряжка. Затем ужин и разъезд участников толоки по домам. Ночевать не оставался никто – назавтра у всех такой же напряжённый рабочий день.
Ровесники
Я помню себя с четырех лет.
На святках не работали. У нас собирались на посиделки молодухи с детьми. Мы играли на печке. Помню разговор мамы с Дуней Тимошихой:
– Петьке уже четыре, пойдет пятый.
– И Ваньке пятый пошел. Да мы с тобой ведь в одну зиму родили. Ай забыла?
Мы на печке из-за чего-то поссорились. Я изо всей силы тянул за оба уха Ваньку, а он орал дурным голосом. Вообще-то он был смелее, но в тот раз я, видимо, увереннее чувствовал себя на своей печке. Матери сняли нас с печи и помирили:
– Дураки, ведь вы ровесники, вместе в солдаты пойдете.
Но в солдаты нам вместе идти не пришлось. Ваня лет в тринадцать уехал в Ленинград, и мы больше не встречались.
В Ласко́ве нас росло три пары ровесников: я и Ваня 20-го года, брат Митя и Коля Бобкин – 21-го, брат Вася и Дуня Тимохина – 23-го.
У Тимохи позднее родились еще Нина, Маня и Поля.
Как же дальше сложилась судьба ласковских детей?
Коля Бобкин уже пошел в школу, когда родители увезли его в Ленинград. Там он попал под автомобиль и погиб. Наш Митя и Ваня Тимохин погибли на фронте.
В блокадном Ленинграде погибли Дуня, Нина и Маня Тимохины. Поля живет где-то в Эстонии. Из девятерых осталось трое: я, Вася и Поля.
Такова судьба нашего поколения.
Предки
Хлебы пекли дома. Пораньше, для тепла, закрывали трубу и, чтобы не угореть, уходили к соседям, где в этот день хлебы не пекли. Приходили и к нам. Собравшись ранним зимним утром, старики вспоминали разное. О своей деревне тоже.
– Говорили, какой-то Ягуп тут жил. И деревня, говорили, или хутор тут Ягуповом назывались.
– Никто этого не помнил. Так – передавали один другому.
– Стало быть, кто-то помнил, раз передавали. Откуль же взялось?
Я слушал стариков, открыв рот. А они – тятяша, дядя Миша, Бобка, Иван Макаров – продолжали:
– Не так, недаром, итта, названы: Тя́мина деревня, Китóво гороховище, Федулихина нива.
– Знамо, не так. Жили когда-нибудь Тяма, Кит, Федулиха.
– Раз Федулиха, стало быть, и Федул был.
– А вот не зовётся Федулина нива, а Федулихина. Может, вдова была.
– А вот за что – Ласко́во?
– Никто не знает, не говорили про то.
Потом я узнал, что дядя Миша когда-то отделился от нашего тятяши, своего брата, а тятяша остался на отцовском подворье. Бабуша Дарья Степановна была родом из деревни Жгилёво. Моя мама, Евдокия Яковлева, родом из деревни Махновка.
У меня по отцовской линии получилась такая родословная:
Прапрадед Антон жил примерно в 1800-1870-х годах.
Прадед Тимофей Антонов – в 1830-1900-х годах.
Дед Алексей Тимофеев жил с 1864 по 1944 год.
Отец Василий Алексеев – с 1890 по 1966 год.
Когда же и с кого началось Ласко́во – того никто сказать не мог.
Платон
Окна заиндевели от мороза. Не видно, что делается на улице. Только иногда слышен скрип полозьев проезжающих мимо дровней.
Я стою на лавке и дую в “глазок” на стекле. Вижу, как Егор Бобкин и Макаровы Ваня и Тимоха возят из лесу хворост и складывают у своих дворов. Папашу и Ваню Мишина мне не видно, потому что они не ездят мимо окна.
Тятяша, чтобы поддерживать тепло, жжёт лучину на заслонке посреди избы. Около него вертится Митька. Мама, накормив грудного Ваську, кладет его в зы́бку и качает её ногой за верёвку. Зыбка подвешена к потолку на пружине, которую называют “поскакухой”. Другой ногой мама крутит немецкую прялку. Бабуша возится у стола и печи.
А я все дую и смотрю в глазок.
Вдруг мимо окна кто-то быстро-быстро проехал на красивейшей лошади и невиданных санях! Возле Бобкиных остановился, привязал лошадь к кольцу у ворот и пошёл в избу.
– Во-о, тятяш, погляди-ка! – крикнул я. – Кто-то к Бобкиным приехал!
Тятяша подошёл, подул в глазок, посмотрел и сказал:
– Платон трави́нский зачем-то приехал. Кобыла хорошая. Рысистая. А сани – одна скамейка, только один и сядешь.
– Платон Васи-ильич, – поправила мама.
– Беда там (т. е. ну уж) – Васильич. Платон – он Платон и есть.
– Платон-то, ясное дело, Платон. Да не нам ровня. Зато и Васильич, – не отступала мама. – Травино́, как-никак, село. Там всегда богатые жили. Да и теперь у Платона – лавка. Не зря на рысаке приехал.
– Рысаков теперь много, – не отступал и тятяша. – Вон у Пети кула́йковского, Бала́бы долгу́шенского рысаки получше платонова.
Помолчав немного, продолжал:
– Это раньше были богачи. Отец Платона, дед Вася, пустошь имел. Земли, лесу сколько было. А Платон – что? Хутор не больше других. Работников нет, только своя семья. Так что Платон и Платон.
Пока мама с тятяшей говорили о Платоне, я любовался в глазок на лошадь и санки. Бобкина Оля выскочила из дому и в одном платье, босиком по снегу побежала к нам. Этому я не удивился – Бобкины все были крепкими, холоду не боялись. Прибежала и сразу с порога:
– Дядя Лексей, скотины нет ли продажной? Платон спрашивает.
Оля дышит глубоко, полная грудь ходуном ходит, голые лодыжки пунцовы от мороза. Тятяша, опустившись на колено, не спеша щепает лучину, подкладывает на заслону:
– Пусть зайдет Платон. Поглядит – так, может, и купит. Есть тёлка.
Олю как ветром сдуло. Пришел Платон, потом папаша. Тёлку сторговали, получили задаток.
Платон имел двухэтажный деревянный дом. Занимал с женой половину нижнего этажа, во второй помещалась лавка. На втором этаже в разных комнатах жили его дети. Одна из дочерей, Анастасия Платоновна, была учительницей Махновской школы.
Мешал ли кому-нибудь Платон? По-моему – никому. А помогал – всем. Мне сперва вместе с отцом, а потом и одному приходилось ходить в лавку к Платону. Сын его, Миша, денег с меня не требовал, долг записывал в тетрадь. Папаша рассчитывался после.
Неходовых товаров в лавке не было. Было всё, что нужно крестьянам: серп, коса, мыло, спички и самый дешёвый ситец. В город-то “раз в год по завету” ездили, да и то не все. Тятяша, к примеру, поезда не видывал за всю свою жизнь. О бабах и говорить нечего.
А лишний скот куда сбыть? Государство не принимало. Платон, конечно, имел доход и от лавки, и от закупа скота. Так ведь и теперь ни один заготовитель не работает без барыша.
Ни в те годы, ни потом я ни от кого не слышал худого слова о Платоне.
Когда началась коллективизация, Платона с семьей ночью куда-то увезли. Объявили, что он очень опасный классовый враг. Дом реквизировали для сельсовета, а имущество пустили с молотка.
Такую меру для Платона никто и никогда не оправдывал.
Бобка
Не знаю, за что его Бобкой прозвали и когда – в детстве или уже взрослого. Был он невысок, кряжист. Не курил. Из трёх его сыновей тоже никто не курил. Забежишь, бывало, к ним во время обеда – вся семья за столом, хохочут по любому поводу. Сам дед был первый выдумщик и насмешник, да и другие не отставали.
В Ласко́ве было всего две бани: Бобкина и наша. В нашу ходили мы и Мишины, а в Бобкину – все остальные. Топили по субботам по очереди.
Зимой в любую погоду Бобка ходил в баню без шапки, босиком, в одной домотканой рубахе с расстёгнутым косым воротом, в домотканых же штанах. Подмышкой веник и смена одёжи.
В бане мыл только голову, а тело распаривал. Залезет на полок и стегает себя веником. Распарившись до красноты, выскочит на улицу и – бух в снег! Катается в снегу, покрякивает. Потом опять бегом в баню, на полок. Опять парится так, что другие и на полу усидеть не могут, выбегают в предбанник. А Бобка жарит себя веником да ещё и кричит:
– Поддай, поддай, кто там есть! Эх, едят твою мухи, все убежали! Эй, Егор, Миша, поддайте еще!
Кто-нибудь быстро входит, черпает ковшиком воды, кидает на каменку. Сам пулей вылетает в предбанник. А Бобка парится. Напарившись, идет с ведром к колодцу и “окачивается” ледяной водой:
– Эх, хорошо, едят твою мухи!.. Слава богу, теперь можно одеваться.
Домой идет опять босиком, с непокрытой головой.
Вороной мерин у Бобкиных был конь рослый, но страшно лено́й. Работал на нём Егор – только у него одного хватало терпения. Вот едет Егор на рогуле за сеном. В поле его ждут – не дождутся жена Машка и сестра Оля. Нервничают. Другие гонят лошадей рысью. Сено высушено, не дай бог дождевая тучка наскочит – вся работа насмарку, начинай сначала.
А Егор погоняет коня по-своему. Левой рукой держится за спицу (стойку), а правой непрестанно дергает вожжи:
– Но-х, но-но-но-но.
– Што-што-што-што-што.
– Пошёл, пошёл. Ну, давай, давай.
– И-ишь ты, пошёл, пошёл.
А конь идёт себе, как ему хочется.
Дед Бобка в сарае “тискает” сено. Проку́дна ему егорова езда: уедет Егор за сеном – не дождаться обратно, хоть сам иди да подгони. Привезёт Егор воз, дед ему скажет:
– Ты, Егор, отдохни-ка. Дай-ка я разок съезжу, погляжу, много ли там осталось.
Егор перечить батюшке не смеет (Бобку все дети батюшкой звали). А конь деда уже знает: только тот встанет на рогулю и возьмется за вожжи, сразу голову выше и шаг шире. Но пока не бежит. Дед вожжи – в левую руку, а правой выдергивает из телеги спицу и – хвать коня по спине! Да еще раз! Да еще раз! Конь уже бежит трусцой. Дед опять замахивается спицей. Конь переходит на галоп, телега гремит. Пёс Мильтон откуда-то выскакивает, забегает вперед и радостным лаем приветствует быструю езду.
Бобка спицу обратно воткнул, вожжи взял в обе руки и коню выговаривает:
– А-а-а! Вот так, едят твою мухи, у меня – не у Егора, пойдёшь так пойдёшь.
Бобкин средний сын, Ваня, мой крёстный отец, и Мишин Ваня были уже настоящими парнями, обоим было лет под тридцать. Ласко́во праздновало Покров (14 октября), молодежь после обеда собиралась на ярмарку в Махновке.
Там у нас была “двойная” родня: мамины родители и папашина сестра, тетя Нюшка. Поэтому в Махновку к своим двоюродным братьям и сёстрам мы и так бегали часто. Ну а в праздники и подавно – очень хотелось быть на ярмарке.
Народу на ярмарке – “как водой налито”. Три-четыре гармони ревут не умолкая. Подвыпившие, а то и крепко пьяные ма́льцы (парни) горланят песни. Молодежь по двое, по трое ходит по улице вдоль деревни, люди постарше стоят ближе к домам, любуются. Бабам особенно интересно, кто с кем идет, кто – пара, кто – не пара. А нам, ребятишкам, интересно другое: где начнётся драка. Поэтому мы гурьбой ходим вровень с компанией мальцев, поющих “взадор” частушки. Драка возникает то в одном, то в другом краю ярмарки. Народ с визгом разбегается в стороны, а мы лишь отходим немного, чтобы видеть, чья берёт. По окончании драки толпа опять смыкается и ярмарка продолжается.
Вот заволновались в нашем краю, т. е. там, где живет наша родня. Мы – туда. Оказалось, с кем-то заспорили наши, ласковские мальцы Ваня Бобкин и Ваня Мишин. Вдруг как из-под земли вырос дед Бобка, подскочил к “ломающимся” во хмелю своим мальцам и р-раз! – сына по уху. Развернулся и р-раз! – Ваню Мишина по уху. Еще замахнулся на сына, а у того уже и хмель вон:
– Батюшка, прости! Батюшка, прости!
Оторопел и Ваня Мишин, увидев перед собой Бобку со сверкающими гневом глазами:
– Да что ты, дядя Вася!? Мы это – так! Прости, мы не будем!..
Девки – Оля Бобкина, Клавдя и Нюшка Мишины, как и все сёстры холостых парней, глаз с них, подвыпивших, не спускали. Они-то их и унимали, не давали сойтись с соперниками. Бобку никто здесь не ждал и вроде бы и не видел до этого. А он уже искал глазами какой-нибудь “комелёк”, чтобы добавить расшумевшимся бойцам:
– Я вам покажу, едят твою мухи, я вам покажу. Ишь, гулять пришли, а сами, едят твою мухи, драцца надумали!.. Я вам подерусь!
Даже те, с кем не поладили наши мальцы, увидев бобкину науку, разом смылись. А уж свои-то, совсем уже трезвые, только и просили прощения.
Когда теперь вспоминаю тот случай, думаю: вот ведь была сила не только отцовской, но просто стариковской власти! Сын-то против отца вообще не мог слова сказать – это закон. Так ведь и соседский сын сразу сник – таков был авторитет старших!
Бобку знали далеко от Ласко́ва. Деревня наша была маленькая, стояла в стороне от большака. Не была в слыхý, как тогда говорили.
Когда мне приходилось бывать в Жерны́льском или в Морозах, то на вопрос, откуда я, надо было отвечать, что от Шумай или от Махновки. А если всё же допытывались, из какой деревни, и я называл Ласко́во, то спрашивали:
– Это – где Бобка, да?
– Да-да.
– Ну, как он там?
– Ничего. Живёт.
Так что Бобка был в слыхý.
Матрёна
– Ах, божья матерь! Голые, совсем голые! Как мать родила! Пляшуть под ёлкой… Божья матерь!
Так рассказывала Матрёна нашим родителям и всем в деревне о страшной (на ее взгляд) картине. Она шла из Éсенки и видела своими глазами, как возле отдыхавшего стада бегали голые ребятишки.
– Я сперва переполо́халась: думала, нецыстая сила какая над скотинкой колду́я. Ить ета страх небесный: скотинка положена, а беси пляшуть под ёлкой…
Наказания на этот раз избежать удалось, но и не похвалили нас дома вечером. Заставили всё рассказать, как было.
А было… можно сказать, что ничего и не было. Пастух Гриша ушёл в деревню обедать, а нас, мальчишек, попросил присмотреть за стадом. Коровы мирно жевали жвачку, мы же носились вокруг одинокой ели, гонялись друг за другом. Солнце припекало, нам сначала пришлось скинуть рубашки, а потом (благо никто не видит) и штаны. Откуда нам было знать, что нас увидела Матрёна. Мы разыгрались и не смотрели вокруг.
Обошлось.
Говорили, что в молодости у Матрёны с Иваном был сын, но умер ребёнком. Больше детей не было. Полоса у них, на два едока, была узкая, словно грядка. Зато резко выделялась урожайностью.
Матрёна ни себе, ни мужу не давала отдыха: крутились от темна до темна, словно белки в колесе, каждый божий день. Даже в воскресенье (прости, господи!), если было сено в копнах или там рожь в бабках, овёс или ячмень в пяткáх, после обеда запрягали кобылу и дотемна возили в гумно.
Рыжий кот Кошуша не отходил от хозяйки ни на шаг, всюду сопровождал ее. И сколько же слез выплакала Матрёна, когда Кошуша помер.
– Ах, божья матерь, – тужила она, – так жалко, так жалко Кошушу. Теперь и поговорить-то не с кем…
Заставила мужа выкопать на Песочке настоящую, как для человека, могилу. Завернула кота в какое-то тряпьё. Несла на руках как ребенка и плакала:
– Ах, Кошуша, Кошуша! Бросил ты меня, горемычную, одну.
На могилке крестик поставила. Да недолго он простоял: ребята вытащили и забросили в кусты, чтоб не маячил перед глазами, когда играли на Песочке. Матрёна жаловалась родителям, но никто ей не посочувствовал.
Иван Макаров лишь формально, по сельсоветским книгам, числился главой семьи. Хозяйкой была Матрёна. Горбатенький муж ходил в послушных работниках у своей жены.
Бывало, идут вдвоём – и всегда одинаковым образом: Матрёна с котом на плече впереди, Иван – шагах в пяти позади. Идут молча. Либо Матрёна беседует с котом, а Иван семенит следом.
Ни с кем в деревне Матрена не дружила, ни радостями, ни горем не делилась. Зналась только со своими сёстрами, приходившими к ней из других деревень.
В деревне все жалели Ивана Макарова. Однажды зимней ночью молодежь, возвращаясь с гулянья, затащила по сугробу на самый конёк крыши дровни и хотела так оставить. Но Миша Бобкин один спустил дровни с крыши.
– По Матрёне – надо б это сделать, а дядю Ваню жалко: ему ж одному не снять их оттуда, – решил он, и все с ним согласились.
Матрёне насолили в другой раз. Дело было летом. После гулянки, ночью, мальцы нашли какую-то тряпку и заткнули печную трубу.
Затопила Матрёна утром печку – дым весь в избу. Проверила вьюшку – открыта.
– Божья матерь, што ж такое? Ва-ань, лезь на потолок, гляди, не обвалилась ли труба.
Иван слазил – всё в порядке.
– Ах, божья матерь, да где ж в порядке, коли дым нейдёт? Лезь, гляди хо́рош.
– Да ить я глядел.
– Глядел, глядел! Наверно, сажей забило. С коих пор труба не цишшена. Дождался. Святая матерь, наградила мужиком. Лезь на крышу, цисти трубу.
Иван поплёлся к Бобкиным за лестницей.
Услышав разговор Ивана с отцом, Миша перевернулся на постели:
– Дядь Вань, ставь бутылку – я твою трубу вмиг вычищу.
Бобка погрозил ему:
– Я те покажу бутылку, едят твою мухи! Сряду вставай и иди. Нашёл шутки…
– А ей-богу, батюшк, не я.
– Не я, не я, едят твою мухи…
Миша быстро “вычистил” трубу. Матрёна топила печь.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































