Текст книги "Ласко́во"
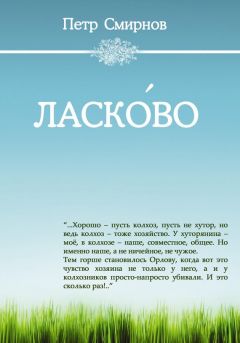
Автор книги: Петр Смирнов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Щепняг
Зимой в избе холодно. Взрослым-то что – они на месте не сидят, всегда что-нибудь делают, и не мёрзнут. Папаша весь день на дворе – то загоро́дки ремонтирует в хлевах, то тешет топором какие-нибудь заготовки, то лён треплет, то хворост из лесу возит. Опять же трижды в день – утром, в обед и вечером – нужно “обряжаться”, т. е. пойти с заплечной корзиной через дорогу в сарай, набить корзину сперва мелким сеном и отнести овцам, потом задать покрупнее сена коню и, наконец, осоку отнести коровам. Мама или рубит хворост, или солому подстилает скоту, а то дежурит у готовой к отёлу коровы. В другое время прядёт или ткёт.
У тятяши главная задача – заготовить на всё лето верёвочную сбрую. И он весь день вьёт то постромки, то вожжи, то повод для узды, то пута. Верёвок надо много в хозяйстве, а тятяша уже старый, работает медленно, часто перекуривает. Бабуша хлопочет у печи.
А нам с Митькой пока делать нечего. Вот нам и холодно на полу.
– Лезьте в щепня́г, – говорит бабуша.
Залезть туда просто: сначала на кровать (так назывался настил из горбыля вдоль задней стены), потом на припечек, а оттуда на печку. Там у стены сушатся щепки на растопку, потому это место и называется щепняг.
В щепняге тепло. Мы делаем из щепок дровни, сани, коней, коров. И мы сами – уже не ребятишки Петька и Митька, а взрослые хозяева, в крайнем случае – пастухи. Уснём, наигравшись и согревшись, и снятся нам настоящие коровы, овцы, лошади…
Взрослые соберутся на обед, зовут нас.
После обеда опять холодно на полу, а в щепняг лезть уже не хочется, надоело. Папаша нащепает лучины, разведёт посреди избы на заслонке костёр. Воздух нагреется, в избе сделается тепло.
– А теперь скорее на постель и под шубу, укрывайтесь с головой!
Однако через какое-то время в избе опять холодно. Одно спасение – щепняг.
Звонки
Звонки́ висели на стене в амбаре.
Амбар – через улицу, из окна избы видно, что туда иногда заходят взрослые за чем-нибудь. На двери амбара всегда замок. Только осенью, когда обмолачивают хлеб, да весной, когда берут семена на посев, вход в амбар свободный. В остальное время он закрыт: хозяева не любят, когда в амбар заглядывает посторонний глаз. Да и от нас, ребятишек, закрывали, чтобы мы не растаскивали горох.
А нам-то интереснее всего были звонки или, как их еще называли, шшáрки. На широкий сыромятный ремень нанизаны через один то обыкновенный колокольчик, то металлический полый шарик с камушком внутри, и все – разных размеров. Ремень с теми звонками надевали на шею лошади и застегивали пряжкой. И делали это только в чью-нибудь свадьбу.
А когда ещё будет та свадьба! Нам хочется “побрякать” сейчас, немедленно. У папаши просить даже не решаемся, у мамы тоже трудно допроситься – оба вечно заняты, им всегда некогда. Один тятяша нас понимает. И вот мы ловим момент, когда тятяша идёт в амбар. Там он снимает звонки с гвоздя, раз-другой тряхнет в руке, а потом даёт мне. Я еще не успеваю натешиться, а Митька уже просит:
– Пе-етьк, дай мне!
– Дай, – говорит мне тятяша, – пусть и Митька побрякает.
Тряхнув еще несколько раз, с большой неохотой отдаю звонки Митьке.
Когда была у кого-то свадьба, к нам заранее приходили просить звонки. Их надевали на шею жеребцу, на котором ехали молодые. А жеребец – не сдержать в руках, пляшет на месте, машет головою, рвёт удила, просит ходу…
Кони наряжены, сани разукрашены.
Поехали!.. Гривы развеваются на ветру, заливаются звонки. Впереди жениховы крёстные – батька и матка – разбрасывают гостинцы, и мы ныряем в снег, хватаем конфеты, пряники. Молодые – на второй лошади, на остальных – гости. Звенят звонки. Поехали!..
Лучина
Зимняя ночь кажется бесконечной. Спать уже не хочется, но вставать нам с Митькой не позволяют, говорят, что ещё рано. А сами уже встали, работают при свете лучины.
Бабуша прядёт. Сидит на скамье спиной к столу, левой рукой, поплёвывая в пальцы, тянет куделину, правой крутит веретено. Мама тоже прядёт. Только сидит она на стуле. Этот венский стул папаша привез из Питера, когда еще был холостым. Большущую жизнь проживёт этот стул, переживёт войну, лишь фанерное сиденье сменится на дощатое.
И прялка у мамы немецкая. Веретено крутить не нужно. Нитка скручивается ровно, и ровно на катушку наматывается. Можно даже и без лучины, впотьмах прясть, но со светом-то вернее.
Обе они – и бабуша, и мама – работают тихо, а вот папаша стучит, что-то тешет топором, попробуй тут уснуть. Да и работа у всех у них скучная. Правда, из папашиных щепок можно было бы придумать какую-нибудь “бóбку”, но это если бы днём, а при свете лучины темно. Слово “игрушка” мы тогда не знали, знали слово “бобка”. И только один тятяша занимается интересным делом. Он щепает и жжёт лучину. Берет с печи сухое полено и большущим ножом отщепляет от него тонкие, во всю длину, щепки – “лучинины”. Поленья хороши берёзовые – лучина тогда горит ровно и тихо.
Щепать лучину нам, конечно, не дозволят. Нам бы хоть зажигать лучинины да вставлять их в светец. Но нам говорят: спите.
Спать не хочется. Мы лежим, накрывшись папашиной шубой. Окна с одной рамой, и для тепла они снаружи почти доверху засыпаны кострой в соломенных матах. В окнах шевелятся тени. Это слабое отражение происходящего в избе. Свет от лучины слабый. Мы знаем, что керосина мало, его берегут для фонаря. Фонарь папаша сделал сам, а стёкла из обрезков вставил дядя Миша, тятяшин брат. У него одного в округе есть алмаз, и к нему приносят рамы, рамки и фонари.
Наш фонарь с малюсенькой коптилкой зажигают только когда нужно пойти посмотреть стельную корову или суягную овцу, либо когда во дворе треплют лён. С фонарём работают по ночам на гумне. А так – всё с лучиной…
Когда печь истопится, угли выгребают на шесток и закрывают пеплом в “ямке”. Там угли “живут” целый день. Понадобится огонь – бери лучинину, выгребай из ямки уголёк и дуй на него, пока не вспыхнет лучина.
Случалось, с лучиной за огоньком бегали к соседям.
Когда всё это было?..
Нищие
Их у нас называли побира́хами или побирашками. Запомнились они своими именами и названиями деревень, откуда были родом.
Дёмка Бельский (из деревни Белое), лет пятидесяти пяти, побираться ходил один. Одет был в рваньё, обут в лапти зимой, в поршни (самодельные калоши) весной, летом и осенью – босиком. На голове – рваный треух, в руках палка – отгонять собак и стращать ребят. Не так мы боялись его палки, как его угроз посадить в холщовую грязную суму и унести в лес.
В деревне Тине́и мужики и бабы – отменные зубоскалы, им бы только посмеяться, хоть бы и над стариком. Обойдет Дёмка деревню избу за избой, направится к околице, а ему вопрос:
– Теперь куда ж, Дёмк?
– В Ха́рино, в Харино пойду.
– Ну-у? К Крюка́м?
Харинских прозывали “Крюками”, а Дёмке показалось, что дорога, мол, будет не прямой, а крюками.
– Каким крюкам, каким крюкам? Тут большак, большак тут.
А тинеинским смешно:
– Не-е уж, Дёмушк, там всё Крюки.
– Какие крюки, какие крюки? Тут всё большак, большак.
Так и шел Дёмка по большаку до Соро́кина и всё удивлялся:
– Какие крюки, какие крюки? Большак тут, большак.
Подружки Шу́шеринские (из деревни Шу́шерино) – три сестры: Дуня, Даша и Саша. Редко ходили в одиночку, чаще – вдвоем, а одна оставалась дома с престарелой матерью. Просили хлеба, но главное – чтобы посадили за стол и накормили. Иной раз и угодить им было трудно.
Приходит “подружка” в дом, а хозяйка печёт овсяные блины.
– Блинков поел бы, – пищит гостья.
– Что с тобой делать – садись, ешь, – говорит хозяйка.
А у самой семья на работе, вот-вот на завтрак придут. Поставила перед подружкой чашку с блинами, в другой чашке – толчёная картошка с молоком. Макай блинами и ешь. То же и семья будет есть, поработав вволю. А подружка, хоть и близорукая, разглядела, что над печью овчина сохнет. Значит, баран зарезан, должны быть шкварки.
Морщится и снова пищит:
– Не-е, хоцу́ каво-нибудь пожирне́и да посолоне́и…
– Не́ уже, – говорит хозяйка, шкварок для тебя нет. А не хошь есть, что дают, стало быть, не голодная.
Обиделась подружка и ушла.
Вася Тюте́хин из деревни Трубецкое, мужик лет тридцати пяти, ходил один, одевался опрятно, сумы не носил, кусков не собирал. Придя в избу, не уходил до тех пор, пока хозяева не пригласят его обедать вместе с собой. Любил девок, собирался жениться.
– Ва-ась, тебе жениться пора, – говорили ему, – что ж ты ходишь, а мамка одна дома.
Вася такому разговору рад. Сидя за столом, делал серьёзное лицо, выпрямлялся, закидывал ногу за ногу:
– Да, надо жениться. Хотел погулять еще, не старый я, а надо жениться.
Понравилась ему в нашем Ласко́ве Клавдя Мишина, и стал Вася ходить в Ласко́во чуть ли не каждый день. Придёт к Мишиным и сидит там до вечера, на Клавдю любуется, хвалит её, просит нарядно одеться.
Клавдя и правда девка красивая, полная, высокая. Любила шутить. И Васе в шутку пообещала выйти за него. Потом и самой, да и всей семье надоели Васины посещения, но как от него избавишься – рассердишь ещё, натворить чего может. Может и хоромы зажечь летом, в сушь, когда вся семья на работе.
Случай, однако, представился. В очередное сватовство Вася предупредил:
– Только маму мою не обижать!
Клавдя быстро нашлась:
– Что-о? У тебя мама жива!? Тогда я замуж не пойду. Я не буду кормить твою маму. Ищи другую жёнку.
Растерялся Вася. Без мамы он свою жизнь не представлял. Как ни хороша Клавдя, мама ему дороже.
Не сразу отстал он от Клавди. Но она, наконец, заявила, что не будет наряжаться и даже с ним разговаривать, пока его мама жива. Такой дерзости Вася стерпеть не мог даже и от Клавди. Он перестал к ней ходить. Даже Ласко́во стал обходить стороной.
В Тинеях ему понравилась Дуся.
– Нарядись-ка, я на тебя погляжу, – сказал он Дусе. Да так пристал, что та, выйдя якобы за нарядами, была вынуждена спрятаться на чердаке. Не дождавшись, когда она выйдет к нему нарядная, обиделся и ушел.
Варуша и Костя Сетро́вские (из деревни Сетро́во) – мать и сын. Побирались то вместе, то врозь.
– Ко-ость, а ты старый стал. Сколько ж тебе годов? – спрашивали его.
Костя стоит у порога, опираясь обеими руками на палку. Обводит глазами избу, что-то подсчитывает, шепчет. Потом вскидывает глаза, отвечает:
– Ага, старый, сорок пять мне.
– Ну-у? Тебе уже сорок пять? А сколько ж мамке тогда?
– Ага, много мамке – мамке сорок.
Косте было лет двадцать.
Через много лет, когда я работал председателем колхоза в Жгилёве, Костя нанялся пастухом колхозного стада. Жена его Настя возила из соседнего колхоза молоко. Когда ехала обратно с порожними бидонами, привязывала лошадь к кусту, а сама шла к Косте. Коровы во время свидания были предоставлены сами себе и травили посевы.
Станешь ругать его – он крик поднимет такой, что не дай бог. Уйти грозится:
– Добавляй плату, нашёл дурака!
Платил ему колхоз зерном или мукой, и деньгами – каждый месяц. Получит оплату – и весёлый, довольный Костя уедет с Настей домой. Съедят большой семьёй хлеб (а у Насти от покойного первого мужа было четверо детей), истратит Настя деньги недели за две, навестит Костю в кустах – бежит ко мне Костя, плату требует, грозится бросить стадо.
– Всё, – говорю, – Костя, уходи. Завтра другой пастух будет.
– А я куда? – уже тихо спрашивает Костя.
– Иди к своей Насте. Это она тебя будоражит, домой зовёт, чтобы ты ушел из пастухов.
Костя совсем смирным делается.
– Не-е, Пётра Васильев, ты ить и сам не глупо́й, мне идти некуда.
– К Насте иди, – говорю, – к своей дорогуше. Она ведь не хочет, чтобы ты пастухом работал.
Костя опускает глаза и уже меня уговаривает:
– Ты ить и сам не глупой, понимаешь – там хлеба нет, а ребят много. Ты дай хлеба.
– Ладно, пусть твоя Настя приезжает, выпишу тебе авансом пудов пять ржи.
Костя рад. Авансом – это он не понимает, главное – есть хлеб для Насти. Сам у колхозников ест и одевается. И у Насти хлеб есть пока.
Как только Настя с ребятами хлеб съедят, всё начинается сначала.
Савиха Ка́менская. Имени её не помню. Ходила иногда с такой же лапотной бабой Таней, тоже из Ка́менки. У Савихи когда-то сгорело гумно. Горело, видимо, ярко, потому что мужики, когда играли в карты, бубновый туз называли “Савихино гумно”.
Ходили и побирались также незнакомые из дальних деревень. Помню, ночевал у нас один мужик и загадывал нам с Митькой разные загадки. Тут же их и разгадывал, потому что нам было не под силу, а взрослым было некогда. Одну задачку я запомнил, а когда пошёл в школу, смог её решить. Вот она. Шёл мужик в церковь и подумал: если бы помог мне бог найти денег столько, сколько у меня есть, я поставил бы ему свечку за три рубля. И он нашел ровно столько, и поставил свечку за три рубля. Второй раз он шел в церковь и подумал: помог бы мне опять бог найти денег столько, сколько у меня осталось, я опять бы поставил ему свечку за три рубля. И нашел мужик денег столько, сколько осталось от покупки первой свечи, и опять поставил свечку за три рубля. Третий раз он шел в церковь и подумал: помог бы мне бог опять найти денег столько, сколько у меня осталось, и я опять поставил бы свечку за три рубля. И нашел он ровно столько, сколько у него осталось. И купил третью свечку за три рубля. И денег у него не осталось. Сколько же их было у него в первый раз?
Не проходило дня, чтобы побирахи или цыганки не посетили каждый дом, где подают. Только Груню в нашей деревне обходили – там подать было нечего. Грунину бедность в народе считали божьей карой за неподаяние нищим.
В предпраздничные и праздничные дни от побирах просто не было отбою. В избу вваливалось сразу по три-четыре “гостьи”. И все просили. И не кусок хлеба только. Побирахи просились за стол отобедать. Но эти хоть стыд какой-то имели: если одну сажали за стол, другие, получив кусок хлеба, уходили обедать к соседям. А вот цыганки никогда не просились за стол, зато просили подать им мяса, масла, молока, сметаны, яиц, кочан капусты – всё, что видят глаза, или о чём известно. У побирах всё с собой; у цыганки семья, её надо накормить. Если просить не умеешь, принесёшь мало, накормишь плохо – цыган “научит”. Такого кнута отведаешь – долго помнить будешь. И никому не пожалуешься – у цыган свои, неписаные таборные законы.
Поэтому цыганка просит так, что отказать ей очень непросто. Видимо, умение просить не зря называют “цыганить”.
Цыгане, хотя и побирались, не считали себя нищими, да и на самом деле не были ими. Многие из них были поистине богатыми.
А нищие в деревнях – это люди, неспособные вести хозяйство на земле по разным причинам: стихийное бедствие, увечье, отсутствие ума или просто желания работать на земле.
Вот типичное “явление побирахи народу”. Горячая пора уборки. Обед. В окно видно: к избе бредёт, отбиваясь палкой от нашего пса Мильтона, плохо одетая, с торбой, босая баба средних лет.
– Опять какая-то побираха, – говорит папаша.
– Уже треттия севодни, – задвигая ухватом горшок со щами в печь, откликается бабуша.
Побираха стучит палкой в сенях. Медленно открывается дверь и через высокий порог шустро вваливается как-то вся сразу грязная баба, еще оборачиваясь и как бы заслоняясь от пса палкой. Мильтон побирах сильно не любит, потому что ходят с палками. На цыганок полает немного и отстанет. Те не носят палок и не обращают на собак никакого внимания. А побирах Мильтон сперва “провожает” до самых дверей, а когда покидают дом – далеко за околицу.
Закрыв за собой дверь, баба останавливается у порога, крестится на образа, опирается на палку обеими руками и произносит:
– Драстуйти. Хлеб да соль вам.
– Поди, поди (т. е. входи) – отвечает папаша и первым выходит из-за стола, крестясь.
– Откуль же ты? – спрашивает тятяша, сгребая со стола крошки.
Побираха отвечает не сразу. Все уже вышли из-за стола.
– С Лё-ёхина, – тихо отвечает баба.
– С Лё-ёхина? – удивляется тятяша. – А бытта в Лёхине не было побирах?
– Не было, кормилец, давно не было.
– Ай беда какая? Пожару бытта не слыхать было?
– Коровка пропала, дядюшк, в прошлом ишшо годе. Навозцу не было, вот земелька и не родила. Стали иржицу жать, да только на семянки и хватило. Вот и пошла по миру. Наделите, Христа ради.
Бабуша отрезает от хлеба укрóйку (краюху), молча подает.
– Спасибо, кормильцы, спасибо, родны́и, приспори́ вам, господи, дай вам бог здоровьица.
Уходит, благодаря бога и хозяев.
По-другому побирались цыганки. Идут по улице, шумно галдят на своем языке. Вваливаются в избу гурьбой, не крестясь, весело наперебой здороваются:
– Здравствуйте, хозяюшка! Как живы-здоровы? Тихо ль у вас, здоровы ль детушки? Не надо ль погадать?
Дождавшись, пока выговорятся, хозяйка, у нас это – бабуша, отвечает:
– Подите, подите, давно вас не было, я уж сгрýсла (т. е. заскучала) по вам.
Цыганки мимо ушей пропускают иронию:
– Праздником пахнет у вас, надели́, хозяюшка, кусочком мяса. И вам бог приспорит, в божьем писании сказано: рука дающего да не оскудеет.
– А щас, про вас (т. е. для вас) овцу зарезали. Вон свои ребяты облизываются – хоть бы ко́стки поглодать.
– Не скупись, хозяюшка, не себе прошу – цыганяткам снесу, их полная куча в кустах оставлена, все есть хотят.
– Сама нарожала, никто не виноват, – говорит бабуша.
– Ах, хозяюшка, цыган молодой, красивый, любовь горячая…
– Ладно, на́ кусок, отстань только, – бабуша подает заранее приготовленный кусочек мяса. Цыганка прячет его куда-то под одежду, а бабушу тут же атакует другая:
– Надели и меня, хозяюшка.
– Идите, идите, мне всех не наделить. Нету больше.
Не тут-то было! Как не отговаривалась бабуша, пришлось всем дать хоть по малому кусочку мяса.
Когда цыганки наконец ушли, тятяша сказал:
– Всё равно подала, лучше б сразу.
– Сиди! – огрызнулась бабуша.
Что ещё сказать о нищих? Думаю, что главной причиной их образа жизни была собственная лень. Тот же Костя Сетровский перестал ходить с торбой, стал работать и кормить Настю с детьми, когда колхозники перестали подавать, потому что в те послевоенные годы у самих не было хлеба. А вот Афонька Мироновский еще долго ходил с торбой, хотя сын его – тракторист – хорошо зарабатывал.
Не зря говорили – суму надеть трудно, а снять ещё труднее.
Пастухи
Каждый год в конце зимы матери-вдовы ходили по деревням со своими детьми-подростками, предлагая отдать их “в поле”.
Предложение превышало спрос. Не все сироты годились в пастухи: кто ещё не дорос, кто – ненадежных родителей. В больших деревнях, кроме того, ребятам стадо не доверяли, а на хуторах нанимать пастуха считалось невыгодным.
В Ласко́ве стадо было подходящим – десять-двенадцать коров, пять-шесть не́телей, овцы. Телят к стаду “приваживали” сами хозяева, при найме пастуха их в расчёт не брали. С подбором пастуха не спешили, знали – приведут ещё не одного. Об оплате с матерями не торговались, внимательно присматривались к подростку.
– Большой он уже у меня, спасёт ваше стадо, – ручалась мать.
– Такой ахнет палкой или камнем, овцам ноги переломает, – сомневались бабы.
– Надо, чтобы бегал больше, а скотину не палкой бил, а плетью стращал, – вторили мужики.
– Не-е, что вы, он смирный и скотинку жалеет. Возьмите, пожалуста, уже думается, не будет мне сты́нно за ребенка, – просила мать.
Нанятый пастушок начинал сразу жить “на очереди”. Очередь определялась по жребию, шла по домам по кругу (“по солнцу”), а продолжалась по количеству дней. Дни определялись по наличию скота в семье: корова – день, нетель – полдня, овца – четверть. У нас, к примеру, было две коровы, нетель, четыре овцы – получалось три с половиной дня. Пастух у нас жил в одну очередь три, в другую – четыре дня.
Пастуха на очереди нужно кормить, одевать, обувать. Осенью, когда пастух уходил домой, его матери отвозили рожь и картофель из расчета по пуду за день. С нашего хозяйства причиталось три с половиной пуда ржи и столько же картошки, а всего с деревни – около двадцати пудов ржи и картофеля. Этого семье пастуха хватало на год.
6 мая – Егорьев день. Накануне бабуша обрывала с березовых веников листья, клала в горшок, наливала воды и варила яйца. От листьев они становились жёлтыми. Помолившись богу, всей семьёй в Егорий выгоняли скот на Верхнюю По́женку. Дождавшись всю деревню, начинали “обход”. Впереди с непокрытой головой, с решетом, полным жёлтых яиц и пучков вербы, освящённых в церкви в вербное воскресенье, с иконой и молитвой – дед Бобка. За ним вся деревня, взрослые и дети, обходили вокруг стада. Заканчивался обход общей молитвой. Хозяева разбирали вербу, втыкали её каждый в свою полосу озимой ржи, а яйца относили “на квартиру” пастуху.
Егория праздновали в деревнях черноозёрского церковного прихода, и туда шли в гости к родне: Бобкины – в Крю́чки, Мишины – в Погоре́лку, а мы – в Лягу́шицу, Никитино и Цви́гозово. Только одним Груниным в этот праздник идти было некуда.
С пастухом оставались кое-кто из взрослых да мы, мальчишки, чтобы не давать коровам бодаться. За лето они привыкали каждая к своему месту в стаде, но весной каждый раз вновь пробовали свою силу. Победительницей всегда была светло-рыжая Французка Бобкиных. Наша Листвя́на, черно-пёстрая, с широкой белой полосой во всю спину, была крупнее Французки, но уступала ей.
Листвяна, сколько жила у нас, а потом у Тимохи, ежегодно приносила только тёлочек, удивительно похожих на себя. Только раз принесла бычка.
Все пастухи, которых я помню и не помню, потому что менялись они почти каждый год, знали, естественно, всех коров по кличкам. Мы, мальчишки, любили в хорошую погоду проводить время с пастухом и тоже знали весь скот. С собой мы всегда имели кусочек хлеба, и каждый мог приманить к себе животное.
Однажды пастух – им в то лето был наш Гриша Грунин – попросил меня приманить нашего барана.
– Давай запряжём его в хворостину, – предложил Гриша.
– А как? – никто из нас, мальчишек, такого не видывал и не представлял себе. Но Гриша – он был лет на десять старше – разъяснил:
– Вот кусок верёвки, привяжем один конец к хворостине, другой – барану за рога и отпустим.
Сказано – сделано. Баран с хворостиной побежал к овцам. Шум от волочащихся листьев погнал стадо овец прочь. Всполошились и коровы, бросились за бараном. Мы перепугались, но помочь ничем не могли: стадо понеслось по пахоте, поднимая пыль, даже Грише его было не догнать.
К счастью, оборвалась веревка, и стадо остановилось. Коровы, обнюхав хворостину, пошли назад, на Мокрый Лужок. Барана приняли в стадо.
На хуторах вокруг Ласко́ва стада пасли свои пастухи. Они встречались иногда с нашим. Каждый имел в стаде “бойцовскую” корову.
– У меня Бобкина Французка – ух! – хвастался наш.
– А у меня Танина Соловей не уступит, – не сдавался есенский пастух.
– Давай спустим!
– Давай!
Коров отлучали от стада и выгоняли на “нейтральную” полосу. Они сходились не сразу. Издали двигались боком, низко наклонив головы, распаляясь, рыли копытом землю, грозно ревели, стращая друг друга. Сблизившись, сталкивались лбами, с сухим треском сцеплялись рогами, упирались изо всех сил. В конце концов Французка отскакивала в сторону, сдавшись.
– Я говорил, – радовался есенский, – Соловей заби́дит (победит).
– А давай баранов спустим, – не хотел уступать наш пастух.
Барана отлучать не надо – он сам, только пусти, бежит в чужое стадо. Наш боец с толстыми крутыми рогами, стоило только пастуху отступить в сторону, со всех ног бросился в есенское стадо. Их овцы шарахнулись было прочь, но тут же успокоились. Есенский баран смело поддал в бок рогом нашему. Наш дал сдачи – и оба попятились для разбега. Дрались, пока кровь не выступила из-под рогов. Есенский, отвернув от лобового удара, был сбит с ног. Наша победа! Мы были рады. Своего барана отогнали потом в родное стадо.
Нас влекло к пастухам. Правда, не всегда нас отпускали из дому. Нам с Митькой нужно было няньчить брата Ваську. Ване Тимохину – сестрёнку Душу (Дуню), а позднее – Нину, Маню, Полю. Один Коля Бобкин был свободным. Его братишка Ефимка умер, не прожив и года.
У пастуха был острый, как бритва, складной нож. Чтобы просто подержать его в руках, мы должны были что-то сделать за пастуха. А когда держишь нож в руках, очень хочется что-нибудь им построгать.
– Ва-аньк, дай еще маленько подержать.
Ванька был из Махновки, года два или три ходил у нас в поле. Он “норовил” больше нам с Митькой – мы раньше вместе бегали в Махновку на Борис-гору играть. А когда пастухом был Гриша Грунин, тот “тянул” больше за Ваню Тимохина, своего двоюродного брата.
Гриша вырезал из дерева трещотку и трещал ею перед нами.
– Гри-иш, дай попробовать.
– А сбегай, подгони коров.
Мы все четверо бежали и подгоняли отставших в кустах коров. Я первым прибегал назад, но “трещал” первым Ваня, потом Коля, а уж после них мы с Митей. Обидно, конечно, но с Гришей спорить не станешь: он может и совсем прогнать домой. Тогда приходилось забираться в ельник, играть шишками, воображая их коровами и овцами, а себя пастухом. Но это, конечно, совсем не то.
А пастуший рожок!..
– Тру, тру, тру-ру-ру! Тру-ру-ру, ру-ру-ру-ру!
Гриша сперва делал жалейку. Один конец ракитовой палочки подстрогает и зажмет зубами, а палочку крутит руками. Вывернет из палочки середину, а из получившейся трубочки сделает свисток с тремя или четырьмя дырочками для пальцев. Потом вырезал спираль из бересты, накручивал на жалейку – получался рожок.
До чего ж хотелось поиграть в рожок! Но если трещотку Гриша давал всем, то рожок оберегал и разрешал попробовать играть только из его рук.
В рожок он играл утром, давая знать, что приступил к работе. Играл в обед, указывая хозяйкам, куда идти на дойку. Играл, когда угонялся за лес Круглы́ш, чтобы мы знали, где его найти. Часто играл, отвечая на такую же игру пастухов соседних деревень, и тогда получался концерт, слушать который нравилось и взрослым.
А пастушья плеть!
Не раз скорчишься от боли, устегнув себя по ногам, пока научишься правильно бросать плеть вперед. Зато потом весь бы день бегал за коровами – но только с плетью!
В тонкий ее конец вплетались волосья из конского хвоста. При взмахе плетью ее конец издавал хлопок точно выстрел, и отставшая корова опрометью кидалась в стадо. Стало быть, уже приходилось отведать плети вдоль спины!
Стадо у Гриши было настолько выдрессировано, что он не спеша мог провести его в узкий проход между посевами и не допустить потравы. Стоило какой-нибудь корове лишь сунуть морду в манящий зеленый ковер овса, как тотчас следовал окрик Гриши, спиной вперед идущего перед стадом:
– Нежо́ха! Я т-тебя, туды – растуды!..
И корова мгновенно поворачивалась в другую сторону, усиленно щипала траву, всем своим видом показывая, что у нее и в мыслях не было ничего худого.
Нас пробирала зависть. Надо же так здорово командовать! Это же настоящий полководец!
А пастуший костёр! В каждом из трех полей было место, куда в обед коров пригоняли на дойку. Стадо отдыхало, а пастух вместе с нами разводил костёр. Как было здорово, разбежавшись, прыгать сначала через густой белый дым, а потом и через пламя. Не сразу отважишься на такое. Зато, перепрыгнув однажды, уже не утерпеть – хочется прыгать еще и еще.
Романтичным казалось нам быть пастухом.
А на самом деле труд пастуха – адский. Попробуй-ка с ранней весны до “белых мух” ежедневно, без единого выходного, в зной и дождь, в холод и слякоть, от восхода до заката быть наедине со стадом. При этом к пастуху каждый мог придраться, отругать его из-за любого пустяка. Никак было не угодить всем хозяевам. Мало молока надоили – пастух виноват. Хотя знали: на пастбище в иное время “вошь пусти – найдешь”. Или потравила корова посевы – не съела ничего, только помять успела. Хозяин обнаружит, отругает последними словами, а иной еще и удержит осенью из оплаты. Никому не пожалуешься – мать не защитит, еще добавит: она о будущем лете думает.
Вот случай. Днём в стадо ворвались волки и унесли овцу. На крик пастуха никто из деревни не прибежал и беде не помог. Сильно обозлило это пастуха. Вечером, когда стадо пришло в деревню, посыпались от баб вопросы:
– Ва-аньк, никак волки были?
– А неуж собаки?!
– Унесли?
– А неуж принесли?!
– Ты-то вопе́л (кричал)?
– А неуж песни пел?!
Только так и мог выразить пастух свой гнев.
“Легче камни ворочать, чем в поле ходить”, – говорили в народе.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































