Текст книги "Ласко́во"
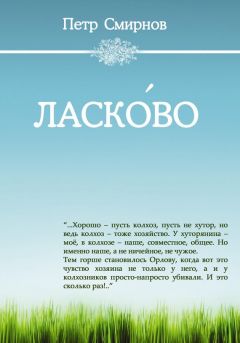
Автор книги: Петр Смирнов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Причастие
Прадеды наши и деды причащались в церкви деревни На́вережье. В Навережье была и волость. Где-то в 1910–1915 годах наши деревни отошли к новому приходу – Киселёвскому. Между деревнями Кисёлево и Ре́пшино построили тогда новую деревянную церковь. В ней и я крещён. И причащался там каждый год в Великом посту перед Пасхой. Сперва на причастие мы ездили с мамой, потом – с тятяшей.
Уклоняться от религиозных обрядов я стал уже будучи школьником начальных классов. Под влиянием учителей становился атеистом. Но папашин ремешок время от времени возвращал меня в ряды “верующих”, и мне волей-неволей приходилось посещать церковь.
Когда же пошел я в Сорокинскую школу, уже причислял себя к взрослым, на гулянья шастал с парнями старше себя. Меня охотно брали в компанию, поскольку всю дорогу я наяривал на балалайке, а парни горланили песни, приплясывали да лупили палками об дорогу. “Чтоб слышно было – ласко́ськие идут!”
В Великом посту грешить остерегались. И старшие блюли, и предстояло, хочешь не хочешь, идти в церковь исповедоваться перед батюшкой, из его рук принимать причастие.
Тем не менее в тот памятный день кое-кто согрешил. Да и как было не согрешить!..
В Тяглице собрались в просторной избе. Вася Христёнок сбегал за гумно, проверил петли на куропаток, принес двух птиц. Тут же кто-то пошутил, что вот, мол, хорошая закуска. Само собой, идею дружно поддержали, и заговорили о том, где раздобыть выпивку. Двое парней мигом куда-то сбегали и принесли водку.
И закрутилось-завертелось! Под общий смех, под шутки-прибаутки куропаток мигом ощипали и сварили суп. Лишь один человек был против этой затеи – старая дева Аниска. Она пела на клиросе, была очень набожной. Пыталась отговорить молодежь от греха – ведь дело-то было в Великом посту. Да разве молодёжь остановишь?
В общем, было весело в тот вечер.
Вскоре, однако, об этом и забыли: мало ли весёлых дней было в молодости!
Вспомнили только на исповеди.
Незадолго перед Пасхой пришли в церковь. Народ подходил по одному к батюшке и каялся полушёпотом в своих грехах. Нас с детства тоже приучали отвечать попу на исповеди “грешен, батюшка”. Потому что, дескать, если скрывать какой-нибудь грех, то незачем и исповедоваться. Поп просто прогонит и не даст причастия. К тому же человек не может не быть грешен, стало быть, лучше уж сразу покаяться. А батюшка за тебя, как и за всех нас, грешных, помолится и попросит у бога прощения. И бог простит. Такой была “установка”.
Идти причащаться сговорились вместе. Витя из Рожнёва был постарше, к тому же из раскулаченных. Нам казалось, что и поп к нему меньше придираться будет. Поэтому все остальные притаились у Вити за спиной. Знали, что батюшка только пожилых принимал по одному, а молодежь – группами, парней – отдельно, девушек – отдельно.
Батюшка пригласил нас на паперть, расставил так, чтобы слышать каждого. Витя оказался как раз прямо перед священником.
– Ну, рабы божии, покайтесь перед господом, какие грехи имеете за собой. Бог милостив и прощает покаявшихся, ибо святая церковь попросит о том за вас…
Отец Сергий говорил тихо и так проникновенно, что у меня бегали мурашки по телу. Но вот про какой грех сказать ему, я не знал. Покуривал – да. Из школьного общежития в окно вылезал и в Тинеи на свидание бегал – да. Но грех ли это? Мяса в посту не ел – тут я чист перед богом. Стоял, ждал, что ответят старшие.
А они тоже молчали, ждали прямого вопроса. Может, кто и покаялся бы в чем, если бы батюшка спросил прямо, а не вообще.
Витя всё же начал:
– У нас первый грех – это водка.
– Ага, грешны, батюшк… выпить любим, – поддержал Витю Володя из Есенки. Все сразу как-то облегчённо зашевелились, переступили с ноги на ногу. Мне подумалось, что надо бы про табак покаяться. Но я не успел. Отец Сергий стал говорить, что питие лишает человека разума. Но если человек не совершал другого греха, то немножко выпить не грешно.
– А может, пьяные-то сквернословили?
– Да, оду́ма, не-е … не знаю, – Витя повернулся к нам и вопросительно на нас посмотрел. Мы согласно опустили головы.
– Это хорошо, – сказал батюшка. – Может, девушек обижали?
– А, не-е, – твёрдо за всех ответил Витя.
– Пищу, может, недозволенную в посту принимали? То грех великий перед господом.
– Не-е, – уверенно начал было Витя, но вдруг Вася Христёнок поднялся на цыпочки и громко прошептал ему в ухо:
– Вить, а куропатку-то ели…
У нас невольно прорвался сдавленный смех. Поп быстро перекрестил нашу компанию и со словами “прости вас, господи”, отпустил. Потом причастил вместе со всеми.
Масленица
На масленице всю неделю нам разрешали кататься на санках (у нас их называли дровя́нки). И мы целыми днями пропадали на Городке.
Мы с Митькой иногда ссорились из-за дровянок, потому что они были одни на двоих. Один катится, другой ожидает. А вот Коле и Ване было дивья́ – у каждого из них были свои дровянки.
Ждёшь – не дождёшься, бывало, пока они все трое приволокутся аж с луга, куда их занесёт, да пока с передыхом поднимутся на Городок. Радуешься, если Митька скривит да опрокинется на спуске – тогда он быстро вернётся, и поеду я. А он возьмет да заартачится:
– Не в счёт, не в счёт!
Тут уж я отбираю санки силой и еду сам. Спуск не такой уж крутой, зато длинный. В самом конце спуска – к р я ж (небольшой холм), под кряж наберёшь еще скорость и катишься далеко по лугу. Зато долго потом тащишься с санками обратно в гору, пока доберёшься до вершины Городка.
– Эх, кабы только катиться, а санки кто б другой таскал, – скажешь, бывало, когда изрядно намаешься.
А тебе тут же давно заученный ответ, который ты и сам хорошо знаешь:
– Любишь кататься – люби и саночки возить.
Это уж точно – сам управляйся. Да еще благодари бога, что бывает масленица. Только на масленице и бывает такая свобода, в другое время не покатаешься.
Когда стали уже ходить на гулянки, на Городок как-то раз затащили настоящие расписные сани. Молодежь гурьбой попа́дала в них и помчалась с горы. Сани с грузом набрали бешеную скорость, и нас унесло аж на середину луга.
Только тут мы с Митькой и спохватились. Девки, которые громко и радостно визжали, когда катились с горы, тут же убежали прочь, а нам надо было срочно доставить сани домой. Но ведь это не дровяночки, их за веревочку не утащишь!..
Попытка вытолкать их обратно на Городок ничего не дала: мы их толкаем вверх, а они сдают нас вниз. Пришлось идти домой за оглоблями, взять чересседельный ремень, самим впрягаться вместо лошади. Ну и намучились мы! Тащили сани домой прямо по глубокой снежной целине. Двигались медленно, поминутно сменяя друг друга – один в оглоблях, другой толкает сзади. Легче стало, когда выбрались на дорогу. Покатались…
В других деревнях на масленицу ребят катали на лошадях. У нас как-то не принято это было. Может, потому, что лошадей жалели.
Я всего один раз ездил на лошади на масленицу, когда работал учителем (мне было уже 16 лет). В санки заложили коня, а напарника (или напарницы) нет. Одному ехать не хочется, а Мите надеть нечего (зима всё-таки). Пришлось заехать в Тереховку, и со мной поехала двоюродная сестра, Маня Гусакова. На обратном пути к нам пристроилась симпатичная, очень весёлая и разговорчивая фельдшерица. Еще летом она через Маню приглашала меня походить с ней по ярмарке, но я отказался, потому что она была чуть-чуть горбатая. Забраковал, в общем. Она, однако, не обиделась, и мной по-прежнему интересовалась.
Как-то у папаши заболел зуб, и он поехал на медпункт. Когда эта девушка записывала клиента в свой журнал, спросила, откуда он. Папаша ответил.
– Из Ласко́ва? – обрадовалась она. – А вы знаете учителя Петю?
– Зна-аю. Как не знать.
– Правда, он славный парень? Да?
– Да-а. Так себе, ничего, хороший.
– А вы можете передать ему привет?
– А за што ж, передам.
Дома папаша долго зубоскалил и хвалил “фершалицу”.
На масленицу в гости к тёщам приезжали зятья. Так было заведено, что дочери с мужьями и детьми всю неделю гостили у родителей. Молодые, захмелев, запрягали лошадей и на санках катали ребятню. Бабы давали наказ:
– Везите дальше, чтоб лён рос долгий (т. е. длинный).
Весело бывало всю неделю. Днем после обеда в воскресенье гости разъезжались по домам. Шутки, смех, песни…
Ужинали без гостей. И только тут наша бабуша – сама простота – выставляла на стол самое вкусное, припрятанное:
– Ешьте, ешьте всё, – завтра не дам.
Завтра – Великий пост, скоромиться грех. Обидно: сегодня хоть пузо лопни, а завтра даже остатков доесть нельзя… Но, уж если по правде, ничего не пропадало.
А после ужина – жечь масленицу! Готовились заранее – всяк припасал что-нибудь такое, чтоб ярко горело: старое берестовое лукно́ (лукошко), негодное решето, а Миша Бобкин как-то раз принес боби́ну (ступицу) от сломанного колеса. Уж если совсем ничего такого не находилось, разрешалось сжечь сноп соломы.
Масленицу жгли на Городке: с факелами, насаженными на палки, бегали по горе. Такое же виднелось и в других деревнях.
Рожкины
Лысая Гора своим пахотным склоном обращена на юг, к Ласко́ву. Солнце съедало здесь снег рано, до прилёта скворцов, грачей и жаворонков. Снег ещё лежал в оврагах, в кустарнике, другие пашни лишь местами чернели проталинами, а Лысая Гора своим жёлтым песчаным склоном уже дразнила пахаря.
Мы ещё боялись выходить на улицу босиком в своём Ласко́ве, а Рожкины ребята уже собирали пупыши́ (головки хвоща) на Лысой горе. И видишь, как они собирают и тут же едят пупыши, да ведь не побежишь через болото на чужое поле. А когда дождёмся пупышей на своих полях, Рожкины первыми во всей округе выезжают пахать Лысую Гору. Она была для всех как бы ориентиром: на ней первыми начинали пахать, сеять, жать.
Рожкины жили на хуторе. И хотя главой семьи считался Лёха, но фактически всем хозяйством заправляла его жена Катя. Даже со стороны это казалось правильным, а непонятным было другое: как такому замухрышке удалось жениться на красивой здоровенной бабе.
Детей у них было много – пятеро сыновей и дочь. Только старший, Ваня, был похож на отца – маленький, сутулый, худощавый. Остальные – в мать: высокие, статные, красивые.
Когда учились в Шумаях, иногда после обильных снегопадов заносило дорогу, и мы были вынуждены делать крюк по наезженной дороге, крюк “на Рожкиных”.
Как-то раз зашли с Митькой к Рожкиным, чтобы дальше идти в школу вместе с их сыновьями. Семья только что уселась завтракать, с трудом разместившись в “боковухе”. Ни одна из двух изб ещё не была готова.
Переступив порог и поздоровавшись, мы так и остались стоять. Пройти было некуда.
Рожкины в восемь пар рук быстро разобрали горячую картошку и, обмакивая в соль, аппетитно ели её с хлебом.
– Э-эх, огурчик бы солёный сейчас пригодился, – вдруг вспомнил Вася.
– Ма-ам, дай огурца, – попросил младший, Петя.
– Где ж я возьму! – сердито бросила Катя, но, глянув на нас с Митькой, смягчилась:
– Полная бочка была засолена, вот только кончились…
Нам-то, конечно, было невдомек, что Кате не хотелось ударить в грязь лицом перед нашими бабами. Ведь её Вася гулял с Олей Бобкиной. Что о ней, о Кате, подумают в Ласко́ве, если мы, не дай бог, проговоримся, что у Рожкиных даже огурца солёного нет?
Чтобы нас не задерживать, Гриша быстро расправился с завтраком и первым выскочил из-за стола, для отвода глаз обернувшись в передний угол и мотнув правой рукой вокруг лица.
– Ишь, желанный, перекреститься как надо и то лень, – буркнул отец.
Пока Гриша собирался, я всё хотел спросить, почему это Коля, который вместе со мной учился в четвертом классе, не собирается в школу.
Спросил на улице у Гриши.
– Коля больше в школу не пойдет, – ответил он и пояснил, что и сам давно уже учиться не хочет, но только Коле родители разрешили бросить школу, а его, Гришу, всё ещё заставляют ходить.
Они оба плохо учились. Вскоре и Гриша бросил школу.
Гусятник
Иван Григорьев, по прозвищу Гусятник, из деревни Кали́ницы выселился на хутор. Переселяясь, он задумал удивить людей образцовым хозяйством.
Для усадьбы выбрал красивое место над изгибом речки. Окна – на юг. Под окнами – река. На берегу – огород. Вся земля рядом. И семья хорошая: сами с женой ещё молодые, дочь Маня уже на парней заглядывается, помладше – Валя с Таней. Стариков не было.
Гусятник верил в счастливое будущее.
Жизнь на хуторах у трудолюбивых хозяев шла в гору. Кое-кто достал семян клевера и тимофеевки, ввёл севооборот, кто-то купил породистый скот, появились рысаки, расписные линейки и санки.
Годы шли, Гусятник пахал, сеял, убирал, а образцового хозяйства всё не получалось. Но он по-прежнему не унывал, был весел, шутил, с размахом праздновал Николу и еще три праздника в году, не пропускал случая всей семьёй сходить в гости. Жена его, Федосья, гордилась красивой дочкой Маней и не жалела денег на её наряды. Сам Иван Григорьевич отпустил бородку клинышком, носил жилетку и штиблеты. В свободное время часто наведывался в Ласко́во.
– Ва-ань, да ты как городской, – скажет, бывало, какая-нибудь из наших баб.
– А што ж там, во-от, – отвечал Гусятник. – Да-а. Што ж прибедняться, один раз живём. Хм, – во-от.
Дом ему срубили по задуманному им плану – в четыре комнаты с тёплой прихожей и кухней. Денег, правда, не хватало на всё сразу: не было полов, окна были временно закрыты соломенными матами, крыша тоже пока что соломой прикрыта. Жили в боковухе – маленькой комнате с одним окном на улицу и дверью во двор. Так и обдувался недостроенный дом на берегу речки всеми ветрами.
Гусятник хотел при доме вырастить фруктовый сад, да всё недосуг было.
А потом настали годы, когда каждому хозяйству стали планировать сев “в разрезе культур”, сдачу в госпоставки ржи, ячменя, овса, гороха, льносемян, льноволокна, картофеля, сена, мяса, молока, кож, шерсти, яиц… Затем грянула коллективизация.
Гусятник в колхоз не пошёл. Сначала пытался жить по “плану”, сдавать, что требовали. Ничего не вышло. И не только у Гусятника. Но он даже и тогда оставался оптимистом, не терял надежды, верил, что жизнь образуется. Когда в Сорокине раскулачили старовера Евдокима (вовсе не кулака) и отняли у него жеребца, Гусятник продал кобылу, а того жеребца купил. Жеребец был уже старый, для выезда не годился. Гусятник всё-таки постриг ему гриву, сделав короткий “ёжик с горкой”.
Но вскоре бросил всё и уехал с семьей в Питер.
Рыжий
Лёха Рыжий был не из местных, приехал откуда-то из Прибалтики. Его хутор отличался от других. Обе избы, соединенные сенями, большой шатровый двор, амбар, гумно и баня – все было построено добротно и содержалось в порядке. Подметено было и у дома, и на дворе.
Не говоря уже о пашне, которая обрабатывалась исключительно чисто, в чистоте содержались также и сенокосы, выгон, и даже осиновые рощи.
Идем, бывало, по грибы – все ласковские лесочки обежим, а грибов-то и мало – все выбраны. Знаем – в Лёхиных рощах полно хороших грибов, но туда не пройдёшь. Как за садами ухаживал Лёха за своими рощицами! Все нижние сучки срублены, подобраны, прошлогодние листья подгрáблены (убраны граблями). Рощи просматривались насквозь, появление в них человека было видно прямо из дома. Ещё хуже – учует собака. Поэтому грибы и ягоды в своих угодьях собирали только хозяева. Причем неспелые ягоды оставляли дозревать.
Хозяйство у Лёхи не считалось богатым, но не было и бедным: две-три коровы, бык, овцы. Со всеми работами справлялись сами. Дети с ранних лет приобщались к труду: пасли скот, собирали в рощах сухие сучья, рубили хворост на дрова, пололи грядки. Дочь Лёхи, Маня, зимой подрабатывала шитьём на швейной машинке.
С годами старился Рыжий, помаленьку хирел и хутор. Зять его, Вася, любил компании и по воскресеньям уходил из дому то в Тяглицу, то в Махновку. Потом он заделался активистом сельсовета, уже и в будни околачивался в Сорокине. Туда из Сла́вкович приезжали уполномоченные, собирали активы, говорили о новой жизни. Васе это нравилось: сидеть, слушать, аплодировать, а то и голосовать.
Бывало, пеняет Рыжий зятю:
– Вася, Вася, помог бы Мане-то дома, не жалеешь ты её…
А Вася, высокий, стройный, красивый мужик, обернётся у порога, ответит гордо:
– Не жизнь это, папаша, на хуторе. Мы построим новую жизнь.
Любила Маня мужа, ни в чём ему не смела перечить:
– Что ты, папа, я сама всё сделаю. Иди, Васеньк, иди…
А потом попал Вася в тюрьму, да так и не вернулся домой. За что сидел – не знаю.
Рыжий умер. Маню раскулачили. Жила она с четырьмя детьми в бане. Помню, я что-то носил ей шить, и она горько плакала о своей доле.
Такое было время…
Дорога
Говорили, что при царе крестьяне в наших местах платили раз в год сельхозналог – за землю, и страховку – за постройку. И всё. Больше не было ни платежей, ни поставок, ни отработок.
Еще до коллективизации была гужтрудповинность. Работа по строительству дороги.
– Вот ета царь так царь! – восклицал Бобка. – Миколаю, бывало, отдал налог и живи год спокойно. А теперь отдай всё на свете, и всё мало. Ашше́ и сам иди работай.
– Кабы только сам, – поддакивал дядя Миша. – А то и конь должон отработать свою долю.
– Да-а, – тужил папаша. – Мне вот надо отработать двенадцать дней пеших да шесть конных.
Каждому трудоспособному надо было тогда отработать на дороге шесть человеко-дней, да еще шесть коне-дней за каждую лошадь.
Строили дорогу от райцентра Сла́вковичи на Махновку, и далее по до границ района. Из других районов шли навстречу.
Строили ту дорогу много лет. Вручную копали канавы. Хуже всего приходилось тем, кто упирался, не шёл в колхоз. Колхоз, конечно, тоже привлекался к дорожным работам. Но, во-первых, спрос был с одного председателя, а рядовой колхозник о дороге не думал. Во-вторых, если колхоз и не выполнял гужтрудплан, с него были взятки гладки: покритикуют – и всё.
Помню, мы с братом Митькой в счет отработки измеряли расстояние от деревни Тяглица до границ района. Тятяша свил 50-метровую верёвку, мы ею отмеряли километры и забивали колышки. Вместо колышков другие потом ставили километровые столбы.
Работали на дороге не когда кто хочет, а когда прикажет доржник. Как правило, летом, что очень мешало крестьянским работам.
Дорога, уже засыпанная гравием и песком, долго была плохой настолько, что ни одна лошадь не выносила её без отдыха даже в один конец. Приходилось часто ходить по ней пешком. Чтобы осенней ночью не сбиться с пути, шлёпали прямо по лужам. Вода тускло блестит, её видно, вот и держишься луж. Ноги, разумеется, мокры до колен. А сколько калош утеряно…
Со временем на дороге стали появляться одиночные автомашины и трактора, от которых лошади шарахались через канавы.
И после войны долго работали на той дороге, но и теперь она еще не доведена до ума…
Метрики
В малых деревнях люди не имели фамилий. Их знали либо по именам родителей, либо по названиям деревень, а некоторых – по прозвищам.
Наших деревенских в других деревнях называли “ласко́ськие” (правильно – ласковские). Например, моего отца называли “Вася ласкоський”.
В документах всех записывали по имени отца. Так, Бобка был Савельев Василий, а его сын – Васильев Михаил.
Когда я пошёл в первый класс, меня записали – Васильев Пётр.
В третьем классе учитель предложил всем иметь фамилии. То ли потому, что он был приезжий из тех мест, где все имели фамилии, то ли было такое решение, но все школьники были записаны по фамилиям. А поскольку фактически фамилий не было, а прозвища произносились за глаза, то фамилии большинства детей записали так, как были записаны их отцы. Например, мой отец Алексеев Василий, тогда мы, его дети, должны быть тоже Алексеевы. Таковыми и стали мои братья Митя и Вася.
Не знаю, почему именно, возможно, из-за моей застенчивости в детские годы (хотя сам я таким себя не помню), дедушка Алексей, который меня любил больше всех – это я уж точно знаю – подсказал мне фамилию Смирнов.
Учитель так и записал, а после окончания начальной школы выдал на имя Смирнова документ. С этой фамилией я и пошёл по жизни дальше.
Паспорта впервые ввели в 1932 году. Да и то лишь на приграничных территориях. Наш Сла́вковский район входил тогда в Псковский округ – приграничный с буржуазными республиками Эстонией и Латвией. Все жители, достигшие шестнадцати лет, должны были получить паспорта.
В 1936 году мне исполнилось шестнадцать. Надо было получать паспорт, а метрики, как на грех, затерялись где-то. Дома все бумаги перерыли многократно, но всё напрасно.
Я пошел к попу. Отец Сергий развел руками:
– Рад бы помочь, да не могу. Сожалею очень. Всё сдал в волость, в На́вережье. Жаль, оч-чень жаль.
Я поехал в Навережье. В сельсовете ответили, что архивы сданы в район, в Де́довичи. Домой вернулся ни с чем.
Дома решили послушаться чьего-то совета: пойти в Славковичи и заявить в паспортном столе о пропаже метрик. Тогда, мол, пошлют на медицинскую комиссию, определят возраст, выдадут справку. По ней и метрики выпишут.
Вышел из дому на рассвете. Загадал, что успею к ночи в Тинеи на гулянье. Всю дорогу шел босиком, а ботинки повесил через плечо. Благо дорога тогда еще была мягкой, без гравия.
Перед Славковичами вымыл ноги в ручье, обулся. Думал, приду – и сразу на комиссию. Да не тут-то было. Во-первых, в амбулаторию очередь. Во-вторых, попросили направление из сельсовета. Я взмолился: так, мол, и так, прошел 32 километра, не знал о направлении и т. д. Не реагируют. Стою, не знаю, что делать. Кто-то из очереди и говорит мне:
– Сходи в паспортный стол, всё расскажи, может, и дадут направление.
– В крайнем случае, – говорит другой кто-то, – пусть позвонят в сельсовет и спросят, есть ли такой человек.
Обрадовался я и кинулся к двери.
– Эй, мальчик! – крикнула врач.
Я обернулся, а она и говорит мне:
– Дадут, не дадут направление – возвращайся сюда. Только учти – мы работаем до часу дня, а сейчас, – она как-то небрежно глянула на ручные часы, – половина одиннадцатого.
– А может… – начал было я, но она прикрикнула, сверкнув глазами:
– Беги бегом!
Я бросился на улицу. Амбулатория находилась почти на окраине поселка, к Дубро́вичам, а милиция – на другой окраине, за мостом через реку Черёху.
Легко сказать – беги бегом. Прямой дороги тогда не было, её построили после войны. Была одна улица, из булыжника, через весь Посад (от больницы до церкви), а другая – от церкви мимо пожарной части через мост. Бежать по каменной дороге, забитой подводами и прохожими, было и неудобно, и стыдно. Могли подумать, что я ненормальный. Шёл быстрым шагом, на боль в ногах от неразношенных ботинок старался не обращать внимания. О Тинеях уже не думал. Получить бы сегодня справку о возрасте и отдать на метрики. Переночую в каком-нибудь сарае, а назавтра получу метрики и сфотографируюсь на паспорт.
Так думал я, пока шёл. Обидное “мальчик” не выходило из головы. Я-то считал себя взрослым: уже год проучительствовал, ученики и их родители называли меня Петром Васильевичем. Уже который год гулял с девушкой. А тут – на́ тебе: мальчик. Ну и пусть, думал я, мне паспорт получить бы, а в нем будет написано – “служащий”, как у всех учителей.
В милиции оказался неприёмный день. Какой же я балда! Ведь сегодня суббота… Идя из дому за метриками, больше думал о Тинеях, чем о метриках. И субботу выбрал неспроста. Но почём было знать, что всё так сложится!
Вернулся. В амбулатории предложили снять рубашку, и толстый врач так и этак вертел меня. Женщина, назвавшая меня мальчиком, сидела за столом и записывала мои ответы.
– Фамилия?
– Смирнов.
– Имя-отчество?
– Петр Васильевич.
– Адрес?
– Деревня Ласко́во Митрофановского сельсовета.
– Работаете?
– Да.
– Где, кем?
– Учителем Шумайской начальной школы.
– Ого! – сказал врач и посмотрел на женщину.
– Извините, – обратилась она ко мне, слегка покраснев. – Я, кажется, назвала вас мальчиком.
– Ничего, – ответил я.
Врач окончил осмотр, велел одеваться. Спросил:
– Лет девятнадцать-двадцать. Так?
Хватило секунды, чтобы сообразить: Саша, моя девушка, с 1916 года, и я – её ровесник.
– Да, – ответил, – с 1917 года.
– Я же вижу, – важно заключил доктор.
И мне выдали справку с печатью. Ура-а!
Теперь я радовался всему. Тому, что я – не мальчик, а ровня настоящим парням (в действительности меня таковым и считали, и возрастом никто не интересовался). Тому, что сегодня суббота, и я могу успеть в Тинеи на гулянье. Тому, что, как мне казалось, метрики и паспорт у меня уже в кармане.
Успел даже сфотографироваться на паспорт и пообедать в столовой.
Обратно шел опять босиком. В Тинеи, конечно, успел.
– Покажи-ка справку-то, – попросил наутро папаша, надевая очки. У меня захолонуло в груди – понял, что мой номер не пройдёт. Мгновенно придумал оправдание: врачи определили так, с ними спорить не станешь.
– Ну и дурак, – сказал отец, прочитав справку, и тут же её порвал. – Три года прибавил, а на што, спросить бы. В солдаты скорее сдадут. Запрягай коня и ступай в Дедовичи. Ищи метрики.
Он встал с лавки, обрывки бумаги бросил под веник.
В Дедовичах люди указали нужный дом. Там тоже была очередь. Когда я стоял уже где-то в середине её, приоткрылась дверь и симпатичная девушка спросила:
– Кто может расписаться?
Я как будто ждал этого, сразу вышел из очереди и со словами “я могу, пожалуйста”, прошел за нею в комнату. Никто в очереди не успел и слова сказать. В комнате стояла старуха; за неё-то и надо было расписаться в получении документов. Расписавшись и осмелев, я обратился к девушке:
– Будьте добры, посмотрите заодно и мои метрики, хоть я и доподлинно знаю, что их у вас нет.
Девушка посмотрела мне в глаза и улыбнулась, словно разгадала мои мысли. Мы стояли друг против друга, и я боялся отказа. Вежливое ли обращение подействовало на неё, или мои глаза что-то ей сказали, но она ответила:
– Нате вам книгу и поищите сами.
Она указала стол и стул, и пригласила следующего.
Книга была в толстом кожаном переплете, из лощёной бумаги. Такие книги, стоящие на полке рядами, я видывал только в Киселёвской церкви и думал тогда, что по ним батюшка готовится к службе. Теперь такая книга лежала передо мной. Но в ней были не молитвы, а имена родившихся людей. Книга была написана чёрной тушью, каллиграфическим почерком, где старательно, с нажимом выведена каждая буковка. Сперва подумалось мне, что не от руки, а в типографии напечатаны записи, но, читая написанное, я убеждался в другом: так и только так раньше учили писать. Быть может, уместным будет сказать здесь, что не в последнюю очередь те записи подействовали и на мои попытки писать хотя бы разборчиво. Не могу не сказать и еще об одном: я не люблю небрежного письма, где не поймёшь, Утаков или Ушаков фамилия, когда буквы “и”, “н”, “п” пишут одинаково, “ч” не отличишь от “г”. Читая такую писанину, слова приходится разбирать не по написанному, а по догадке. И если в частной переписке подобное вызывает сожаление и досаду, то при чтении заполненных так служебных документов испытываешь глубочайшее отвращение…
Перелистав не одну книгу, себя я, конечно, не нашел. Девушка выдала мне справку, где было указано, что данных о моем рождении нет. Это мне и нужно было.
Перед вторичной комиссией дома получил “инструктаж”: родился в январе 1920 года, неделю спустя после Крещения, т. е. 26-го числа, в день святого Петра. (Теперь знаю сам из церковного справочника, что 26 января 309 года н. э. умер мученик Петр Анийский).
Мучила меня совесть: как стану объяснять комиссии свою несерьезность, обман, мальчишество – что хотите. Мне могут больше не поверить, что я учитель, напишут – единоличник. Это было бы хуже некуда – срам-то какой!
Стал тянуть время, собирал все необходимые справки: из сельсовета – о месте жительства, из РОНО (районный отдел народного образования) – о месте работы. В июле учился на подготовительных курсах для поступления в педагогический техникум.
На комиссию пошёл только в августе. Но комиссии такие, как я, видимо, до того надоели (люди-то в комиссии занятые, не свободные), что никто меня ни о чём не спросил. Так я получил справку о возрасте, а затем метрики и паспорт.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































