Текст книги "Ласко́во"
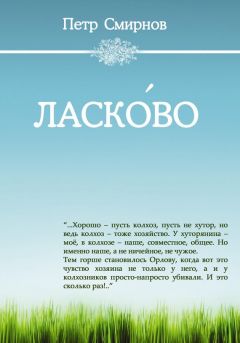
Автор книги: Петр Смирнов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Проповедник Фокус
Фокус – это прозвище. Миша Фокус жил в Махновке. Его избенка, скорее похожая на плохонький хлевишко или даже на баню, стояла через дорогу от избы моей няньки Сашки. Чтобы попасть к Фокусам в избу, надо было пройти через пристройку. В пристройке стояла корова. Она не любила ребят, мы об этом знали, а всё равно ходили, потому что корова была привязана и только мотала головой и фыркала, но боднуть нас не могла.
Избенка топилась по-чёрному, и дым шёл в дверь. Стены и потолок блестели чёрной копотью.
Несмотря на нужду, Фокус никогда не унывал, был добродушен к людям. И люди к нему относились хорошо: мол, бедность – не порок. Фокус верил в лучшее будущее, часто приговаривал:
– Ничего, теперь скоро.
Что “скоро”, я не понимал. Однако из разговоров мужиков постепенно уразумел, что разговор шёл о советской власти. Она, дескать, виновата во всём.
Про Фокуса говорили, что он всё знает, потому что читает священное писание, в котором, пусть иносказательно, но всё предугадано наперёд. И всё сбывается. Значит, сбудется и это “скоро”.
– А как же, Миш, если, не дай бог, война, то ить страшная погибель всем нам? – спрашивал папаша, когда Фокус у нас в избе разъяснял священное писание.
В избе сидели мужики и бабы, внимательно слушали Фокуса. Папашин вопрос волновал всех, поэтому все ждали, что ответит Михаил.
– А, слышь, как шапкой накроют. Сразу со всех сторон, – сказал Фокус.
Кто-то из мужиков вздохнул:
– Итта подготовлено…
– А как же, – продолжал Фокус. – Тут, брат, такое дело: с анчихристом весь мир борется.
Посидел, подумал, потом опять перешёл к священному писанию:
– Ибо сказано в писании: и сойдет на землю анчихрист в образе человека и будет мутить народ.
– Вот и сошёл, и разве не му́тя? Мутя. О, господи, прости, – перекрестился Бобка.
– Мутя, – так, что дальше некуда. Бывало, заплатил раз в год налог да страховку и живи спокойно, нихто тебя не трогае. А тут, прости ты господи, только что шкуру не деруть, – разошлась Груня.
Груня, надо сказать, никогда ничего не платила и с неё даже и не требовали: всё равно взять нечего.
Фокус продолжал:
– Ещё сказано: паутиной опутают землю и всё перемешается. Людей сгонят, как скотину, в одно стадо, всё будет общее – жёны и дети, и спать будут под одним широким одеялом, а бога забудут, и матери станут прожирать детей своих.
Слушали Фокуса внимательно, боясь пропустить хоть слово, а ещё больше боясь наказаний господних, которые Фокус предрекал.
– Го-осподи боже милостивый, – крестились старухи, – за што такая кара…
Бобка считался самым набожным. Священник, когда приезжал в Ласко́во, останавливался у него. Вот и теперь Бобка поддакивал:
– Хм, за што кара… Известно, за што: бога забыли, вот за што. А господь ить так сказал: буду терпеть до конца, а потом буду мучить без конца. Молиться надо, в храм божий ходить.
Тятяша попытался возразить:
– Молиться и дома можно. Грешить не надо.
– Домашняя молитва не так доходна, – отвечал Бобка.
Мужики помоложе время от времени пытались зубоскалить.
– Ну, Вань, – говорил Тимоха Макаров Ване Мишину, – уж под одним-то одеялом я переберусь к твоей молодой.
Но старики и особенно старухи гневно пресекали такие разговоры. И уж на что шутником был дед Бобка, а тут и он шуток не любил.
– Нам божье слово цытають! – прикрикивал он.
Фокус разъяснял писание: антихристы – это большевики, паутина – телеграфные провода, общее стадо – коммуна, а прожирать детей – делать аборты. В 2000 году сойдутся в драке два петуха – белый и красный – и неизвестно, кто победит. И после той драки на Земле, в разных ее концах, останутся единицы разноязычных людей.
– И человек, увидев след человеческий, будет бояться за жизнь свою, – так заканчивал проповедник разъяснение священного писания.
Книг Фокус с собой не носил. Говорили, что у него будто была библия, но точно никто не знал. Он ходил по деревням и только рассказывал, разъяснял писание. Тем и кормился.
Когда началась коллективизация, его слова в глазах крестьян получали подтверждение, и авторитет проповедника рос. Вскоре Фокуса арестовали, несмотря на бедняцкое социальное положение, и увезли.
Щипаный
На одном из хуторов еще до революции жил Никифор. Говорили, что хозяйство у него было крепкое. Году в девятнадцатом к дочке Никифора Иришке был принят в дом зять Вася по прозвищу Щипаный.
Пока был жив Никифор, Вася с Иришкой работали на хуторе, рожали детей. А когда тесть умер и главой семьи стал Василий, хозяйство на том хуторе очень скоро сделалось одним из самых бедных во всей округе.
В заливных лугах по речке росли в пояс травы, но Щипаный косить не хотел, отдавал покос исполу. А потом пришла лень прибирать и готовое сено – и он продавал покос на корню. У тестя на приречных склонах росли тучные хлеба. Щипаному и на пашне работать стало в тягость, и он год от года запускал пашню или сдавал в аренду.
При Никифоре Иришка доила трёх коров. Щипаный одну за другой продал их всех, а потом и лошадь. В тридцатые годы по сельсоветским книгам он числился даже не бедняком, а батраком.
И вот батрак Петров Василий одним из первых попал в список актива и с удовольствием просиживал целые дни на сельсоветских сходках. Дома Иришка с пятью малыми ребятами спины не разгибала, выбивалась из сил. А здоровый, как бугай, муж тем временем околачивался в сельсовете, встревал в разговоры о бедняках, середняках и кулаках.
Кулак оказался рядом, в деревне Каменка – Алексей Фёдоров. Он, его старший сын Ефим с женой Устишкой, средний и младший сыновья Яков и Коля – семья сильная, работящая, а земли по силе было мало. Поэтому Алексей нашел занятие для Яшки и Коли. Научились мальцы делать санки, тележки, стали принимать заказы. Потом к тележкам да санкам добавились шкафы, комоды, прялки, кровати, столы.
Вторая изба Федоровых превратилась в мастерскую. А семья большая, в одной избе жить тесно, да и Якову пришла пора жениться. Купили где-то дом-пятистенок, поставили через дорогу. В одну половину дома перенесли столярную мастерскую, а в другой установили маслобойню. И тем самым дали окрестным крестьянам громадное облегчение. Ведь сколько труда требовалось, чтобы приготовить льняное масло! Семя надо было сперва высушить на противне в печи, затем растолочь в ступе, перетереть вручную с добавлением соли и воды, снова на противне поджарить за заслонкой. И лишь после этого, насыпая в мешочек, можно семя зажимать в би́ло, и бить молотом, чтобы потекло масло. А тут – знай крути колесо да размалывай семя в муку; потом зажимай винт и – побежало в чашку душистое масло. И уже никто не стучал деревянным молотом по билу – ждали лишь очереди, чтобы масло – выжать.
И ещё одно доброе дело сделал Лёха – купил молотилку и веялку. Крутить, правда, их надо было вручную, но всё равно это куда легче, чем молотить цепами или веять с лопатки.
Надо сказать, что ни одна из машин (а по тем временам это были машины) не пускалась по рукам. Не говоря уже о стационарной маслобойке, молотилку и веялку в поездках по деревням сопровождал кто-нибудь из сыновей Лёхи, ухаживал за ними, смазывал.
Нечего и говорить, что Лёха был причислен к кулакам. Еще бы! Ведь всё, что есть у Лёхи, – на виду. А то, что всё это добыто не чужим, а собственным трудом – для Щипаного значения не имело. Батрак Щипаный, раскулачивая Лёху, ещё и упрекнул его:
– Моя баба тебе рожь жала.
Да, было такое. Может, всего один раз. Но Иришке на своем хуторе жать было нечего, а детей кормить надо…
Щипаный был нештатным председателем ККОВ – крестьянского комитета общественной взаимопомощи. Так он и подписывал выдаваемые им справки. Не помню, чтобы кому-нибудь помог его комитет, а вот что его самого называли “ков”, это помню.
Зимой по воскресеньям в Ласко́ве у Тимохи собирались картёжники и играли на деньги в “очко” или в “буру”. В числе заядлых картёжников был и Щипаный. Однажды он много проиграл, но отдавать было нечего, и он, как всегда пьяный, поднял скандал. В избе было полно народу: приходили смотреть игру многие мужики, молодежь, да и мы там вертелись. И вот когда шум уже готов был превратиться в драку, Нюшка Мишина пристыдила Щипаного:
– Ва-ась, а Ва-ась, да что ты разошёлся – ить ты наш “ков”!
И Щипаный сразу понизил голос, а вскоре и вовсе шуметь перестал.
Вряд ли кто знал значение слова ККОВ, иногда Щипаного называли “кол”, но все знали, что он член сельсовета. А это была власть.
Менялись в Митрофановском сельсовете председатели, но ни одного не было из местных, всех присылал район. Народ подметил: каждый из них приезжал на попутной подводе, а уезжал обозом из 4–5 подвод. Каждый новый председатель, ознакомившись с обстановкой, сколачивал свой актив. Один из председателей, еще до начала коллективизации, “отшил” Щипаного из актива. Понял, видимо, что с таким “батраком” не нажить авторитета.
Щипаного ненавидели, но боялись, особенно после того, как он, пьяный, ударил ножом Ваню Онисимихина. Тогда такого еще не бывало – чтобы в драке применять нож. Появилось позднее.
Щипаный мог устроить поджог, обокрасть – ему всё до поры сходило с рук.
Я уже в школу ходил и как-то увидел, что Ваня Онисимихин, милиционер, вёл арестованного Щипаного в район. С тех пор он больше не объявлялся.
Иришка потом вступила в колхоз.
Хлеб
Летом 1928 года зарядили дожди. Не было от них спасения ни днем, ни ночью. Если раскалённому солнцу случалось изредка прорваться на полчаса сквозь тучи, то жгло оно немилосердно, будто мстило за потерянное. Оттого скошенная мокрая трава только прела, издавая противный запах. Выколосившаяся рожь не могла налить щуплые зерна.
Хорошо ещё, что поля наши были рядом с деревней – люди ловили малейшую возможность просушить сено и снопы ржи. Для этого сначала с поля по полвоза свозили на гуменник, а оттуда по охапке да по снопу переносили на гумно, во двор, под навес и даже в сени.
Для спасения урожая себя не жалели: работали, если выпадал хотя бы час вёдра, даже ночью. Но сохранить полностью даже скудный урожай – зерно так и не налилось – не удалось. Народ оказался перед угрозой голода.
Еле-еле наскребли на семена, посеяли озимую рожь и засыпали на хранение яровые, а есть было нечего. Муки́ хватало только на то, чтобы повалять по ней чёрную массу из жмыха, высушенной и растолченной травы и из всего этого испечь “хлеб”, т. е. облачить эту массу в корку. Резать такой хлеб было нельзя – он прилипал к ножу. Хлеб ломали. Съедобной была только корка, липкий “мякиш” прилипал к дёснам, зубам, к нёбу и даже к языку.
И вот с таким хлебом я пошел в первый класс Шумайской школы. К хлебу давалась еще бутылка молока.
Но даже такого хлеба не хватило бы, по расчетам, до нового урожая, и люди искали выход. Мишины из двух коров продали одну, Бобкины продали двух, оставшись с одной. Тимоха и Груня продали последних.
На домашнем совете тятяша тоже предлагал продать хотя бы одну из трех коров, но папаша не соглашался. Он полагал, что с тремя коровами на семь едоков – он всё же середняк, и пусть люди видят, что в бедняки он не подался, как некоторые. Тогда ещё среди крестьян считалось позором попасть в бедноту, сравняться с такими, как Щипаный или Груня, не говоря уже о побирахах. Всеобщим было мнение, что бедняки – это лодыри. Я с этим согласен, потому что хорошо помню то время.
Правда, скоро выяснилось, что те, кто изо всех сил карабкались, чтобы не попасть в бедноту, проиграли. Оказалось, что выгоднее было туда попасть. Однако ж, не всякий может так вот сразу, легко, “сориентироваться” в жизни.
Продавшие коров привезли из Питера мешки с буханками, насушили сухарей и ели настоящий хлеб, хотя и не досыта. Тимохин Ваня и Бобкин Коля в школу брали хлеб из сухарей, а я – черную массу.
В конце зимы 1929 года детям бедняков на обед в школе стали выдавать по пайке хорошего хлеба, испечённого из чистой ржаной муки. Нам, ласковским, предложили принести справки из сельсовета о том, к какой категории относятся хозяйства наших родителей. По тем справкам Ване с Колей, как детям бедняков (и Бобкины с одной коровой на семь едоков попали в бедняки), тоже стали выдавать на обед по пайке ржаного хлеба. Мне, как сыну середняка, отказали.
Папаша послал меня к Щипаному:
– Попроси справку, что у нас нет хлеба, тебе в школу взять нечего.
Что я давился чёрной массой, видела и учительница Анна Федоровна, жалела меня, но помочь ничем не могла.
– И чего держат трёх коров твои родители, – возмущалась она, – продали бы, как другие. А справку принеси, я отнесу в Сорокино.
Я пошёл к Щипаному.
Он только что пришёл из сельсовета, сидел за столом, ожидал, пока Иришка доставала из печи и маслила льняным душмяным маслом картошку. Я ждал, пока он поест, а у самого слюнки текли. Казалось, что мне такой вкуснятины вовек не едать.
Щипаный, закончив обед, написал мне справку, я отнес её Анне Федоровне, та предъявила её в Сорокинский сельсовет. Но в пайке хлеба мне отказали: отец – середняк.
Уже перед весной наши продали-таки одну корову, и папаша съездил в Ленинград за хлебом. Нам его дали только попробовать. Хлеб как-то распекали до полужидкого состояния, добавляли льняного жмыха и снова пекли. Так вот и дотянули до нового урожая.
Конечно, весной и летом 1929 года жили впроголодь. Поэтому какая была радость, когда поручали нам с Митькой сбегать за чем-нибудь к няньке Сашке в Махновку. У них с дедом Яшкой был хороший хлеб. А уж за стол нянька посадит обязательно, и молока нальет: “Поешьте, сынки, поешьте”.
Если, случалось, посылали не обоих, а одного, то другой просился слёзно. Такой он был вкусный, хлебушек…
“Пример”
Дело шло к коллективизации. Газет в Ласко́ве никто не читал, но разговоры о колхозах уже шли. Вести не лежали на месте.
В других краях колхозы стали создавать, и у нас, надо полагать, решили показать мужикам пример. В деревне Рожнёво организовали коммуну и дали ей такое название – “Пример”. Но сначала власти раскулачили и куда-то сослали рожнёвских зажиточных крестьян, всё у них отняв. Не на голом же месте создавать коммуну!
В “Пример” на готовое пришли бедняки и батраки. У кого что было – все обобществили: лошадей, коров, овец, кур, оставив дома только кошек.
Командные должности в коммуне заняли активисты из соседней деревни Загу́бье. Они решали, кого принять, кому отказать, кого исключить.
Из Каменки в коммуну приняли комсомолку Валю. Туда, в Рожнёво, она и жить перешла. Отец с собой ей ничего не дал, и сам ни в коммуну, ни потом в колхоз так и не пошёл.
Какую работу выполняла в коммуне Валя, я не знаю. Она отличалась от других девок тем, что на гулянья ходила с балалайкой, сама играла и сама пела грубым мужским голосом частушки “с картинками”. В компании парней она за ночь успевала побывать на двух-трёх гулянках. Никто никогда за ней не ухаживал, да она, пожалуй, того и не хотела.
Комсомольцев было ещё совсем мало, они тогда носили форменную одежду полувоенного образца: парни – гимнастёрки и галифе, девушки – гимнастёрки и юбки. У всех – хромовые сапоги и поясные ремни с портупеей через плечо. Очень красивая по тем временам форма!
Всё в коммуне было общее. Работали по распорядку дня, по распорядку ходили в столовую завтракать, обедать и ужинать. Первое время (в 1930–1933 годах) коммунары ни в чём не знали нужды: в коммуны поступало всё от раскулачивания и изъятое за неуплату налогов по “твёрдому заданию”, а также за отказ вступать в колхозы. Плата за продукты и вещи для коммунаров была символической. Но так как у коммуны и на это денег не было, государство выделяло кредиты.
Крестьянам же и после изъятия у них имущества было не освободиться от недоимок: имущество продавалось совсем дёшево, а если задолженность и погашалась, крестьяне вновь облагались налогами.
Коммуна жила, но “пример” для крестьян был очень уж непривлекателен, и никто из них не хотел расставаться со своим хозяйством. Всяк рассуждал по-своему: середняк не хотел объединяться с бедняком, а бедняку нечего было объединять. Кулака – такого, чтобы раскулачить, уже не было. Надо было найти ему подобного.
Опираясь на установку на уничтожение кулачества как класса, власти на местах направили теперь основной удар против крестьян мало-мальски зажиточных.
У нас в Ласко́ве кулаков не было, но и в колхоз мои соседи вступать не хотели.
Как-то раз прихожу из школы, а у нас в избе полно народу. Я уже знал, о чем сходка, о колхозах говорили везде, в том числе и в Шумаях, где была школа.
За столом сидели “уполномоченные насчет колхоза”. Папаша неожиданно спросил у меня:
– Петь, в колхоз надо писатца?
– Ага, надо, – ответил я.
Уполномоченный тут же меня похвалил:
– Правильно, сынок!
Папаша сказал уполномоченному:
– В своей деревне я не против, если все вместе.
Однако больше никто в колхоз “писатца” не хотел. Все отказывались наотрез. Груня, как всегда упираясь обеими руками в лавку, ёрзала по ней и твердила одно и то же:
– Я одна никуды. Как мужики, так и я. Ага, ей-бо. Зато правда.
Мало-помалу люди стали убывать в Ласко́ве, и зажиточных там и вовсе не стало. Сначала уехали Егор Бобкин с женой Машкой. Вскоре и сына Колю взяли к себе в Ленинград. Ваня Бобкин еще раньше “пристал в дом” в Махновке. Дружная семья Бобкиных уменьшилась на трёх трудоспособных. Уменьшилась семья и у Мишиных – Ваня с Ксенией уехали в Красное Село. Иван Макаров с Матрёной были уже старые, а Груня и многодетные Тимоха с Дуней и подавно бедняки. Один мой папаша тянулся изо всех сил: сдавал госпоставки, платил налоги.
“Кулаков” нашли в соседних деревнях. В Тяглице раскулачили Гришу: у него и лошадей была пара, и коровы три, и вообще хозяйство крепкое. Семья была у Гриши большая, работящая, дружная – трое сыновей, две дочери и невестка. Но тяглицкие не испугались, после раскулачивания в колхоз так и не пошли, остались единоличниками.
В Шумаях раскулачили Сергея. Создали там колхоз и назвали “Сигнал”. Создали колхоз и в соседней деревне Лавни́. Когда дело дошло до названия, то решили так:
– Коль в Шумаях – “Сигнал”, то в Лавнях – “Тревога”!
Хоть и горько, но всё же и тогда шутили мужики.
Раскулачили также Лёху в Каменке, Васю – в Есенке, и много кого ещё в других деревнях. Так что “кулаков” нашли, их самих выселили, а имущество свезли в коммуну “Пример”.
Коммунары ездили с уполномоченными по деревням, выступали на собраниях, хвалили новую жизнь, призывали вступать в колхозы. В коммуну больше никого не принимали, и новых коммун не создавали, но “Пример” держали.
Осенью 1932 года я пошел в пятый класс только что открывшейся школы крестьянской молодежи (ШКМ) в Сорокине. До открытия ШКМ там была лишь начальная школа. Но когда раскулачили и выселили Федота и Тимошку, в их домах разместили магазин и ШКМ.
От Ласко́ва до Сорокина далеко, и я жил в общежитии. Продукты, из которых готовили для нас обеды в столовой, мы приносили из дому. Детей коммунаров Митю и Ваню снабжала коммуна. Они важничали перед остальными ребятами. Вечерами они много рассказывали о жизни коммуны, знали о ней всё, рассуждали как взрослые, потому что заправляли там их отцы. Мы слушали внимательно. Мне хотелось, чтоб и в Ласко́ве был колхоз и папаша (кто же ещё?) стал председателем.
Коллективизацию проводили насильно; ни тогда, ни потом, ни теперь мне не известно, когда, где, в какой деревне был создан колхоз добровольно, по желанию крестьян. Помню, в Ласко́ве на одной из сходок Тимоха (он был посмелее других) спросил уполномоченных, Яшку из Кулайкова и Митю из Загубья:
– Так ить в колхоз – добровольно?
Те наперебой отвечали:
– Добровольно. Но – обязательно.
– Обязательно. Но – добровольно.
Их – уже колхозников – возили по деревням для агитации.
Долго упирались в По́жнях. Я уже заканчивал седьмой класс (весной 1935 года), шёл как-то домой и встретил девушку из Пожен, Дуню Сысоеву. Всплеснув руками, она воскликнула:
– Ах, Петенька, наша деревня-то сгорела!
Я опешил: как сгорела?! Утром шёл в школу – была на месте. И днем про пожар не слышно было.
– Ка-ак? Когда?
– Да ну-у, в колхоз записались…
И так повсюду. “Добровольно”.
Из коммуны “Пример” примера не получилось. Она пожила за чужой счет, раскулачивать больше было некого. Коммуну преобразовали в колхоз “Марксист”.
“Сигнал”
От Ласко́ва до Шумай два километра, а до Махновки – все четыре. В первый класс Шумайской школы меня тятяша отвёл уже после Покрова, а потом я начинал ходить в школу уже с 1 сентября, по крестьянским понятиям – “нескладно рано”. Когда-то в школу ходили только зимой, потому и говорили про кого-нибудь: ходил в школу столько-то зим.
Мы ходили в школу из Ласко́ва мимо хуторов Вани Моха и Даруши. Они нас знали хорошо и в ответ на наше “здравствуйте” и “бог в помощь” отвечали:
– Ай да ребятки! Здравствуйте. Спасибо.
Не поздороваться было нельзя: скажут родителям и нам влетит.
В самих Шумаях первым по пути в школу был хутор Вани Тимошина. Он и его жена Алёна тоже отвечали на приветствие. Им было не лень остановить нас, прекратить на время работу и каждого расспросить, поинтересоваться отметками. Обязательно узнавали, что сейчас работают в нашей деревне.
Все шумайские отлично знали ласковских, равно как и наши – их. Со временем я тоже стал знать в Шумаях не только каждого старого и малого, но и кто кому какая родня.
В первый класс ходили в Шумаи я и Ваня Тимохин. На следующий год нас из Ласко́ва ходило уже четверо – брат Митя и Коля Бобкин тоже пошли в школу. Ходили пешком. В редких случаях – в плохую погоду – кто-нибудь из родителей отвозил или встречал нас на лошади. Иной раз лихо доставалось от мороза и встречного ветра. У троих были валенки, хоть и не новые и не всегда по ноге, а Ваня Тимохин всю зиму ходил в яловых сапогах из кожи домашней выработки (у Тимохи не было овец).
На третий год Ваня и Коля пошли в Махновскую школу. Они убедили родителей в том, что в Шумаях, мол, плохо учат, потому и отметки у них плохие. Это было неправдой. Учителя были хорошие, я их всех помню по сей день и вспоминаю о них с благодарностью.
Оставшись вдвоем в Шумайской школе, мы с Митей в плохую погоду домой не ходили, а ночевали в “классе”, располагавшемся в избе Гравы, спали на русской печке. Тогда я и стал очевидцем всех собраний по организации в Шумаях колхоза “Сигнал”. Он создан у меня на глазах, я всё о нем знал и в последующие три года, когда с 5-го по 7-й класс учился в Сорокине, и еще четыре года, когда уже сам работал учителем в Шумаях.
Колхоз объединял крестьян одной деревни Шумаи и существовал с зимы 1931-32 годов до прихода немцев летом 1941 года. В 1950 году при укрупнении колхозов стал бригадой, а теперь Шумаи – лишь малая часть бригады огромного по территории, но совершенно безлюдного, дышащего на ладан колхоза “Комсомол”, объединяющего что-то около 35 деревень. “Комсомол” обречён, ничто уже не поможет ему возродиться, ибо некому там работать…
Это – видно всем. Я же хочу рассказать о том, что и как было в наших краях полвека назад, о чём помнят уже немногие, а книг о том не издано. Только узнав истину прошлого, можно понять трагедию настоящего…
Зимой 1931-32 года я ходил в четвертый класс, а Митя в третий. В классе, где мы оставались ночевать, проходило собрание.
Класс тускло освещался единственной керосиновой лампой. Учительский стол, за которым восседали уполномоченные, стоял у стены справа у двери. За партами, как школьники, сидели шумайские домохозяева, мужики и вдовы. Нам с печки их было хорошо видно, а чтобы видеть уполномоченных, приходилось выглядывать из-за печной трубы.
Уполномоченным из района в тот день был Бальцер – начальник уголовного розыска. Ни председателя, ни секретаря собрания не было, никто не писал протокол. Бальцер, в шинели и буденовке, с наганом на ремне через плечо, не переставая курить, произнес грубо, отрывисто:
– Виноградов Александр!
Сидевший на задней парте Шурка поспешно встал, ответил:
– Здесь.
Бальцер, не поднимая глаз от стола, спросил:
– За тобой – кто?
Шурка замялся. Бальцер смотрел в бумагу:
– А сам ты – как?
– Да я что ж, я иду.
Шурка считался бедняком, на него уже на первом собрании нажали, и он дал согласие записаться в колхоз. Но после Шурки ни на том, первом, ни на последующих собраниях “писатца” не захотел никто. После Сергея раскулачили и выслали семью Егора, еще позднее – семью Александры, но Шумаи упирались, в колхоз не шли. Может, поэтому и послали сюда Бальцера, самого грозного человека в районе. Его фамилия, должность, не говоря уже о нагане – всё гипнотически действовало на крестьян.
Не обращая внимания на стоявшего Шурку, Бальцер, по-прежнему глядя в бумагу, спрашивал:
– Дальше – кто?
Молчание. Шурка сел. Бальцер перебирал бумаги, выбирал нужную фамилию:
– Тимофеев Иван.
Тимошонок не пошевелился. Будто не слышал. Кто-то толкнул его в бок:
– Ва-ань, тебя.
Бальцер поднял глаза:
– Тимофеев – кто?
– Я Тимофеев. А што? – ответил сидя.
– В колхоз идёшь?
– Не-е. Погожу.
Тимошонок жил на краю деревни. Сразу за его домом была построена новая школа, но в ней ещё не учили. Жена Алёна уже была оформлена уборщицей в этой школе, зарплату в сельсовете получала, поэтому Бальцер был уверен, что Тимошонок струсит. Но тот трусом не был.
Бальцер ударил кулаком по столу:
– Вста-а-ать!! – и взялся за кобуру.
Словно внезапный удар в лицо отбросил нас с Митей за печную трубу. Сердце бешено колотилось. Подумалось, что вот-вот начальник будет стрелять, а нам ни из класса не выскочить, ни на печке не спастись.
Сколько-то секунд длилось гробовое молчание. Выстрела не было. Я осторожно выглянул из-за трубы. Ваня Тимошин, большой, чуть сутулый, едва касаясь вытянутыми пальцами обеих рук парты, стоял в неудобной позе.
Первым подал голос Петя Гришин. Он тихо, но четко проговорил:
– Зачем же пугать, товарищ … уполномоченный. Ить он не против, а только сказал, что погожу.
– Кто такой? – глухо спросил Бальцер.
– Я-то? – переспросил Петя.
– Да. Ты-то.
– Да я-то Григорьев … Пётра.
Бальцер глянул в список:
– В колхоз идёшь?
– А за што ж? В своей деревне я хоть в колхоз, хоть в коммуну. Я от соседей не отстану.
– Значит, записывать?
– Пиши-и…
Бальцер на отдельном листе, где уже был Виноградов, записал вторым Григорьева Петра.
Что-то вроде просветления появилось на хмуром лице Бальцера. Он уже более спокойно обратился к стоявшему Тимошонку:
– Тимофеев, тебя третьим – записать?
Тот, не меняя позы, покачал головой:
– Я погожу.
– Как долго: час, день, неделю?
– Не-е. Года два-три. Погляжу: если хорошо в колхозе – сам приду. Только, оду́ма, нико́во не бу́дя.
– Ты что – умнее всех?
– Я-то? Не-е, я-то дурак, вот и погожу.
– Ладно, садись пока.
Бальцер одного за другим поднимал мужиков, надеясь, видимо, что теперь дело пойдет. Но больше записываться не захотел никто. Вдова Стеня, уже старая баба, ответила, что долго, как Ваня Тимошин, глядеть не будет, а за своими мужиками пойдет хоть в огонь, хоть в воду, а хоть и в колхоз.
Собрание затянулось, в лампе кончался керосин. Колхоз и в этот раз создать не удалось, но собрание не прошло бесследно. Надо думать, что шумайские обстоятельно между собой всё обсудили, потому что уже на следующем собрании в колхоз пошли все.
А было так.
В Шумаи приехал Носко́. Двадцатипятитысячник из Ленинграда, донской казак Носко возглавил Сорокинский сельсовет, сменив Гранова. Тот стал избачом (т. е. заведующим избой-читальней).
Был конец апреля, и сходку на этот раз собрали на улице. На собрание пришли не только домохозяева, но всё взрослое население деревни. Расселись на принесённых из дому скамейках. Поставили и накрыли красной материей стол.
Уроки уже закончились, да разве домой уйдёшь! Ведь так интересно!
Председательствовал Носко, но за столом сидели также Шурка и Гришонок. Передние скамейки занимали бабы, на задних курили мужики, переговаривались между собой. Вани Тимошина на сходке не было – была Алёна.
Носко произнёс речь. Говорил о коллективизации, назвал деревни, в которых люди якобы добровольно вступили в колхоз, похвалил шумайских товарищей Виноградова и Григорьева, выразил пожелание, чтобы все как один объединились в коллективное хозяйство.
Мужики молчали. Бабы подняли шум:
– Не хотим в колхоз!
– Дайте на хуторах пожить!
– Только жизнь наладилась, теперь опять ломать!
– Мужики пусть пишутся, а мы не пойдём!
Шуркина жена Палашка кричала громче других. Гришонкова Таня тоже поддерживала общий бабий хор против объединения.
Хитрый Носко баб не перебивал. А те уже вовсю ругали мужиков:
– Им што: один – присядатель, другой – сцытавот (счетовод). А работать – бабы!
– С одной бабой не справиться, а тут – вся деревня!
– Не пойдём!
Когда бабы, наконец, угомонились, слово взял Гришонок:
– А теперь послушайте, что я скажу.
Люди притихли, знали – Петя Гришин пустое не скажет. Грамотный, хозяйственный мужик.
– Стало быть, такая жисть пришла – не так живёшь, как хошь. Ждать, пока меня, как Егора да Лександру, не хочу. А и вы только подумайте: общиплют, как курят. Всё ро́вно никуда не денешься. И не мы одни – везде так же. Так что пока нас не растрепали, давайте все дружно запишемся и будем жить вместе.
Носко уже понял, что на этот раз не зря приехал в Шумаи, поэтому не стал разыгрывать власть, не перебивал Гришонка, когда тот выступал не по “программе”.
– Не севонни, так завтра, – поддержал Гришонка Петр Николаев, по прозвищу Сват. – Раз такое дело, што ж поделаешь, лучше сразу.
– А ты, Дунь, што скажешь? – спросил вдруг Гришонок Дуню Домкину, сидевшую с раскрытым ртом на передней скамейке.
Та аж вздрогнула от неожиданности. Но живо очнулась:
– У-у, бес, спужал. Я не хочу в колхоз. Вон Яшку спрашивай.
Яшка сидел на задней скамейке. К нему обратился Носко:
– Так как же, товарищ Домкин?
Яшка не ответил. Вопрос пришлось повторить.
– Домкин Яков, я тебя спрашиваю.
– Яшк, говори, – толкнул его в бок сосед.
Многие в Шумаях, в том числе и Яшка, недавно начали жить на своих хуторах. При объединении им всем предстояло снова разбирать всю постройку, перевозить обратно в деревню, собирать. Опять ломка да еще какая!
Яшка встал, зачем-то снял шапку:
– Не знаю… как люди, так и мы, в общем…
– Значит, не против?
– Не знаю.
– А кто знает?
– Я не знаю, в общем…
Снова загалдели бабы. Из всего их гомона можно было понять, что бабы ни в какую не хотят в колхоз.
Носко говорил и говорил, разъяснял и пугал раскулачиванием, грозился найти скрытых врагов, которые-де тайно ведут антисоветскую пропаганду.
Пытался выступить Шурка, но Палашка не давала ему говорить. Носко рассердился и прогнал Палашку с собрания. Та, ругаясь, ушла. Носко дал слово Шурке:
– Говори, Виноградов. Только учти, что нам колхоз нужен, а не пустой разговор.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































