Текст книги "Ласко́во"
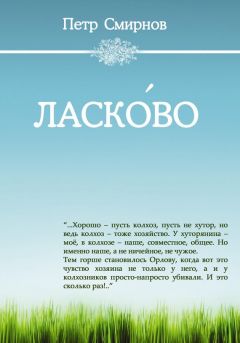
Автор книги: Петр Смирнов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Колоски
Бывали такие годы, когда крестьянин съедал весь запас хлеба, не дотянув до нового урожая. В 1929 году такое было и у нас. К Борису, 6 августа, хлеба испечь не было из чего: ни муки, ни зерна. В амбаре – пустые сусеки. Послала бабуша меня и Митьку стричь в своей ржи колоски. Рожь в тот год долго не созревала – сказались плохие семена и поздний сев в прошлогоднее гнилое лето.
– Идите на Песочек, там рожь уже белая, – сказали нам.
Песочек – это пашня в сторону Тяглицы. Все имели там по полоске.
Настригли мы колосков. В канун Бориса бабуша угостила нас тёплым хлебом. Только жидковат был тот хлеб: сладкий, словно из солода, корка отделялась от мякиша, а мякиш приставал к зубам.
Стричь колоски – это от нужды.
Как-то раз я возвращался с собрания поздно вечером. Подозрительным показалось мне издали, что во ржи кто-то ходит, прячется. Тропинка петляла меж кустов, и меня тому человеку не было видно. Да он, скорее всего, и не предполагал, что по тропинке кто-то пойдет в такое время. Была суббота, мужики мылись в банях, бабы доили коров.
Приблизившись, я увидел женщину, которая, озираясь, стригла ножницами спелые колхозные колоски и запихивала их в завёрнутый передник. Потом она вышла на мою тропинку и мы встретились нос к носу. Я узнал её. Это была старая вдова Дуня из Демехова. Она вы́сыпала колоски на землю, бросилась на колени и стала обнимать и целовать мои ноги, слёзно просить прощения.
Еле-еле удалось мне оторвать её от моих ног и помочь встать. В колхозе она не состояла и своей полосы не имела. А жили у неё ещё две маленькие внучки. Только голод мог толкнуть старуху на преступление. Она отказывалась взять обратно колоски и только просила-умоляла не отдавать её под суд. Все же я уговорил её собрать колоски и отнести домой.
От горя колоски! От голода…
Шлей
Жил в Пожнях Михаил Андреев по прозвищу Шлея́. И в семье, и в деревне его уважали – был он хороший хозяин и товарищ. Умел, как никто другой, легко находить общий язык и с соседом, и с сыном неженатым, и с малым ребёнком. Одно время Шлея даже был председателем колхоза. Но – недолго: его демократичность и отстаивание крестьянских интересов не по вкусу пришлись районному руководству.
Помнится, особо трудно шла заготовка картофеля. С колхозов, после обязательных поставок, требовали “добровольной” продажи в госзакуп. На это нужно было решение общего собрания.
Агитаторов и председателей собирали в сельсовете, ставили задачу. Уполномоченные из района, а часто даже из Ленинграда, особо нажимали на то, что рабочий класс колыбели революции нуждается в картофеле. Председатели, кто похитрее, просили прислать на собрание “подмогу” покрепче. Никто не хотел продавать картошку по чисто символической цене, но ведь не скажешь об этом прямо. Лишь Макаров, председатель колхоза в Тинеях, зубоскалил:
– Ишь прикинулись! Ага – сироты казанские. Да я той и славы не хочу, что нужна какая-то подмога. Коли ты без подмоги не могешь, какой же твой автиритет председателя?
А Шлея заявлял прямо:
– В закуп нет картошки! План сдали – хва́тя. Остались – семена.
С него тут же потребовали отчета о приходе-расходе. Он же, неграмотный, никаких записей не вёл. Но прямо и дерзко говорил одно и то же: картошки в закуп нет и не будет.
Лет ему уже было под семьдесят. И Шлея, и уполномоченные понимали бесполезность его ареста.
– Это – не председатель, – только и мог резюмировать уполномоченный.
Однажды в праздник гостил я у своего друга Коли на хуторе неподалеку от Пожен. Сидели за столом, обедали. Семья большая, все молодые, весёлые. Шутили, хохотали дружно и громко. После обеда собирались идти на ярмарку во Владимирец.
Разговор перекинулся на грамматику: какого рода, например, ножницы, и так далее.
– Вот – Шлей! – мужского рода, – вдруг резко вскочил с лавки Коля и показал в окно. Там действительно куда-то шел Шлея. Опять – взрыв хохота и веселье.
Но ведь действительно – мужского рода…
Отец
Один-единственный случай помню, когда он взял меня, маленького, на руки и сколько-то нёс. Родители шли в гости в Махновку. У мамы на руках был Митька, а я топал сам. Когда спустились с горки за гумно, отец взял меня на руки, а почему он это сделал, не помню. Запомнились его колючие усы и чисто выбритое лицо. Да еще белая рубаха-косоворотка, а поверх неё – темно-синий пиджак.
Когда я брал на руки уже своих детей, мама меня за это хвалила, а отцу выговаривала, что он такого стыдился когда-то. Отец молчал. Иногда, правда, ему такие нарекания надоедали, и он сердился:
– Бес-дура, мне некогда было ребят тешить.
Отец, как я потом узнал, смолоду был действительно очень стыдлив. Но и его правда была в том, что работал он один за всю семью. Ни в Ласко́ве, ни вокруг никто столько не работал, как он. По семье можно бы сравнить Тимоху, но у того полоса была поу́же, и он мог держать лишь одну корову. А у нас и полоса была шире, и коров отец держал трёх, да еще одну-двух нетелей, не считая овец, которых у Тимохи не бывало.
Не хотел отец такого позора, чтобы его называли бедняком, как того же Тимоху или Груню.
Так что и правда – некогда ему было с нами заниматься, да и усталость брала своё.
У своего отца, нашего деда, он был первенцем и единственным сыном. Потом рождались дочери. Поэтому, естественно, на него и возлагались все надежды в хозяйстве. Помню, я был уже школьником, и во время ужина дед сказал отцу: “Теперь как хошь, Васька, а хозяйствуй сам, я уже стар стал и слаб”. Помню слёзы на глазах у отца. И тогда же был такой разговор: вот жил на этом месте Антон, потом Тимофей, затем Алексей, теперь Василий, придет время – будет Пётр, а потом – сын Петров.
Первенцем папаша был не только для своих родителей, но – поскольку тятяша был старшим среди ещё троих братьев и двух сестер – и для всей большой семьи. И, как говаривала бабуша, и как уже и я-то помню, папашу любили не меньше, чем своих детей, все его дяди и тетки. Для всех он был “наш Васька”.
Тятяша остался жить, как тогда говорили, на старине, то есть на старом отцовском подворье, а его братья отделились, сестры вышли замуж. Может, потому в праздники к тятяше, а потом уже и к папаше приходила и приезжала вся родня. Однако, думаю, не только из-за “старины” тянулись все к моему деду, а потом и к моему отцу. Почему-то, например, ехали не к Мишиным (такая же ведь родня), а всегда к нам. Думаю, потому, что у нас – принимали.
Те праздники доставались отцу – ой, здорово! К Покрову, например, резал трех баранов, и после трех дней праздника и кусочка мяса для себя не оставалось…
В натуральном крестьянском хозяйстве денег взять негде. Платону травинскому или кому иному отец осенью продавал тёлку, чтобы уплатить страховку и налог. Одежду и обувь не покупали – шили из своего же материала. Кожи и овчины, правда, сами не выделывали, но полотно ткали дома. Ткацкий станок (с т а в) отец сделал сам по образцу старого, пришедшего в негодность. Когда ломались колёса в телегах, он по прежним размерам делал обода из сегментов (старые обода гнутые были), их оковывали в кузнице – и колёса служили долго, до ликвидации хозяйства.
Всё терпел! Работал, как вол, но нужде не кори́лся! И никто никогда не слыхал от него сетований на судьбу.
Плотницкому ремеслу научился от тятяши и его превзошёл. Перестроил дома всю постройку. Соединил поветью хлевы с избами, и получился просторный двор под одной крышей, где зимой и лошадь запрягали, и коровы выгуливались. Ни мороз, ни ветер были не страшны.
Плотницкими работами рассчитывался за услуги кузнеца, портного, сапожника, лавочника. Но более всего жаден был до крестьянской работы и арендовал пашню, сенокос у Щипаного и у Никандра. “Земля – кормилица, а ружьё да уда обедают худо”, – сказал он мне, когда я заикнулся было, что дядя Миша продает ружьё. Когда мы подросли и помогали в хозяйстве, отец часто говаривал: “Это не работа, если не до пота”.
Почему же при такой, по нынешним понятиям, адской работе в семье не хватало часто даже хлеба, не говоря уже о мясе или масле? Ведь ели пустые щи (если была капуста), хлебали с ы р н и ц у, если был кислый творог; на второе подавали картошку с растительным маслом либо со сметаной (если доились коровы). Когда бабуше удавалось выкроить чашку молока, хлебали все из этой чашки. Иногда нам попадало от папаши ложкой по лбу, чтобы “лучше хлеб жевали, а не спешили лишний раз в чашку за молоком”…
Когда вспоминаю то время и пытаюсь ответить на поставленный вопрос – почему не хватало хлеба – отвечу так: было несколько причин.
Первая: плохо родила земля. Хорошим урожаем хлеба считали сам – восемь. Никто в Ласко́ве не знал, сколько надо семян на определенную площадь (“норма высева”). Сеяли пореже или погуще, руководствуясь исключительно опытом стариков да собственным глазомером. Да и не только в Ласко́ве – везде было так. Высевал хозяин, скажем, десять мер, намолачивал пятьдесят – значит, урожай был плоховат, сам – пять. Земля не могла уродить больше, потому что ее плохо удобряли. А мало навоза вносили потому, что было мало скота. Вот небольшая таблица:

Видно, что только одно хозяйство навоз клало густо. Матрёнина полоса ржи резко выделялась среди остальных, хотя и ее обычный урожай, примерно в 12 центнеров с гектара, тоже невелик.
Вторая причина: земля обрабатывалась плохо. Глубоко ли вспашешь одноконным плугом? А ведь почвы тяжёлые – суглинки да глины. И сроки растягивались – лошадь-то одна.
Третья причина: плохие семена. О сортах не имели понятия. Всяк высевал свои семена. Никто не знал, какой они “репродукции”. Не говоря уже о чистоте семян – “веялкой” была ручная лопатка.
Откуда же быть хорошему урожаю?
Оставалось одно – расширять посевы. А уж труда своего в расчет не брали, себя не жалели, не щадили. “Человек и создан богом для работы” – говорили старики, наставляя молодых.
Когда отец был молод, работал больше не на себя, а на младших сестёр. Они подрастали, требовались наряды. Уезжал на зиму в Питер, чтобы копейку заработать да домой послать. Работал на кожевенном заводе с зятем Лёшкой. Тот, правда, денег домой присылал мало.
Сват Иван Ефстифеич, Лёшкин отец, говорил:
– Ласкоському свату дивья́. Васька лопатой деньги гребё и домой посыла́я. А мой Лешка горазд выпить лю́бя.
Как-то раз отец с Лешкой приехали из Питера через станцию Чихачёво, не оповестив домашних. В Махновку явились поздней ночью и решили разыграть Ивана Евстифеича.
Он вышел на стук в дверь, спросил:
– Хто там?
– Хозяин, пусти поночевать.
– А ты хто такой?
– Нас двое. Со станции идем, притомились. Открой, пожалуйста.
Евстифеич ушел в дом, сказал жене и невестке, что просятся ночевать какие-то два мужика со станции. Всем показалось подозрительным, что пришли проситься именно к ним, хотя жили они не на краю деревни и в стороне от дороги. Решили не пускать – “может, знают, что деньжонки есть”.
На крыльце постучали сильнее и настойчивее. Иван Евстифеич струсил: “Што ж делать, а? Што ж делать?” “Скажи, что баба рожает”, – посоветовала старуха.
– Хозяин, ночевать-то пустишь, ай нет? – спросили на крыльце, когда он опять вышел в коридор.
– Ах, вот беда, баба там…
– Что там баба?
– Бабу там, надо ж так, прижима́я…
Нет, от них не отвяжешься. Вот сразу в два голоса загоготали:
– Не ври, старый, что твоя старуха рожает. В избе и света нет.
“Ах, и правда, хоть бы коптилку зажечь…” И дрожащим голосом:
– Не старая – молодуха. Надо ж так…
Поняв, что старик перепуган, решили прекратить шутку и назвать себя.
– Насилушки уговорили, – рассказывал потом папаша. – Не верил никак, что это мы. Лёшка уже жену к двери позвал, и та открыла.
– Ну и плуты, ну и мазурики, грех вам бу́дя на том свете, – всё твердил Иван Евстифеич, когда уже сидели за столом.
До Февральской революции отец с Лёшкой работали по 14 часов, хорошо зарабатывали. За тем и ездили на зиму в Питер. Когда ввели 8-часовой рабочий день, были недовольны – заработки уменьшились.
Однажды перед поездкой домой отец решил купить костюм. Подобрали и примерили добротную тёмно-синюю тройку. Но приказчик заломил немыслимую цену. Отец торговаться не умел, выручал Лёшка, который за словом в карман не лез. Приказчик уступал, Лёшка просил еще скинуть цену. К соглашению не пришли, хотя все хотели, чтобы покупка состоялась. Папаше понравился костюм, Лёшке не терпелось обмыть покупку, а приказчик имел случай порадовать хозяина продажей дорогой вещи и получить от него вознаграждение. К тому же и Лёшка обещал ему на чай.
Не договорившись о цене, ушли из магазина разочарованными. Приказчик догнал их уже на улице:
– Эх, деревня, эх, деревня… Да разве так покупают! Обиделись и пошли. Куда пошли? Ну, я еще уступлю – идёмте обратно!
Когда вернулись, их встретил в дверях сам хозяин магазина:
– Ну что же вы, молодые люди! Я не могу отпустить покупателя без покупки. Это не в моих правилах. Идёмте, идёмте наверх.
Так отец купил костюм. Его хватило ему на всю жизнь. Даже мне пришлось донашивать брюки. Правда, мама их малость подогнала.
Когда выдали замуж всех сестёр, блеснула лучиком надежда на лучшую жизнь. Теперь, думал отец, всё пойдет в своё хозяйство. А там, смотришь, сыны подрастут, силы в семье прибавится.
Перебрал старую избу, привёл в порядок двор. Наша постройка стала лучшей в деревне. Вторую, новую избу, обшили тёсом. Смеялись (а, может, и по правде так думали), что изба та достанется мне, когда женюсь и отделюсь. Я-то, конечно, этому верил.
Но с введением госпоставок жизнь усложнилась до невероятности. Сельсовет стал доводить план в разрезе культур. Приходили и обмеряли посевы, требовали ускорить сев, закончить к такому-то числу. С уборкой тоже торопили. И всё время нажимали на быстрейшую сдачу государству.
Удивительно: сколько я помню проводимых властью кампаний – всегда и по любому делу находились добровольные толкачи, так называемые активисты. Но не помню, чтоб среди них был хоть один трудяга. При ликвидации хуторов активисты лезли на чужие крыши, взламывали их, сбрасывали на землю. Дескать, без крыши хуторянин жить не сможет, постройку перевезёт в деревню.
Ладно бы платные сельсоветские работники это делали. Так нет. Те только науськивали. А бегали бесплатно (лишь бы не работать) извечные и всем известные лодыри вроде Щипаного. Бегали и мешали крестьянам разумно вести хозяйство. Казалось бы, чего проще: доведи годовое задание по сдаче продукции и в конце года спроси выполнение. Ан нет. Пытались добиться невозможного – планировать для сотен и тысяч единоличных хозяйств посевные площади и все работы.
Эти муки отец терпел стоически. Но сколько ни старался всё выполнять, сил, однако, не хватало. Год от года задания увеличивали. Пришлось продать сначала одну, потом другую корову. А задолженность всё увеличивалась.
За недоимку изъяли вторую, новую, “мою” избу. Кто-то купил её по дешёвке у сельсовета. Приехали на нескольких подводах, разобрали, увезли. Думаю, что это было последней каплей отцовской надежды на лучшее будущее. До этого он ещё верил, что либо переживёт, перетерпит “смуту”, выстоит и дождётся лучшего времени, когда, наконец, дадут людям жить. Либо – будет колхоз в своей деревне, и тогда смуту можно будет пережить пусть в колхозе, но дома. Хотя в колхозы он не верил.
После того, как порушили постройку, причем не хлев разломали, а лучшую избу, он ожесточился и перестал стараться в работе – всё равно не откупишься, сколько ни плати.
Волна коллективизации прокатилась. Наступило такое время, когда в колхозы гнать перестали. Про единоличников словно забыли, с них уже нечего было взять. Всё внимание власти сосредоточилось на колхозах. Трясли председателей, их сменяли, кого-то сажали.
Ласко́во обезлюдело. У Мишиных и у Бобкиных остались одни старики. Тимоха Макаров переехал в Тереховку. Умерла бабуша. Тятяша совсем состарился. На всех в Ласко́ве осталась одна лошадь. Отец продолжал пахать и сеять, чтобы только прокормиться. Коровы уже не было.
Наша семья в Ласко́ве жила бедно, но спокойно. Хозяином был отец.
Репрессии
1 декабря 1934 года был убит Киров.
Волна репрессий покатилась по стране. К 1937 году люди привыкли и перестали удивляться, если узнавали, что кто-то из вождей вдруг объявлялся врагом народа. Верили этому безусловно.
В клубе Сорокинского сельсовета висел портрет Тухачевского. Долго висел, хотя, я уверен, мало кто знал, кто такой Тухачевский. К портрету так привыкли, что его исчезновение сразу бросилось в глаза.
– И этот оказался врагом народа, – пояснил Строганов.
– Так у него и фамилия польская, – поддержал учитель Кило́чко.
Летом 1937 года я был на зачетной сессии в Псковском педагогическом училище. Город был пограничным с буржуазной Эстонией, в нём стоял гарнизон. Не раз приходилось любоваться движущимися по каменным мостовым кавалеристами. Ладные всадники, гнедые на подбор кони, грызущие удила, цокот многих сотен копыт…
Как-то утром узнали новость: ночью в Пскове арестованы первый секретарь окружкома партии Глушенков и главный воинский начальник.
Эту новость в Пскове обсуждали горячо. Одни говорили, что это ошибка, ссылались на то, что лично знали Глушенкова и его семью (он был из местных), что такой человек не может быть врагом народа. Другие полностью соглашались с нашими органами НКВД, восхищались верным сталинцем – Ежовым. Главного воинского начальника – командующего Пятым кавалерийским корпусом Рокоссовского – не знал никто.
Я был еще “молокососом” и не мог иметь своей точки зрения. Но верил, что враги народа есть.
За время сессии – 40 дней – арестовали двух наших преподавателей-историков. Они не были в штате педучилища, приходили к нам читать лекции из средних школ. Не могу сказать, какими они пользовались источниками, поскольку учебников по истории тогда не было.
– А прикидывался простаком, анекдотики травил, – говорили про одного из историков.
– Только если за анекдотики его и взяли, а уж секретов-то государственных, тем более – военных, он выдать не мог, потому что сам их не знал, – сказал пожилой учитель, заочник педучилища Ксёндзов. Он был на сессии вместе с женой, тоже заочницей.
Вскоре Ксёндзова арестовали. Его жену из училища отчислили, из школы выгнали.
Заочники прикусили языки…
В Сорокинской семилетней школе появился новый директор и учитель математики Арабей. Хороший учитель, а как директор – рачительный хозяин.
Однажды в клубе репетировали какую-то пьесу. Большинство ролей исполняли учителя. Арабей прекрасно играл немца.
– Борис Лукич, да вы как настоящий немец! – воскликнула руководительница драмкружка.
Не знаю, это ли насторожило его, или он сам понял, что “переиграл”, но участвовать в самодеятельности отказался. Вскоре его арестовали.
Позднее, на августовской учительской конференции говорилось, что враги народа и немецкие шпионы пробрались не только в районные организации, но даже в сельские советы и школы. Директор Шанёвской семилетки по фамилии Александэ́р заявил с трибуны:
– Мы должны с корнем вырвать вражескую агентуру! Она маскируется под лучших работников, добивается высоких показателей по успеваемости, втирается в доверие к начальству. Вон Арабей – ужом извивался перед заведующей РОНО и имел успех.
Вскоре арестовали и Александэра и заведующую РОНО. Были арестованы все районные руководители: секретари райкома, председатель райисполкома, прокурор, судья, начальник райотделения НКВД и другие.
Начали арестовывать и увозить самых обыкновенных крестьян. Так пропал навеки муж сестры моей будущей жены, мой свояк Семён из деревни Долга́ны.
Вышла в свет страниц на 300 книга начальника УВД Ленинградской области Заковского о шпионах и борьбе с ними. Её читали и восхищались работой наших чекистов. Вскоре узнали, однако, что и Заковский – шпион. И уж совсем ошарашило всех известие об аресте самого Ежова.
Отец тогда говорил так: “идёт борьба за власть”.
Гриша
Гриша, Грунин сын, в армии не служил. Не исключено, что тому причиной был его отец Семён, расстрелянный в двадцатом году красными за участие в “зелёной банде”. Мне ни разу не пришлось слышать о степени виновности Семёна – никто в Ласко́ве этого, по-видимому, не знал. А, может, и не было никакой его вины, просто время было такое. Знаю только, что ни Груню, ни Гришу с его сестрой Нюшкой, ни братьев Семёна – никто никогда им, Семёном, не попрекал. А помогали Груне все, кто чем мог.
Гриша с Нюшкой росли в бедности, но никогда ни на что не жаловались. И сама Груня не унывала.
Когда Гриша стал парнем, он стал ходить на ночные гулянки. Днем на ярмарках не появлялся – нечего было надеть. А ночью летом на улице что надел, то и ладно. Тем более что гулянки собирались в своей же деревне, под окном у Груни.
Характер у Гриши был задиристый. Как-то пришли в Ласко́во на гулянку мальцы из Калиниц и других деревень. Пришел и Витя, родители которого были раскулачены и высланы из Рожнёва. Он жил в Калиницах у родни.
Витя пришёл, поздоровался. Гриша, подавая ему руку, сказал:
– Здорово, кулак.
Витя ничего не ответил и присел на завалинку. В общем шуме-гаме, какой бывает обычно на гулянках, послышался голос Вани Трошо́нкова, тоже из Калиниц:
– Сперва на себя поглядел бы.
Отец Вани раскулачен хотя и не был, но уже не раз облагался твёрдым заданием, а потому Ваня тоже был из семьи, обиженной советской властью.
Не зря говорили: на своей улице и курица рогата. Как же Грише было утерпеть и не показать характер в своей деревне да еще под своим окном:
– А што – не ндравицца? Правда глаза колет?
– Ты правду в свои глаза коли! Людей обзываешь, а сам-то ты кто? – возмутился Ваня. – Поду-умаешь! Прощелыга голоштанная, лодырь – вот ты кто.
Витя молчал, видимо, опасался брякнуть лишнее – как-никак родители высланы.
– Побирацца в Калиницы не ходим. А вы, кулаки, к нам пришли, – задирался Гриша.
– Только не к тебе, – отрезал Витя.
– Да ладно вам! – вмешался Миша Бобкин.
Его дружно поддержали девки:
– Один пошутил, другой не понял.
– Теперь у всех одинаковое богатиство…
– Давайте лучше песни петь.
Тут кто-то стал тренькать на балалайке, а Нюшка Мишина – подпевать…
Обида, однако, не забылась. Как-то в Тяглице Грише пришлось убежать с гулянья – подвыпивший Ваня приступал к нему с железной тростью.
Позднее, когда в Ласко́ве из молодёжи остался один Гриша, во главе с ним по гулянкам шастала орава недорослей из соседних деревень и хуторов, и я в том числе.
– Гри-иш, а у тебя шайка-то как на подбор, – говорил кто-нибудь.
– Сьпитиально! – отвечал гордо Гриша.
В 26 лет он женился. В деревне Се́сино жила девушка Катя. Сама по себе славная и лицом, и статью, и до работы завистливая – всё горело в её руках, а вот сторонились ее мальцы за один недостаток: левая рука была тоньше правой. Гришу же все знали как лодыря, и уже девки его сторонились. А Катя взяла да и пригласила его посидеть рядышком на гулянке. Так раз за разом и зачастил Гриша в Сесино, а потом и женился. Через год сын Ваня народился, наш Митя стал ему крёстным.
Стал Гриша главой хозяйства. Но Кате жизнь в Ласко́ве не понравилась. Она скоро поняла, что здесь хозяйство уже не поднимешь, и стала настойчиво звать Гришу в Сесино. Гриша долго не соглашался, не хотел быть примаком.
И только перед войной, когда сельсовет приказал всем выселиться из Ласко́ва, Гриша с семьей переселился в Тереховку, где жил его дядя.
При немцах Гриша стал полицаем. Вряд ли он таким образом хотел свести счеты за отца, потому что для “политических” решений у него, попросту говоря, не было ума. Думаю, что его прельстили оружие, форма и жизнь на дармовщину.
Я не слышал ни от кого о каких-либо его жестоких поступках или участии в карательных операциях. Но при отступлении немцев он с семьёй ушел с ними. И – как в воду канул.
А “кулак” Витя честно защищал Родину, потом до старости работал кузнецом. Одно время был в Махновке председателем колхоза.
Вот вам и “классы” – кулаки, бедняки. Попробуй, разберись, кто есть кто.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































