Текст книги "Ласко́во"
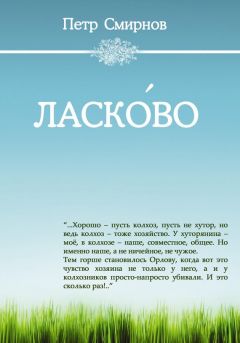
Автор книги: Петр Смирнов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
В лавке
В годы нэпа была разрешена частная торговля. В селе Травино́ лавку имел Платон Васильев, а торговал в ней его женатый сын Миша.
Отец сказал мне, что мы пойдем в лавку. Я не мог понять, как это можно пойти в лавку. Лавка – ведь это широкая скамья вдоль стены в избе. На лавке можно сидеть, спать, но войти?..
По дороге отец объяснил, что лавка – это изба, в которой продают товары. А когда пришли в Травино, я увидел в лавке баранки, пряники, конфеты. Папаша покупал косу и еще что-то, но только не гостинцы. А просить я стыдился.
Зато мой ровесник Ванька из деревни Желны́ смело шмыгнул под прилавок и схватил баранку.
– Вот молодец! На́ еще, – сказал Миша и подал Ваньке вторую баранку.
Отец Ваньки Никон и папаша рассмеялись.
– Дай же и моему Петьке, – попросил у продавца папаша.
Я всю обратную дорогу жалел, что не я, а Ванька такой смелый. Его сам продавец похвалил.
Надька
Надька из деревни Фóченки иногда бывала у Бобкиных в гостях и вместе с нами бегала по улице. Ее тетя и крёстная, Машка, Коли Бобкина мать, говорила, что выдаст Надьку за меня замуж. Всё Ласко́во дразнило меня Надькой, а я этому только радовался.
Бабка Васи́ха (сестра дедушки Алексея) спрашивала меня:
– Сынок, ты никак жениться будешь?
– Ага, – кивал я головой.
– А замуж-то кого ж возьмешь?
– Надьку Фоченскую.
– А где ж вы жить-то будете?
– Ту́ю избу отломаем и построимся на гуменнике.
– А меня в гости-то пустите?
– Не знаю, как яна́-то (т. е. она).
Взрослые долго пересказывали нашу беседу – вот я её и запомнил.
Надька же про то не знала, пока я лет через пятьдесят ей это не поведал.
Гусак
Иван Матвеев всю свою жизнь прожил в родной Терехо́вке. В молодости был очень силён, смел, голову держал гордо, за что и был прозван Гусаком.
Гусака знали далеко: не была такой драки, где бы Гусак не побеждал. Его боялись, потому что он кулаком сразу сбивал с ног. Да и компания у него была подходящая, только и ждала гусаковой команды.
Прошло много лет. Гусак был уже многодетным отцом и даже дедом, но ещё все признавали его силу. Побаивался его и полоумный Антон, хотя и самого Антона все опасались, старались не сердить. Рассерженный, он мог ударить чем попало.
Как-то раз Гусак чем-то рассердил Антона. Тот побагровел, схватил камень, замахнулся, но тут же бросил камень в сторону, затопал ногами и стал ругаться жуткими словами:
– У-у! Ы-ы! Гусак! Огурец! Фабрика!
Тогда Гусак стал успокаивать и хвалить Антона. Помирились.
Кузьма
Кузьма Иванович Кукушкин из деревни Тя́глица, маленький, юркий мужичонка, жил на хуторе близ нашей деревни. Свою первую жену Нюшку он выгнал из дому, и та ушла к отцу в деревню Шума́и. Боясь мести Нюшкиных братьев, Кузьма через Шумаи больше не ездил, а делал большой крюк через Ласко́во, Сидорёнки, Красики́, Сиго́рицы.
Возвращаясь как-то раз домой в дровнях в лютый мороз, Кузьма отчаянно замёрз. До дому еще далеко, а кобыла, как на грех, выбилась из сил. Что делать?
Вспомнил Кузьма, что вместе с хлебом жена Оля положила в мешок стручковый перец. А что если “согреть” кобылу? И натер Кузьма перцем кобыле под хвостом.
Кобыла понеслась, поджимая хвост, а Кузьма в своих дровнях замёрз еще больше. Когда кобыла, устав, пошла шагом, Кузьма решил согреться сам. Натерев перцем задницу себе, Кузьма побежал впереди кобылы. В Ласко́ве сбросил тулуп, а у собственной избы только успел крикнуть жене:
– Оля!! Кобылу выпряги! А я – пошёл!
Набегавшись, рассказал всё Оле. Оля – тяглицким и ласковским бабам, а уж те – всему свету.
Уха
Махновский дядя Лёшка изредка полавливал в озере рыбу. На удочку. Не как другие, конечно, а всё же и он приносил домой плотичек, окуньков, ершей. Так что семья время от времени баловалась ухой. Нам, в Ласко́ве, где поблизости не было ни реки, ни озера, такого не доставалось.
Но вот однажды тетя Нюша прислала нам свежей рыбы с ребятами – Ванькой и Васькой. Бабуша немедля в горшочке на тагане сварила уху и всех нас, ребят, усадила за стол. Налила в одну чашку, оставив в горшке и взрослым к обеду, предупредила:
– Ешьте, только не деритесь.
Мы хлебали вкуснющую уху деревянными ложками и норовили выловить рыбёшку. Старший из гостей, Ванька, толкал под столом коленом брата, который тоже старался поймать рыбу в чашке. Тот не понимал, в чём дело, и Ванька шептал ему в ухо:
– Васьк, не ешь рыбу-то…
Но Васька сопит себе и ловит дальше. Ванька толкает и шепчет снова, грозно:
– Васьк, кому говорю!..
Васька, не отрываясь от рыбешки, обиженно и громко:
– Да я только уху-у!..
Перец
В тот или другой раз, не помню, Васька увидел у нашей мамы стручки красного перца:
– Теть Дунь, дай мне пелцу домой.
– Пе-ерцу? – удивилась мама.
– Ага.
– Много?
– Не-е. Один стлук (т. е. струк, стручок).
Подав Ваське стручок, мама поинтересовалась:
– На что ж тебе перец, кормилец?
Васька спрятал перец под рубаху, нехотя ответил:
– В ба́йне поло́к намажу.
– Полок намажешь? Зачем?
– Бабы сядуть – пускай повопу́ть (т. е. повопят, покричат).
– Ах ты, шкет! Отдай перец!
Но Васька уже был за дверью.
Кино
Ходил слух, будто в городе стали показывать “живые картины”.
– А как это – живые картины?
– А так: люди на картине бегают, шевелят губами, руками машут.
– Неуж правда?
– И животные двигаются. Вот, к примеру, нарисована лошадь с телегой. И на телеге едет человек, и конь, прямо как живой, идет и головой и хвостом машет.
– Это какой-нибудь “туман” пускають в глазы…
– Никакой не туман. Говорят тебе – картина.
Пришло, наконец, время и нам посмотреть “живые картины”. Темной зимней ночью в пустом доме е́сенского Васи показывали немое кино. Старухи не пошли – побоялись греха. А молодых и ребят – полная изба. Мы уселись прямо на полу у самого полотна.
И смех, и шум, и крик – это когда прямо на нас пошёл паровоз. Страшно ведь!
Цыган Гаврила
В наших краях в те годы было много цыган. С ранней весны, как только зазеленеет первая трава, и до поздней осени, когда лошадям в поле взять уже нечего, цыгане жили в шатрах. Вставали табором на две-три семьи неподалеку от деревень, где-то в затишье, среди кустов, вблизи ручья. Чтобы и вода была хорошая рядом, и трава, и чтобы цыганки успевали напобираться и сготовить ужин.
Их шатры появлялись и возле нашей деревни, но редко и только осенью. Весной и летом мужики не позволяли им стоять на наших угодьях, потому что сенокосов и пастбищ самим было мало. А вот тя́глицкий Никандр, живший на хуторе недалеко от Ласко́ва, не занимал полностью свою землю, и возле него цыгане вставали табором не один раз за лето.
Ежедневно с утра цыганки уходили в деревни просить милостыню и гадать. Для большей убедительности в своей тяжкой доле таскали с собой малых детей. Взрослые цыгане и мальчишки оставались в таборе, сидели у костров, кормили и поили лошадей. Часто в таборе оставался один старик, а молодые цыгане верхом на лошади под попоной, без седла, уезжали в деревни искать случай обмена лошадьми. Это было главным в их жизни – иметь “придачу” за лошадь. Что там принесет цыганка?.. Всё будет съедено в один присест. Другое дело – цыган “примет” за лошадь! Или барана, или теленка, а то и немалую сумму денег. Цыган точно знает, у кого из мужиков появились деньги.
Группа цыганских семей, состоящих в родстве, обычно кочевала в одних и тех же местах. Поэтому крестьяне хорошо знали “своих” кочевников.
Гаврила Козлов часто бывал в нашей деревне, и мне он запомнился больше других цыган. Среднего роста, широкоплечий, немного сутулый. Лицо со следами оспы, окладистая черная борода, подпаленные куревом усы. Говорил мало, картавил и немного заикался, сидел на лавке обычно молча и беспрестанно курил махорку.
Мужики цыганам не верили, считали их обманщиками. Так оно и было. А иначе цыгану не на что жить, обман – цыганская профессия. Однако Гаврилу считали почти своим, ему доверяли больше. Может быть, отчасти потому, что его жена Устиха была русская. Может, он и вправду своих, ближних мужиков меньше обманывал.
Однажды отец захотел заменить состарившегося коня Ваську. Попросил Гаврилу пригнать коня помоложе и обменять на Ваську. Весной Гаврила приехал верхом на гнедом мерине. Конь был чуть меньше нашего Васьки, но круглее и упитаннее.
– Иди гл-ляди, – позвал отца Гаврила.
– Что ж глядеть, мне сеять надо, а на старом не отсеяться, – ответил папаша, оделся и вышел на улицу.
Обошел коня, осмотрел, спросил у тятяши:
– Гляди, тятьк, будем менять ай не? Наверно, придать придется.
Гаврила вмиг преобразился при этих словах. Отвязал от изгороди повод, кнутом подхлестнул коня по задним ногам. Конь подскочил и, дрожа всем телом, заплясал вокруг цыгана. А тот, держа повод в левой руке, знай похлестывал его по ляжкам да приговаривал:
– Гл-ляди! Гл-ляди! Гл-ляди! Да это не конь, а птица! Ты прлосил – я прлигнал! Как рлаз што тебе надо – молодой, ей-богу не врлу, шестой год, корломной (т. е. коромно́й – хорошо упитанный), не порлченый, век благодарлить будешь!..
Отец взмолился:
– Гаврил, Гаврил, брось, не стебай, не надо! Дай лучше проехать, в плуге попробыть, а бить не надо!
– На! Прлобуй, где хошь прлобуй! Мне стынно не будя, сам спасибо давать будешь, прлавду говорлю.
Подошли деревенские мужики.
– Давай, давай, Васьк, меняй, на барышах и нам што-нибудь перепадё, – пошутил Тимоха.
– Ме́ны без барышов не быва́я, – поддержал дед Бобка.
– Да-а, цыгану хоть плюнь, да на руку, – без придачи он менять не бу́дя, – добавил дядя Миша.
Тятяша молчал. Было видно, как жаль ему расставаться с любимцем Васькой. Потом проговорил тихо, будто самому себе:
– Доку́ль (доколе) не меняй, а хомут на гвозд повесишь.
Гаврилу вдруг это заело. Пока говорили мужики, он молчал, словно он здесь посторонний. А тут не стерпел:
– Ты коня гл-ляди, весь омман в глазах, прлобуй где хошь, я тебе всю прлавду говорлю, а ты гл-ляди. Когда я тебя омманул, скажи?!
Коня впрягли в плуг. Прямо за нашим двором была нетронутая полоска, на ней и решили испытать мерина.
Гаврила шел сбоку, готовый немедленно подстегнуть лошадь кнутом, если остановится. Отец просил не трогать коня – хотел убедиться, насколько тот обучен ходить в борозде и как выдержит испытание на тяговую силу. Наш старый Васька, к примеру, и в повозке и на пашне ходил быстро. На крепкой пашне он почти бежал, но быстро уставал, часто останавливался и тяжело дышал.
Цыганский конь шел ровно; плуг, правда, тянул, напрягаясь изо всех сил. “Комиссия” признала его годным. Отец, приплатив Гавриле овцу в придачу, променял его на Ваську. Гаврила, подстелив попону и сев верхом на Ваську, подстегнул его своим плетеным четырехгранным ременным кнутом. Конь, от роду знавший только ласку и не ведавший кнута, с места понес ошалелой рысью. У нас у всех – у тятяши, у отца, у мамы, у меня с Митькой невольно покатились слезы…
Прощай, Васька!
Всю свою конскую жизнь служил ты верой и правдой хозяину, нисколько не жалея себя, не вылезая из хомута с ранней весны до поздней осени. А под старость отдали тебя цыгану, потомственному кнутобою. Ох, и больно стегает цыганский кнут!..
Родился Васька, когда меня еще не было на свете. Масть его вначале была желтой. А я помню его белым с желтыми крапинами. Когда уже двухлетнего (“в боронку”) запряг его папаша в дровни, чтобы обучить, Васька сразу побежал как надо, рысью, ни разу не сбившись на галоп. Крепкий хозяин оставил бы такого жеребца для выезда, а работал на кобыле. Но отцу держать пару лошадей было не под силу. Поэтому, как ни жаль было, трехлетнего (“в соху”) Ваську отвели к коновалу. Когда рана зажила, Ваську в хозяйстве оставили одного. Кобылу, его мать, продали.
Васька был, как тогда говорили, уда́лый. Ни кнут, ни прут на него был не нужен. Хоть после пахоты, хоть после дальней поездки он шел весело, с высоко поднятой головой, чутко навострив уши. Стоило крохотной пташке выпорхнуть из-под ног, он весь вздрагивал от испуга, а то и шарахался в сторону или пускался в бег. Эту свою пугливость он сохранил до старости.
Зимой, когда работы в хозяйстве было немного, для Васьки любая поездка была немыслимым удовольствием. Помню, тятяша, чтобы размять застоявшегося в конюшне коня, запрягал его в легкие санки и, усадив меня рядом, ехал в Киселёво в церковь. От Ласко́ва до Тяглицы не было хорошей дороги, и лишь за Тяглицей Васька начинал кивать головою то влево, то вправо, прося хозяина разрешить ему бег.
– Ну, давай, Васька, давай, согрейся, – говорил тятяша, натягивая вожжи. И конь быстро набирал такую скорость, что у меня захватывало дух, и я обеими руками держался за тятяшу.
А когда я подрос, мне много приходилось и работать, и ездить на том коне.
Прощай, Васька! Где суждено тебе протянуть ноги и сделать последний вздох?..
На следующий день после обмена лошадей обнаружилось, что новый конь опоен. Ах, чертов цыган!.. Ах, Гаврила, Гаврила, гад ты тёмный! Обманул, будь ты проклят, бесов сын!..
– Я говорил, докуль не меняй, а хомут на гвозд повесишь, – сказал тятяша.
– Почём было знать, вчера не хрипел, – оправдывался отец.
Делать было нечего – пришлось работать хоть на опоеном, но более молодом коне.
А цыгане уехали неизвестно куда, и всё лето в наших краях их не было. Появлялись другие, незнакомые. Где Гаврила, они не знали. Разве выдаст цыган цыгана?
Гаврила появился уже под осень, встал табором на хуторе у Никандра, навестил Ласко́во сразу же:
– Слышь, Васьк, никак, говорля, ты и етого коня опоил?
Все матюги выложил на него отец, а Гаврила лишь клялся христом-богом, что ни в чем не виноват. Сошлись на том, что Гаврила подгонит другого коня. Через какое-то время отец еще раз у него сменял лошадь, и снова что-то ему приплатил. Куда было деваться?
Среди цыган Гаврила был самым богатым и авторитетным. Если другие имели одну-две лошади, то Гаврила – три, а то и четыре. У него был постоянный резерв, который он пускал в обмен в самый для себя выгодный момент, и как никто другой умел получить барыш. И Устиха не “цыганила”, как другие, не клянчила, а сидела у людей степенно и уверенно, ждала, когда подадут. Ей и в самом деле подавали без её просьб.
У Гаврилы с Устихой было двое детей – дочь Нюшка, старше меня лет на пять, и сын Ваня, мой ровесник. Помню Нюшкину свадьбу. Со всей округи приехали цыгане и весь день пели и плясали на улице (дело было летом). Все пили, но пьяных не было, только веселились. “Цыган богатый, и свадьба богатая”, – говорили в народе. Правда, с тем мужем Нюшка жила мало, вскоре от него ушла и вышла за другого. Лет через десять стала матерью-героиней.
Ваня играл вместе с нами, когда мы бегали в их табор. Изредка, тайком от отца, и он прибегал к нам в Ласко́во. Видимо, русская материнская кровь звала его к деревенским ребятам, а отец этого не одобрял. Учиться цыганскому языку Ваня наотрез отказался. Нам удалось уговорить Ваню ходить с нами в школу. Устиха согласилась. Правда, Ваня через неделю школу бросил.
О Гавриле, смеясь, рассказывали, что однажды на ночлеге в деревне у его жены начались родовые схватки. Устиха разбудила мужа – беги, мол, за бабкой. А ему очень не хотелось вставать, идти тёмной осенней ночью по грязи. Пробурчал:
– О-о, бес, о-о, бес, надумала ночью рложать, тебе дня не было? Погоди до утрла, тогда пойду…
Ещё случай. Гаврилу в одной деревне мужики за обман били. Уж не знаю, чем именно – кольями или только кулаками. Гаврила отбивался кнутовищем. А кнутовище у него было бамбуковое, внутри залитое свинцом. Если ударить толстым концом, мало кто устоит на ногах. Но в тот раз Гавриле пришлось туго, и он стал звать-кричать на помощь жену:
– Устих, бей котел-лком, не жалей сметаны!!
Таким я запомнил Гаврилу Козлова.
Грава
В деревне Шума́и, что километрах в двух от Ласко́ва, жил мужик по имени Грава, – Евграфий, значит. Был он в одних годах с моим дедом. Ходил согнувшись, с заложенной за спину палкой, которую держал на согнутых в локтях руках. Видимо, у него был радикулит.
В прежние годы Грава плотничал по найму. И был, говорили, этаким чудиком.
Нанялся как-то он у одного мужика рубить избу. Когда выпили “сли́тки” (т. е. “обмыли” устный договор), мужик и говорит:
– Дядя Грава, нам надо договор написать.
– Какой такой договор? – удивился Грава.
– Так чтобы все честь по чести было.
– А я, бра, и так честь по чести.
– Так-то так, дядя Грава, а все ж по договору вернее.
Не понравился Граве такой разговор, но раз слитки выпиты, отказываться не стал, согласился работать по договору:
– Пиши, бра, договор. Только не забудь всё написать.
Написал мужик договор, прочитал Граве. Выслушал Грава, усмехнулся, но ничего не сказал. Поставил вместо подписи крестик, потому что неграмотный был.
Сделал все, как в договоре написано: сруб в три су́крома (части) разложил, в последнем подшпа́рную обвязку сделал, шпа́ры (стропила) врубил, нижние и верхние переклады положил. Мужик работу принял и рассчитался с Гравой. И только когда собрал он народ мшить избу (т. е. укладывать мох между бревен), все увидели, что в избе ни двери, ни окна не выпилены, вроде колодца получилось.
Понял мужик, что допустил оплошность, да поздно, пришлось так и сомшить избу.
Встретил он как-то Граву и стал ему пенять:
– Не по-честному ты сделал, дядя Грава.
– Что так, аль худо срубил?
– Срубил не худо, а ни дверь, ни о́кна не вырезал. Нехорошо, дядя Грава, я честным тебя считал.
– А погляди-ка, бра, ить в договоре-то не сказано про дверь да окна.
– Так ты-то, дядя Грава, не первую избу рубил, знаешь, как надо.
– Знаю, бра, потому и говорил тебе, что без договора лучше. А ты ить сам уперся – с договором вернее. Вот и пеняй, бра, на себя.
Так и пришлось мужику нанимать другого плотника, чтобы в “колодце” прорубил дверь да окна.
Плотничал Грава в другой деревне и, видно, хозяйка плохо кормила плотника. В те времена сельского народу было много. Земли не хватало для пашни, леса и кустов – для дров. Поэтому щепки хозяйки бережно подбирали. В верхнем бревне, чтобы оно плотнее прилегало к нижнему, вырубается паз. При этом плотник может вырубать щепки крупные, которые, высохнув, годятся в дрова. Но может и накрошить мелко, так, что будет одна труха, которая и горит-то плохо. Грава сперва выщепывал крупно, паз вырубал глубокий. Хозяин был доволен: и щепки хороши, и мох как надо ляжет в паз.
Но вот хозяин стал замечать, что Грава и паз вырубает мелкий, и щепок совсем нет, одни крошки. Спрашивает:
– Что ж ты, дядя Грава, мелко паз-то рубишь?
Грава отвечает:
– А, бра, какой квас, такой и паз.
Почесал мужик в затылке, да и велел хозяйке побольше класть в окрошку капусты да снетков.
Или такой случай. Опять к скупой хозяйке попал Грава. Капусты в квас она положила достаточно, а вот снетков – маловато. Выловил Грава из общей чашки снетка, обсосал его, привязал к нитке, вышел из-за стола, взял у порога веник и давай гонять и хлестать бедную рыбёшку:
– Не ходи один, ходи в стаде! Не ходи один, ходи в стаде!
Хозяин накинулся на хозяйку, та мигом принесла снетков и густо насыпала их в окрошку:
– Да что ты, что ты, дядя Грава, да нешто нам жалко, да у нас их много…
А Грава хлебает квас да вроде оправдывается:
– Да я, бра, не вас, я снетка проучил.
У другого хозяина хлебали горячий суп со свежими грибами и сметаной. То ли больно хорош был суп, то ли его мало было в одной чашке для большой семьи – так или иначе Грава решил доесть его один:
– А грибы-то, бра, до того склизкие, что сразу скрозь проваливаются, ижно об стул шлёпают.
Хозяйка не поверила:
– Неправда, неправда, дядя Грава, так не бывает, чтоб сразу.
Ребятишки заинтересовались, давай один за другим проверять, глотая грибы и ощупывая стулья.
– Правда, и у меня шлёпнул! – соврал один.
– Не ври, – возразил другой, – у меня не шлёпнул.
– А ты не так, – сказал Грава, – гляди сюда.
Выловил в чашке гриб, проглотил, засунул руку за пояс, вытащил и показал на ладони …гриб.
– Пра-авда! – закричали ребята.
– Вот это да! – засмеялся хозяин.
А Грава – бац! – бросил гриб в чашку, аж брызги полетели. Вся семья – вон из-за стола. А Граве только то и надо. Один доел суп. И невдомёк никому было, что достал-то он из штанов другой гриб, приготовленный заранее.
Гармонь
В гости к Бобкиным по праздникам приходил их родственник Степан из деревни Ли́пово, статный, красивый и немного форсистый парень с гармонью. Именно из-за гармони он слыл хорошим парнем.
– Сыграй, Стёпк, сыграй, пусть девки-то попою́ть, – просили бабы, когда собиралась молодежь.
Степка брал в руки свою трёхрядку и играл “новоржевскую”. Рядом подсаживалась одна из девок, чаще это была Нюшка Мишина, и пела. А плясал под гармонь лучше всех Миша, двоюродный брат Степки, тоже гость Бобкиных. Уже после войны Миша взял фамилию Бодров.
Гармонь в ту пору была редкостью, и тот, кто умел на ней играть, был в большом почёте у народа. Гулять шли туда, где играла гармонь. Без гармони и праздник не праздник. Ярмарку было слышно издалека по звукам двух-трёх гармоней и песням подвыпивших парней. Под гармонь начинались драки на ярмарках, когда сходились – ватага на ватагу – разгорячённые, поющие и приплясывающие, с тростями в руках ма́льцы.
Играть на той гармони было непросто. Это потом уже появились “хромки”, на которых играли многие парни и даже девушки. У “хромки”, если нажать на клавиши, то хоть растягивай, хоть сжимай мех, звук одинаковый. А у трёхрядки он в обоих случаях разный, и гармонист должен уметь не только нажать нужные клавиши (“свистки” и “басы”), но и выбрать точно момент для растягивания или сжатия меха.
Всё это я узнал много лет спустя, а в раннем детстве спал и видел гармонь в своих руках, играл на ней точно как Стёпка липовский. Проснувшись, продолжал напевать мелодию. Днём из стружек делал подобие гармони и снова пел и “играл”, вовлекая брата Митю и соседских мальчишек. Они тоже “заболели” гармонью. И какова же была моя радость, когда тятяша подарил мне почти что настоящую гармонь! Потешник, он тайно от нас сделал ее подобие из деревянного чурбака. И хватило же у старика терпения выпилить ножовкой каждый “зуб” меха со всех четырех сторон! Получилась полная копия гармони, только мех не растягивался да не было клавишей – играть надо было языком.
Долго я забавлялся той гармонью, но всё равно мечтал о настоящей. И что-то немногое помешало мне её заиметь.
Что срубил – дом или хлев – папаша тяглицкому Ване Кукушкину, не помню, и тятяша хотел, чтобы тот в оплату отдал свою гармонь. Ваня согласился. И мне об этом сказали – и прыгал же я от радости! Ваня всё равно играть не умел, а гармонь ему досталась при разделе с братом Кузьмой, поэтому он отдавал её охотно.
Но, видимо, отцу хлеб был нужнее, и гармонь мне так и не досталась. Её потом купили Володе из Éсенки, и он ходил к Кузьме Кукушкину учиться играть. Однако у Володи ничего не получилось. Как говорят, если таланта нет, на базаре не купишь.
А я тогда научился делать гармони из листа бумаги. Мех растягивался и сжимался, а язык выговаривал любой мотив.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































