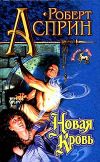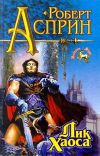Текст книги "Сезон штормов"

Автор книги: Роберт Асприн
Жанр: Фэнтези
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)
Эндрю ОФФУТ
КРЕСТНИК
Гансу совершенно не хотелось становиться ни солдатом, ни членом команды Темпуса, так называемым пасынком, но меньше всего ему хотелось оказаться среди тех пасынков-новобранцев, которым еще предстояли выучка и муштра. Да он просто не желал, чтобы кто-то там, будь он проклят, наставлял его или учил чему-либо. Вот чего он определенно хотел и на что с надеждой уповал, так это чтобы ему позволили всегда оставаться самим собой, быть Шедоуспаном, просто Гансом, наконец. Надежда на это, однако, пока только слабо брезжила перед ним. А для него это был вопрос жизни и смерти. По молодости лет он не знал еще, что многие и очень многие потратили всю жизнь на разгадывание истинного своего предназначения, на выяснение того, кем они были на самом деле и кем или чем могли бы стать.
Но если бы даже он и догадался об этом, ему вряд ли стало бы хоть чуточку легче.
Волею всевышнего бога Ильса он был Гансом! Не Гонсалесом, не Гонзалесом и не Ганцем. Именно Гансом!!!
Проблема заключалась в том, что, по сути дела, он до конца не понимал, что это значило.
Кто такой Ганс? Что такое Ганс?
О Каджет! Ну почему они убили тебя!.. Уж ты-то мне разъяснил бы, разве нет ?
Он привык, что все вокруг было просто и примитивно.
В жизни вообще все просто. Взять вот этот город под названием Санктуарий. Как и в любом месте, в нем живут разные люди: у кого-то всегда при себе тугой кошелек, а кто-то постоянно ходит с пустым желудком. Как обычно: волки (точнее, шакалы, да что уж говорить об этом…) и овцы. Каджет Клятвенник, Ганс, верный его ученик и последователь, всегда радовавший учителя, ну и все эти простаки, человеческие существа с овечьей психологией. А густые тени и полумрак – для того, чтобы легче было обдирать их как липку.
Так вот и складывалась жизнь вокруг него, в этом своего роде микрокосме, мире мошенников и воров.
А теперь вот! Теперь везде появились эти чванливые, задирающие нос рэнканцы, и этот принц Кадакитис, который единолично правит здесь, хоть и не зазнается. И еще этот Темпус…
И Темпус, о всемогущий наш бог!.. Расхаживает повсюду с гордым видом, и эти его дружки-наемники… Не так уж все и просто на самом деле!
А тут еще вдруг обратившееся к нему и заговорившее с ним, Гансом – Гансом! – божество, сначала одно, потом другое…
Ганса, конечно, очень устроило бы, если бы они, эти двое, договорились лучше сначала друг с другом. Каждому – свое… Дело солдат – убивать, дело принца-губернатора – казнить и миловать, боги должны заниматься своими божественными делами, а жалкому ночному воришке в этом темном преступном мире положено красть.
И зачем боги втягивают Шедоуспана в свои дела!
Послышался скрежет скрестившихся в воздухе мечей, потом один остро отточенный клинок с размаху ударил и скользнул по другому. При этом раздался гулкий звон, как если бы по металлическому листу с силой ударили топором. Это малоприятное, если не отвратительное зрелище сопровождалось разноголосым ворчанием, криками и междометиями, вырывающимися попеременно из глоток противников.
– Тебе снова удалось остановить меня, Стеле! – сказал один из участников боя, отступая, и так резко откинул назад голову, что чуть не вывернул себе шею.
Обильный пот, как густая маслянистая жидкость, стекал по вконец спутанным черным волосам, заливая глаза и окровавленную повязку на лбу. Он резко дернул головой в надежде стряхнуть с лица капли пота, и в этом жесте проявилась свойственная юности нетерпеливость.
– Запросто! – произнес другой.
Он был крупнее своего противника и ненамного старше, в лице его проглядывало, казалось, что-то совсем мальчишеское, в то время как на лице соперника застыл выработанный временем и явно старивший его угрожающий взгляд. По сравнению с ним тот, что покрупнее, казался чуть ли не светловолосым. Редкая проседь, словно следы выплеснувшегося и застрявшего в шевелюре серебра, придавала его волосам пепельный оттенок.
– Работа у меня такая. А ты, Шедоуспан, молодец, ну просто истинный талант! А теперь хочешь, сразимся верхом? – По его лицу было видно, что он воодушевился от своего предложения, и даже голос его дрогнул от волнения.
– Нет.
Человек, названный Стелсом, подождал с минуту. Тот же, которого назвали Шедоуспаном, не обольщался насчет своего прозвища, которое, будучи брошенным в разговоре вот так просто, как бы между прочим и почти бесстрастно, было фактически одним из нескольких оскорбительных слов, встречающихся практически в каждом наречии. Человек по прозвищу Стеле постарался скрыть свое разочарование.
– Нет так нет! А как насчет.., твоих ядрышек, а? – выкрикнул он и стремительно сорвался с места. Со свистом рассекая воздух своим отливающим серебром мечом, он яростно набросился на юркого крепыша в одежде пыльно-серого цвета, который, бросаясь из стороны в сторону, ловко уворачивался от ударов, даже не пачкаясь при этом. Его не устраивал тот факт, что, напоровшись на меч противника, он мог поставить под угрозу возможность продолжения своего собственного рода, что было пострашнее любого самого опасного на свете вируса. Вдруг его противник резко остановился, ожидая, по-видимому, ответного удара. Однако никакого ответного удара не последовало. Шедоуспан просто вышел из игры. Так и стояли они друг против друга, с одной стороны – опытный тренер-наставник по имени Стеле, с другой – его блестящий ученик, прозванный Заложником Теней. Затем последний сказал:
– Да хватит, Нико! Мне порядком надоела вся эта бутафория и показуха.
– Бутафория? Бутафория, говоришь, ты, чертово отродье!
Да если бы ты вовремя не увернулся, Ганс, хору мальчиков с ангельскими голосами очень скоро пришлось бы отпевать тебя в храме!
Ганс сдержанно улыбнулся, а он редко улыбался, чаще это была не улыбка, а усмешка, что полностью отражало его внутреннее состояние и соответствовало ему. Вот и сейчас он скорее усмехнулся, хотя это и не было выражением презрительного или пренебрежительного отношения к члену Священного Союза, одному из так называемых пасынков, который на самом деле очень многому его научил. Он, конечно, и сам проявил большие способности, был необыкновенно ловок в бою. А теперь стал опытным бойцом, посвященным во все тайны тактики боя, что, безусловно, повышало уровень его мастерства.
– Но я же увернулся, Нико! Я все-таки увернулся, и об этом тебе следовало бы рассказать Темпусу, именно тебе, кому было поручено сделать из меня первоклассного фехтовальщика.
И скажи ему, что я по-прежнему не собираюсь становиться солдатом. У меня нет ни малейшего желания убивать кого-либо, независимо от того, «благородно» это или нет.
Нико молча посмотрел на него.
«Щенок.., проклятый, – размышлял он. – Как же надоел мне этот сопляк с его вечными ухмылками! Мне, прошедшему через войну и знающему ей цену. А он, не имея ни малейшего понятия о войне, осмеливается еще и насмехаться над теми, кто на собственной шкуре испытал все ее тяготы. Отца ни у него, ни у меня не было. У меня – потому что его убили, убили на войне, когда я был еще мальчишкой. А у этого ночного вора, только и знающего, что разгуливать по улицам, ощетинившись торчащим во все стороны и свисающим с ремней различным холодным оружием, – из-за того, что его отец и мать едва смогли бы при встрече узнать друг друга. Никогда и ни за что на свете не хотел бы я оказаться на месте этого.., омерзительного крысеныша, такого самонадеянно счастливого провинциала, и не подозревающего даже о своей никчемности! По мне, лучше оставаться просто человеком.
Я сделал из него бойца, настоящего фехтовальщика, и все только для того, чтобы он еще больше возгордился».
– У тебя такой вид, Нико, будто ты держишь камень за пазухой. Да, конечно, я ночной вор и подонок, но мне удалось побывать в спальне властительного принца.., и даже самого Темпуса.
Как и полагалось пасынку, Нико не подал виду и не произнес ни слова, никак не отреагировав на эту тираду. Но в душе у него все кипело. Все наскоки Ганса были дешевкой. Такой же дешевкой, как эти девочки-малявки, которые, едва достигнув половой зрелости, сразу становились проститутками, промышляющими на улицах Лабиринта, одного из самых грязных и сумрачных предместий Санктуария. Одна из них и породила в свое время этого непосредственного и даже наивного юнца. С тем же невозмутимым видом отступив на шаг, Нико резким движением вскинул клинок прямо перед собой, скрупулезно и тщательно, слегка кося глазом, осмотрел его лезвие и лишь после этого ловким и почти неуловимым движением убрал оружие в ножны.
В Санктуарии была не настолько угрожающая обстановка, чтобы нужно было все время держать в руке меч с обнаженным клинком. Ганс тоже вскинул меч и повернул к себе клинок, с тем чтобы так же внимательно, сощурив глаза, осмотреть его, а затем, держась правой рукой за ножны, повернул его острием к себе, не отводя при этом ни на секунду тяжелый, мрачный взгляд от лица своего учителя-тренера. И так же не глядя, отвел руку вбок и кинул оружие в ножны с чрезвычайно довольным и гордым видом.
– Здорово это у тебя получилось! – не удержался от похвалы Нико.
И не потому, что так уж требовался этот его комплимент или так уж он растрогался. Скорее для того, чтобы использовать возможность не только испытать чувство глубокого удовлетворения, но и напомнить им обоим о том, кто на самом деле обучил этого бездельника всем манипуляциям с оружием так, что он мог теперь с блеском демонстрировать свое искусство.
(Мужчина, объяснял Гансу Нико, должен уметь выхватывать оружие из ножен в любой, даже самый неподходящий момент и всегда быть готовым отразить нападение врага. При этом важно следить за тем, каким образом он достает свое оружие. Когда, взявшись за ножны и глядя вниз, он начинает возиться с клинком, он становится незащищенным и уязвимым для противника.
Именно тогда незаметно подкравшийся враг или притаившийся где-то рядом сообщник только что убитого в бою человека получает возможность наброситься на него, и тут уж нет времени возиться с ножнами – убирать клинок в ножны или, наоборот, вынимать его из них, – всему и сразу приходит конец. Поэтому мужчина, мало-мальски разбирающийся в оружии и знающий ему цену, первым делом выучивается резко вскидывать клинок вверх, затем вперед и назад, острием к себе, а потом одним движением, без задержки и промедления, вставлять его обратно в ножны. А глаза тем временем неусыпно следят за тем, чтобы не пропустить момента нападения.) Этому и обучил Ганса Никодемус, прозванный Стелсом.
Темпус чувствовал себя обязанным Гансу, хотя они и не были такими уж близкими друзьями. Вот и приходилось Нико платить по долгам Темпуса – по его поручению обучать искусству фехтования этого молодцеватого, петушащегося по любому поводу и заносчивого юнца по имени Ганс.
– Эй, твой щит!.. – окликнул его Ганс.
Нико глянул на него. Он стоял, прислонясь к грязной кирпичной стене, возле круглого щита. Поверхность щита была почти отполирована, а также обильно и многократно полита трудовым потом: так долго и усердно они с Гансом тренировались в манипуляциях с клинком. И вот Ганс одним движением руки – широким и плавным, словно кошка лапой, – провел по лицу, вытер пот, широко замахнулся и метнул один из своих проклятущих ножей так, что тот, вонзившись в поверхность щита Нико, стал торчком, раскачиваясь, как ободранный кошачий хвост на ветру.
По-кошачьи верткий и гибкий Ганс подошел и с мрачным видом потянулся за своим ножом.
Согнув руку в запястье, он без усилия выдернул нож, вошедший почти на дюйм и застрявший в деревянном щите с выпуклой поверхностью, прочность которого была рассчитана, чтобы выдержать при необходимости сильный удар топором. И так же не глядя, сунул его в ножны, где-то справа под мышкой.
Обернувшись и оскалив зубы в ухмылке, Ганс взглянул на своего учителя фехтования – но не в метании ножей! – и тот махнул ему рукой. Затем развернулся и пошел вдоль здания, обогнул его и исчез из виду.
Оранжево-желтое солнце стояло в небе еще достаточно высоко, и вечерние облака еще только начинали собираться на горизонте, чтобы позже создать привычную для Ганса среду обитания среди сумрака и теней.
– Щенок!.. – сквозь зубы процедил Нико, подобрав щит и отправляясь на поиски Темпуса.
Избавь ты меня, о Темпус, от этого оскорбительно и возмутительно юного илсига! Пронеси мимо моих губ эту горькую чашу, которую ты заставил меня поднять и которая все выше и выше поднимается и приближается, приближается к моим губам!
* * *
Ганс брел по улице с какой-то неопределенной, едва заметной улыбкой, что, как ни странно, практически не меняло выражения его лица.
Он гордился собой. Был очень собою доволен. Нико, откровенно говоря, нравился ему, да и не было у того видимых оснований не нравиться! Более того, он испытывал к нему уважение, только ему самому это было ни к чему, он не мог позволить себе признать это и тем более проявить каким-то образом испытываемые им чувства.
Он и Темпусу дал понять, что тот ему понравился, хотя незадолго до этого категорически заявил, что ему ни до кого нет дела и на всех наплевать. Он просто пошел тогда и вырвал Темпуса из кровавых рук этой грязной свиньи живодера Керда. Керд был из тех, кто, не моргнув глазом, резал и полосовал трепещущие человеческие тела. Как тело Темпуса, например, как, впрочем, и любое другое тело.
После всех этих кошмаров в доме Керда Ганс будто переродился и впал в такую депрессию, которая просто не поддается описанию.
Таинственное возвращение Темпуса к жизни, сверхъестественное обновление всего его организма – Ганс с трудом понимал, как смог тот вынести все это, не свихнувшись!.. Бессмертный! Бессмертный – о всемилостивейшие боги, распоряжающиеся людскими судьбами!.. Тритон в человеческом облике, исцеляющийся, выживающий в любых условиях, регенерирующий даже отсеченные части тела, причем без единого шрама!..
И это загадочное, бессмертное и вечно хмурое существо хоть бы раз заикнулось о причитающемся Гансу вознаграждении за свое вызволение из лап живодера или хотя бы, к примеру, пообещало разыскать скрытые в некоем отдаленном месте и глубоко запрятанные, например, в колодце, мешки, набитые деньгами!..
А ведь это стоило того!
Неделями потом Ганс слонялся без дела как неприкаянный.
Ему нечем было заняться. Нет, конечно, что-то он все-таки делал, а именно – беспробудно пил. Деньги у него давно кончились. Он даже вынужден был продать кое-какие личные вещи, лишь бы было чем заплатить за крепкие, не разбавленные водой спиртные напитки, в которых он теперь нуждался и которых раньше избегал.
Но даже при самой крайней нужде он ни за что не расстался бы с тем, что получил в дар от одного умирающего пасынка, бывшего, видимо, простым смертным. То, что висело теперь на стене в жилище Ганса: изумительной работы меч в ножнах из серебра. Ганс не пользовался им, даже не притрагивался к нему.
И был уверен, что этот меч – подарок не того погибшего человека, а бога. Бога-покровителя самого Темпуса. Того, кто говорил тогда с Гансом и вознаградил его – как и обещал – за то, что он выручил из беды его верного слугу.
Сейчас этот меч все еще висел у Ганса на стене, но уже без серебряных ножен. А ножны эти только что ударили его по левой ноге. Обернутые кожей черного цвета, перевязанные, еще раз обернутые и снова перевязанные.
Ганс не был, да и ни за что не согласился бы стать одним из этих шумных и суматошных наемников, которые только и знают, что распугивать людей своим видом. Причина, по которой Ганс хотел научиться владеть мечом, и, более того, владеть им в совершенстве, была совершенно иной. Ганс держал ее в тайне, и тайна эта по своей значимости была соизмерима с самим Санктуарием, и даже более того.
Темпус хотел отблагодарить Ганса, но не деньгами. Этот бессмертный предложил ему стать оруженосцем. (Что же касается коня.., да, конечно, это было престижно… Вот только Гансу всегда было нелегко иметь дело с лошадьми, и он очень надеялся, что ему не придется стать кавалеристом. С другой стороны, имей он коня, он стал бы просто богачом!) Темпус не догадывался, почему Ганс передумал и дал ему знать, что собирается в совершенстве овладеть искусством фехтовальщика. Но это, по всей видимости, понравилось ему. Ганс и не сомневался, что понравится. Точно так же он, вместе со своим внутренним «я», знал и не сомневался, что должен стать лучшим из учеников Нико, с кем тому когда-либо пришлось иметь дело. Сейчас он уже не сомневался в том, что просто непобедим в бою. Гансу не нужно было говорить что-либо дважды, и он не имел обыкновения спотыкаться дважды на одном и том же месте. Он был молодцом и умницей, и Нико сказал ему об этом сам, а Нико говорил от имени Темпуса.
Расставаясь сегодня с Нико, вор, прозванный Шедоуспаном, чему-то таинственно чуть заметно улыбался. То была довольная улыбка человека, которому улыбнулся бог, – довольная, но и загадочная.
Он сказал, что я молодец!
Надеюсь, любимец Вашанки, что так оно и есть, – размышлял он. – О, я очень надеюсь, что это так! И еще я надеюсь на то, что бог Вашанка оценит меня еще больше!
Уверенной пружинистой походкой Ганс направился к дому, ощущая во всем теле – на бедрах, руках и ногах – приятную тяжесть от многочисленного разнообразного оружия, которое производило на окружающих устрашающее впечатление. Среди встречающихся ему на пути людей были такие, что готовы сорваться с места при одном лишь его появлении; были и такие, что, стоя в дверях дома, дожидались, когда он пройдет мимо них.
А некоторые просто отступали перед ним, несмотря на то, что с его стороны не было ни одного угрожающего жеста… Им, конечно, не нравилось это, из-за этого они себя проклинали, однако ничего не могли с собой поделать, завидев грозного уличного хулигана.
Вот наконец он и дома.
Я готов… – подумал он, позволив себе сдержанно улыбнуться.
* * *
Вся эта леденящая душу история с Кердом и Темпусом, с вызывающими содрогание телесными увечьями цербера и еще более отвратительная картина его полного исцеления и восстановления даже отсеченных частей тела завершилась тем, что Ганс запил.
Он не был пьяницей. И никогда не пил раньше. Как известно, угроза пристраститься к спиртному не очень-то пугает и никогда не пугала людей, не испугала она и Ганса. И он пустился во все тяжкие. Пьянствовал он в надежде обрести иное состояние духа, перейти в какую-то иную реальность и, можно сказать, имел бурный успех в достижении этой отнюдь не заслуживающей восхищения цели.
Основная проблема заключалась в том, что все это ему самому очень не нравилось. Отстранение от окружающей действительности означало уход от самого себя, от самой личности Ганса, в то время как он, ощущая себя самым заброшенным и несчастным существом на свете, как раз пытался отыскать дорогу к этому самому существу.
О Каджет, если бы только тебя не убили тогда, – ты, как всегда, и показал бы мне, и обо всем рассказал бы, так ведь?!
(Другими словами, испытав сильнейшее душевное потрясение, он в поисках утешения и забвения с головой окунулся в беспробудное пьянство и пил беспрерывно, практически не выходя из состояния опьянения. Это не нравилось ему совершенно, как не нравился сам вкус спиртного. Самым же мучительным для него был момент, когда проходило пьяное отупение, наступало временное пробуждение и у него, лежащего без сна и без сил, возникало ощущение полной опустошенности, а во рту появлялся мерзкий, кислый, как от только что выпитого уксуса, вкус и запах!.. – запах, будто из.., общественного туалета для лошадей; язык его становился при этом таким шершавым, что хоть скребницей его продирай, а желудок и в особенности его бедная голова были в таком плачевном состоянии, что он с радостью согласился бы батрачить где-нибудь за харчи (за тарелку холодца из свиных ножек), а то и вовсе задарма, чем испытывать кошмарные ощущения! В желудке у него как будто что-то отрывалось, падало и перекатывалось во всех направлениях, а голова – ох уж эта голова! – тяжелая и неподъемная, как пивной котел, при малейшем движении раскалывалась от дикого давления, будто распиравшего ее изнутри. Но после приема небольшой порции спиртного возникало чувство, будто ползавшая внутри его и кусавшая его змея вдруг сбросила с себя кожу, что приводило к тому, что все начиналось сызнова и с новой силой. Хотелось бы все же как-то управлять этим мучительным процессом предугадывать новые приступы тошноты. Реальное облегчение приносила лишь большая доза спиртного, причем неразбавленного, вызывающая сильную рвоту, с выворачиванием всего тела буквально наизнанку, которая топила в себе ощущения от то и дело возобновляющихся позывов.
Он чувствовал, что ему необходимо научиться контролировать себя. Эта мысль то и дело возникала где-то там, глубоко внутри, одновременно с кратковременными и смутными проблесками его притупленного сознания. Мрачно и беспросветно было в душе у этого потомственного подонка, со дня рождения знакомого с самыми неприглядными сторонами действительности. Жизнь его никогда ничем и никем не контролировалась, и тем сильнее было выражено у него желание обрести такой контроль или хотя бы что-то похожее на него. Наркотики были ему не нужны, принимать их он не хотел. Так же, как не хотел даже вспоминать о своей голове и желудке.) Вот так это было. Ганс ощущал себя полностью выбитым из колеи.
В мыслях он обратился к существу, жившему в его подсознании, как и у многих других людей, особенно одного с ним возраста, – к своему второму «я», его двойнику, его пленнику.
Однажды кто-то из присутствующих как бы между прочим упомянул о его «несомненном чувстве собственного достоинства» (так это было выражено), против чего и в самом деле трудно было возразить. Услышав эти слова, Ганс ухмыльнулся и посмотрел на того уничтожающим взглядом. Несчастный малый, смекнув, что невольно, без злого умысла нанес ему тяжкое оскорбление, предложил Гансу выпивку за свой счет, но это не исправило дела и ни в малейшей степени не улучшило душевного состояния Ганса. Бедный малый, держась от Ганса на расстоянии, почти сразу вспомнил о предстоящем важном для него деловом свидании и постарался поскорее исчезнуть. А Ганс, как и следовало ожидать, вел себя до конца дня так, будто никто ему ничего и не говорил о том, каким бывает чувство собственного достоинства.
Продолжив свои размышления, он вспомнил, как однажды услышал голос, прозвучавший громко, как грозное рычание льва, где-то там, в потаенных уголках его затуманенного сознания.
Ты получишь меч, – рокотал он, – если тебе удастся освободить одного верного и высоко ценимого мною единомышленника. Да, и в придачу к нему – великолепные ножны из чистого серебра!
Ганс испугался, а потом почувствовал некоторое раздражение. И вовсе ему не хотелось иметь дела с этим занудливым богом рэнканцев, ведь именно ему, богу Вашанке, служил верой и правдой Темпус.
Нет! Я служу.., я хотел сказать.., я не… Нет! Темпус мой… мой… Я тут собираюсь помочь.., одному человеку, который мог бы помочь мне самому, – так сбивчиво пытался он мысленно растолковать все это божеству в ответ. Предполагалось, что у него нет ни одного друга, и он даже поклялся Темпусу, что у него нет ничего, ничего ему не нужно и ничего он не хочет. Тот, у кого есть друзья, оказывается в заведомо уязвимом положении, а что касается его, Ганса, то он предпочитает жить особняком, ни от кого не зависеть, и у себя на своем необитаемом острове он ни в ком не нуждается!
Оставь меня в покое и пойди к нему, завистливый бог рэнканцев! Отдай Санктуарий божественному покровителю моему Шальпе Быстроногому и нашему всемогущему богу Ильсу! О Тысячеглазый Илье, господин наш, почему же тот, другой бог, а не ты, разговариваешь со мной?
Все же в тот вечер произошло-таки чудо, благодаря чему была спасена жизнь Ганса, а тем самым и жизнь Темпуса, которого он освободил. Ганс не считал зазорным для себя услужить и быть спасенным богом верховных правителей Рэнке, и в результате целое море алкоголя было к его услугам. Уже выбравшись кое-как из него и просохнув, он не сразу, однако, оправился от потрясения.
Конечно, он был не первым и не последним среди тех, кто в критических обстоятельствах меняет своего божественного покровителя.
К богу Вашанке это не относилось. Целых четыре раза посещал он святилища – Ильса и всемилостивейшей Шипри, божественной супруги его. Илье, верховный бог илсигов, вынужден был когда-то покинуть свою страну, нашел подходящее место и основал Санктуарий. (Вот только в городе не было храма, посвященного их четвертому божественному сыну Шальпе, который родился одновременно со своей сестрой Эши. Шальпа был единственным, для кого здесь не был возведен храм. Из-за его темного как ночь плаща его называли Богом Ночных Теней, а также Шальпа Быстроногий, Шальпа Ночной, Шальпа, не имеющий своего храма, и считали покровителем воров.) И вот Ганс решил еще раз навестить обитель небожителей на земле. Появившись там, он явственно ощутил, как зашевелились у него на голове волосы, а внутри все вдруг похолодело и как будто оборвалось – все оттого, что он осознал: один из них заговорил с ним. Один из небожителей.
Был ли это сам бог Илье? Или сын его Шальпа? (Принимая во внимание свой недавний запой, Ганс с некоторым удивлением подумал, что с большой долей вероятности это мог быть и божественный Анен. Анен был первенцем у Ильса и Шипри и считался покровителем трактирщиков и пьяниц.) Но кто бы он ни был, Ганс услышал, как в голове у него прозвучал голос, заговорил с ним здесь, в приюте и обители главных богов илсигов, и это был, конечно же, не Вашанка.
Ганс, Избранник народа илсигов, Сын Тени! Мы здесь. Мы существуем. Поверь нам. Посмотри на это кольцо.
Он увидел его. Этот похожий на безделушку предмет откуда ни возьмись появился перед самым его носом. Сначала он казался сплошным диском, но затем принял форму кольца. Посмотрев через него вдаль, Ганс различил очертания храма. Кольцо, на первый взгляд казавшееся обычным, было ювелирным изделием из чистого золота и сплошь усыпано мелкими нежно-голубыми сверкающими, как мириады звезд, драгоценными камнями. На огромный желто-оранжевый драгоценный камень в самом центре кольца, так называемый «Кошачий глаз», как показалось Гансу, так и уставился на него, не отрываясь, будто был более значительным, чем переливающийся всеми цветами радуги кварцевый минерал.
Затем видение исчезло так же, как и прозвучавший в его голове таинственный голос – да и слышал ли он его на самом деле? Может быть, нет?.. И тут он почувствовал, что вдруг весь будто обмяк и осел, покрывшись с головы до ног противным липким потом. Ему стоило больших усилий и огромного умственного напряжения заставить себя хотя бы рот закрыть. Он ощутил, что приятная прохлада в храме резко сменилась промозглым холодом.
Лишь спустя несколько минут Ганс почувствовал в себе силы сдвинуться с места. Он и сдвинулся, так как вовсе не собирался навсегда оставаться здесь, в этом семейном храме четы Ильса и Шипри. Весь мокрый как мышь от холодного пота, которым были покрыты даже его ноги сверху донизу, он наконец ушел, бросив на прощание взгляд на скрывшийся в легкой дымке храм.
Было совсем еще рано – где-то после полудня.
Неужели же галлюцинации эти начались у него еще тогда?
Это бредовое, ложное ощущение значительности того, что, по сути дела, является сложным и причудливым, как сети паука, переплетением вымысла и лжи, которое так часто возникает в сознании одурманенного алкоголем человека.
Или я все-таки слышал – слышал.., бога? Того самого бога?
Он продолжал идти, все дальше удаляясь от храма, никого и ничего не замечая вокруг и перед собой. Одинокий волк со своим необитаемым островом впереди. Шел, пока его будто обухом по голове не стукнуло – он вдруг поднял глаза и прямо перед собой увидел Мигнариал.
Эта профессиональная танцовщица, дочь его давней приятельницы, ясновидящей Лунный Цветок, направлялась к Гансу, не сводя с него глаз. Матушке ее, так хорошо знавшей юного вора, вовсе не хотелось, чтобы он имел что-нибудь общее с ее дочерью. Мигнариал! Неотрывно глядя на него, целенаправленно идет прямо к нему! Девушка, на вид лет тринадцати, хотя на самом деле она была старше, давно уже заглядывалась на него, очарованная, как это часто случается с некоторыми женщинами, которых неудержимо тянет ко всякого рода проходимцам. Ей, видимо, нравилось вести себя так, будто ей всего лишь тринадцать лет, а не шестнадцать: ведь многие из ее ровесниц уже были замужем или по меньшей мере побывали в мужской постели.
– Дочь моя еще так молода и глупа, что считает тебя очень романтичным мужчиной, – слова эти произнесла крупная, грузная женщина, которая была бы просто очаровательной, если бы не скрывшая ее прелести многопудовая плоть, что, впрочем, нравилось ее мужу. – Наверное, собираешься сказать, что она приходится тебе сестрой?
– Ну, вряд ли это понравилось бы тебе, – успокоил ее Ганс, невольно прикоснувшись к одной из тайн своего детства, если только оно вообще у него было. – Она дочь моей старой знакомой, и лучше я буду звать ее кузиной.
Ганс был намерен выполнить свое обещание. К тому же Мигнариал однажды видела его заплаканного и трясущегося после того, как его до смерти напугало одно из божественных орудий Вашанки. Гансу просто стыдно было смотреть ей в глаза после того случая. Именно она вызволила его тогда из беды, жалкого, трепещущего от страха мышонка, столкнувшегося с грубой действительностью, и отвела к своей матери.
И вот она с каким-то свертком разноцветного тряпья в руках подходит к нему. Темноволосая и хрупкая – не то, что он, порождение сумрачных теней и ночного мрака. В юбке ярко-желтого цвета она, наоборот, была порождением ясного дневного света, однако Гансу показалось, что взгляд у нее какой-то странный, будто она приняла наркотик.
Ну, если это действительно так, – подумал с отчаянием Ганс, – я поколочу ее и отведу домой, а Лунному Цветку задам взбучку за то, что позволила случиться этому с такой.., дорогой мне девочкой.
Но он быстро забыл об этом. Преградив ему путь, она встала перед ним, что заставило и его остановиться. Она заговорила, и голос у нее был какой-то странно невыразительный, так же, впрочем, как и взгляд, и лицо, на котором не отражалось никаких эмоций. Слова она произносила бесцветным заученным тоном, видимо, даже не вникая в их смысл. Таким тоном маленькая девочка произносит в храме выученную ею часть молитвы во славу господа бога.
Устремив на него взгляд своих темно-карих, почти гранатовых, но совершенно холодных глаз, она произнесла:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.