Текст книги "2666"
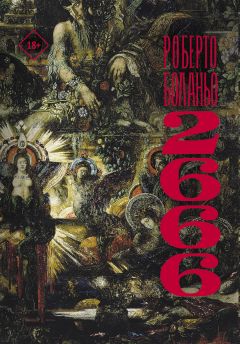
Автор книги: Роберто Боланьо
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 69 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
– В общем, долгая у нас вышла беседа, – сказал незнакомец. – Менеджер меня выслушал, но не понял ни единого моего слова. На следующий день я запросил выходное пособие и ушел с предприятия. Потом я уже нигде не работал. Ну и как вам это?
Морини не сразу ответил ему.
Потом все же сказал:
– Не знаю.
– Вот кого ни спрошу, все мне это говорят – что не знают, – сказал незнакомец.
– А чем вы теперь занимаетесь? – спросил Морини.
– Да ничем, я уже не работаю. Я обычный лондонский нищий.
Вот тебе и местная достопримечательность, подумал Морини, но предусмотрительно не стал озвучивать свою мысль.
– А что вы думаете по поводу этой книги? – сказал незнакомец.
– Какой? – переспросил Морини.
Незнакомец наставил толстый палец на экземпляр продукции палермского издательства «Селлерио», каковой экземпляр Морини бережно держал в руке.
– А, она, мне кажется, хороша, – ответил он.
– Прочтите мне какие-нибудь рецепты, – проговорил незнакомец, и в голосе его Морини почудились угрожающие нотки.
– Не знаю, есть ли у меня время. Мне еще с подругой встречаться.
– А как зовут вашу подругу? – спросил незнакомец тем же тоном.
– Лиз Нортон, – ответил Морини.
– Лиз… красивое имя. Не хочу показаться невежливым, но… а как вас зовут?
– Пьеро Морини, – ответил Морини.
– Как любопытно, – удивился незнакомец. – У вас с автором книги очень имена похожи.
– Нет, – покачал головой Морини. – Меня зовут Пьеро Морини, а его – Анджело Морино.
– Если вам нетрудно, прочитайте мне, пожалуйста, хотя бы названия каких-то рецептов. Я закрою глаза и представлю их в своем воображении.
– Хорошо, – согласился Морини.
Незнакомец закрыл глаза, и Морини начал медленно читать с особой актерской интонацией названия рецептов, приписываемых Хуане Инес де ла Крус.
Sgonfiotti al formaggio
Sgonfiotti alla ricotta
Sgonfiotti di vento
Crespelle
Dolce di tuorli di uovo
Uova regali
Dolce alla panna
Dolce alle noci
Dolce di testoline di moro
Dolce alle barbabietole
Dolce di burro e zucchero
Dolce alla crema
Dolce di mamey [4]4
Профитроли с сырной начинкой, профитроли с рикоттой, профитроли, блинчики, десерт из яичных желтков, пасхальные яйца, десерт со сливками, десерт с орехами, профитроли с шоколадной крошкой, десерт из свеклы, десерт из масла и сахара, десерт с кремом, десерт из мамеи (ит.).
[Закрыть]
Дойдя до dolce di mamey, Морини решил, что незнакомец уснул, и поехал прочь из Итальянского сада.
Следующий день походил на первый. В этот раз Нортон приехала за ним в гостиницу, и, пока Морини оплачивал счет, она положила единственный чемодан итальянца в багажник своей машины. Оказалось, они едут тем же маршрутом, что вчера привел его в Гайд-парк.
Морини понял это и принялся молча рассматривать улицы, а затем и призрачный парк, который напомнил ему фильмы о сельве – плохо окрашенные, очень печальные и в то же время исполненные восторга. Потом машина свернула и затерялась в лабиринте улиц.
Пообедали они вместе в районе, который Нортон некоторое время назад открыла для себя, – от него до реки было рукой подать, и потому здесь ранее располагались фабрики и мастерские по починке кораблей, а теперь в обновленных, переделанных под жилье зданиях открывались магазины одежды и продуктов, а также модные рестораны. Маленький бутик, если считать по цене квадратного метра, стоил, по подсчетам Морини, четырех рабочих домов. Ресторан – двенадцати или шестнадцати. А Лиз все восхищалась районом и решимостью людей, которые пытались снова спустить его, так сказать, на воду.
Морини подумал, что «спустить на воду» – не слишком подходящее к случаю выражение, хотя вроде как тут рядом судоходная река. За десертом его ни с того ни с сего посетило желание расплакаться или даже упасть в обморок, мгновенно потерять сознание, мягко опуститься на стул, не отрывая глаз от лица Нортон, и более никогда в себя не приходить. Но сейчас Нортон рассказывала историю про художника, который первым переехал сюда жить.
Тот был молод, всего-то тридцати трех лет от роду, известный в узких кругах, но не знаменитый в точном значении этого слова. На самом деле он сюда переехал, потому что здесь можно было задешево снять студию. В то время район вовсе не располагал к веселью – не то что сейчас. Здесь еще жили старые рабочие, получавшие пенсию благодаря социальным страховым программам, но детей и молодежи уже не было видно. Особенно бросалось в глаза отсутствие женщин: они или уже умерли, или сидели по домам и никогда не выходили на улицу. Паб здесь был только один, такой же древний и ветхий, как и все здания в этом районе. Одним словом, тут было пусто и везде чувствовался упадок. А вот художнику, напротив, очень понравилось: здешняя атмосфера пришпорила его воображение и вселила желание работать. Художник этот тоже любил одиночество. По крайней мере, оно ему не мешало.
Так что район его не испугал, напротив, он в него влюбился. Ему нравилось возвращаться поздним вечером и ходить по пустым улицам. Ему нравился свет фонарей и льющийся по фасадам свет из окон. Ему нравилось, как бегут за ним тени. Нравились рассветы, окрашивающие всё в цвета пепла и сажи. Молчаливые люди, собиравшиеся в пабе, – он и там стал завсегдатаем. Боль, или воспоминание о боли, которую в этом районе буквально высосало что-то безымянное, и боль эта уступила место пустоте. Сознание того, что это уравнение – рабочее: боль постепенно превращается в пустоту. И сознание того, что уравнение это применимо практически ко всему в мире.
А дело было в том, что он принялся за работу с преогромным энтузиазмом, подобного которому ранее никогда не испытывал. Год спустя он выставился в галерее Эммы Уотерсон, и не где-нибудь, а в Уоппинге, и имел невероятный успех. Его почитали основателем метода, который позже назовут «новый декаданс», или «английский анимализм». На первой представляющей его выставке картины были большими, три на два метра, и на них он запечатлел, в цветах и оттенках серого, останки потерпевшего кораблекрушение района. Казалось, между художником и районом образовался полный симбиоз. То есть иногда казалось, что это художник пишет район, а иногда – что это район рисует художника резкими мрачными мазками. Картины оказались неплохи. Несмотря на это, выставка не снискала бы и малой части успеха и откликов в прессе, если бы не картина-звезда – гораздо меньшего размера, чем другие, – если бы не этот шедевр, который увлек многих британских художников на путь «нового декаданса». Полотно два на один метр казалось, с правильной точки зрения (впрочем, никто так и не понял, какая из точек правильная), эллипсисом автопортретов, а иногда спиралью автопортретов (все зависело от того, под каким углом на картину смотрели), в центре которых висела мумифицированная правая рука художника.
А случилось с ним вот что. Однажды утром после двухдневной творческой лихорадки (он как раз писал автопортреты), художник отрубил себе кисть руки, которой писал. Он тут же наложил на руку тугую повязку и отвез кисть руки к знакомому таксидермисту, которого заранее предупредил о том, какого рода работа от него потребуется. Затем он приехал в больницу, где ему остановили кровотечение и зашили рану. В больнице его спросили, какого рода несчастный случай с ним произошел. Он нехотя ответил, что работал и нечаянно отрубил себе кисть мачете. Врачи спросили, где отрезанная конечность, ведь ее можно пришить обратно. Он сказал, что был в дикой ярости и рука так болела, что он швырнул отрубленную кисть в реку.
Хотя цены на картины были астрономические, он продал все, что выставил. Говорили, шедевр перешел в руки араба-биржевика, и этот же араб купил четыре большие картины. Некоторое время спустя художник сошел с ума, и его жене – к тому времени он успел жениться – пришлось положить его в клинику в окрестностях Лозанны или Монтре.
Он и до сих пор там, в клинике.
А вот другие художники начали селиться в этом районе. Они переезжали, потому что было дешево, а кроме того, их привлекала легенда о том, кто написал самый радикальный автопортрет современности. Затем туда наведались архитекторы, а следом за ними – некоторые семьи, которые приобрели отремонтированные и переделанные здания. А затем появились модные магазины, театральные мастерские, альтернативные рестораны – и вот район превратился в один из самых модных и самых дешевых (на первый взгляд) в Лондоне.
– Как тебе это?
– Даже не знаю, что и думать, – ответил Морини.
Подступившие к глазам слезы все еще грозили пролиться – расплакаться нельзя, зато можно упасть в обморок, но он выдержал и усидел на стуле.
Чай они пили дома у Нортон. Только тогда она заговорила об Эспиносе с Пеллетье, но эдак небрежно, словно бы историю ее отношений с испанцем и французом и так все знали и этот докучливый сюжет более не интересовал ни Морини (чья нервозность не укрылась от ее взгляда, хотя она и воздержалась от вопросов: известно, что вопросами тревогу не уймешь), ни даже ее саму.
Вечер выдался замечательный. Морини устроился в кресле, с которого ему открывался прекрасный вид на гостиную Нортон: книги, репродукции в рамках на белых стенах, фотографии и неведомо откуда привезенные сувениры, воля и вкус, претворившиеся в элементарные вещи – мебель, к примеру, далеко не роскошную, но создающую уют, – и даже вид из окна: кусочек улицы и зелень деревьев, которые Нортон видела каждый раз, выходя из дома, – словом, он почувствовал себя лучше, как если бы разнесенное между вещами присутствие подруги его окутало и укутало, а само это присутствие виделось ему фразой, которую он, подобно младенцу, не мог понять, но самая ее интонация утешала.
Незадолго до ухода он спросил, как звали художника, историю жизни которого он выслушал, и нет ли у нее случайно каталога этой счастливой и страшноватой выставки. Его зовут Эдвин Джонс, ответила Нортон. Потом встала и начала перебирать книги на одной из полок. Объемистый каталог нашелся, и она протянула его итальянцу. Прежде чем открыть его, Морини задался вопросом: зачем же он снова помянул эту историю, ведь ему только что стало лучше… И ответил себе: не узнаю сейчас – умру. И открыл каталог, который на самом деле был не столько каталогом, сколько искусствоведческой монографией, в которой были собраны все (или всё, что удалось найти) материалы о профессиональной биографии Джонса: на первой странице красовалась его фотография (явно сделанная до истории с отрубанием руки), и с нее смотрел прямо в камеру молодой человек лет двадцати пяти с то ли робкой, то ли насмешливой улыбкой. Волосы у него были темные и прямые.
– Дарю, – услышал он голос Нортон.
– Большое спасибо, – услышал свой голос он.
Час спустя они ехали вместе в аэропорт, а еще через час Морини уже летел в Италию.
В то время один сербский литературовед, дотоле не известный научному сообществу, преподаватель немецкого в Белградском университете, опубликовал в подопечном Пеллетье журнале любопытную статью, которая вызывала в памяти работу одного французского литературоведа о маркизе де Саде: работа вся состояла в подборе крошечных фактов, которые составляли своеобразную коллекцию факсимиле различных документов, косвенным образом свидетельствовавших о том, что божественный маркиз пользовался услугами прачечной, памятных записок, из которых явствовала его связь с каким-то человеком из театральной среды, выписок врача с рецептами назначенных лекарств, счета за покупку камзола, где указывался тип застежки и цвет и так далее, причем все эти сведения приводились с огромным аппаратом сносок, из них можно было сделать единственный вывод: маркиз де Сад существовал, сдавал вещи в прачечную, покупал новую одежду и переписывался с людьми, память о которых история не сохранила.
Так вот, статья серба очень напоминала все эти штуки. Только в данном случае пристальному изучению подвергся не де Сад, а Арчимбольди; в статье же излагались с трудом отысканные (и зачастую не найденные), тщательно отобранные факты биографии писателя: начиналось все в Германии, затем продолжалось во Франции, Швейцарии, Италии, Греции, снова Италии и заканчивалось в турагентстве в Палермо, где, судя по всему, Арчимбольди купил билет на самолет, следовавший в Марокко. Старик немец – так называл его серб. Слова «старик» и «немец» использовались и как волшебные палочки, с помощью которых можно было сорвать покров с тайн, и как пример ультраконкретного, а не теоретического литературоведения, каковое не исследует идейное наполнение, избегает и утверждений, и отрицаний, не сомневается в себе и не претендует на роль судьи, литературоведения, которое не за и не против, потому что оно лишь глаз, который ищет то, что можно потрогать, не выносит суждений, а холодно раскладывает все по полочкам, – эдакая археология факсимиле, и в связи с этим – археология копировальной машины.
Пеллетье такой подход показался любопытным. До публикации он отослал копию Эспиносе, Морини и Нортон. Эспиноса сказал, что это, возможно, куда-то и приведет, и, хотя исследования и статьи такого рода всегда казались ему работой для библиотечной крысы, подчинением подчиненному, он так прямо и сказал: совсем неплохо, что во время повального увлечения Арчимбольди у нас появятся и такие фанатики безыдейности. Нортон сказала, что интуиция (женская) всегда подсказывала ей: рано или поздно Арчимбольди окажется где-то в Магрибе; а в статье есть лишь один заслуживающий внимания факт – тот самый билет на самолет на имя Бенно фон Арчимбольди, забронированный за неделю до вылета итальянского лайнера курсом на Рабат. И добавила: что ж, теперь мы с полным правом можем вообразить его где-нибудь в пещере Атласских гор. А вот Морини не сказал ничего.
А теперь время нам кое-что прояснить, дабы читатель мог правильно (или неправильно) интерпретировать текст. Итак, бронь на имя Бенно фон Арчимбольди действительно существовала. Тем не менее билет так и не был куплен и ко времени вылета никакой Бенно фон Арчимбольди в аэропорту не появился. Для серба все это представлялось яснее ясного. Действительно, Арчимбольди собственной персоной забронировал билет. Представим его в гостинице: вот он сидит, встревоженный, а может, просто пьяный, а возможно, подремывающий, а время уже давно за полночь, оно как пропасть под ногами, и кругом разливается тошнотный аромат (именно в такой час и таком состоянии чаще всего принимаются важнейшие решения), вот он говорит с девушкой из «Алиталии» и ошибочно бронирует билет не на свое настоящее имя, а на свой псевдоним, каковую ошибку на следующий день исправит, лично наведавшись в офис авиакомпании и купив билет на паспортное имя. Вот почему никакого Арчимбольди на борту самолета, летящего в Марокко, не оказалось. Естественно, это не единственно возможный ход событий: возможно, в последний момент Арчимбольди, дважды (или четырежды) все взвесив, решил не лететь, а может, решил отправиться в путешествие, но не в Марокко, а, например, в Соединенные Штаты, а возможно, это вообще какое-то недоразумение или чья-то шутка.
В статье серб описывал внешность Арчимбольди. Источником, естественно, послужил словесный портрет, данный швабом. Разумеется, в рассказе шваба Арчимбольди был молодым писателем послевоенной поры. А серб состарил этого молодого человека с единственной изданной книгой, оказавшегося в 1949 году во Фризии, – просто взял и превратил в старика семидесяти пяти или восьмидесяти лет с объемистой библиографией за плечами, а базовые свойства не тронул, словно Арчимбольди, в отличие от большинства людей, не менялся с течением времени. Наш автор, писал серб, если судить по его произведениям, – несомненно, человек упорный, упертый как мул, упертый как толстокожий носорог, и если одним грустным сицилийским вечером он решил лететь в Марокко, то даже такой промах, как бронь билета не на паспортное имя, а на имя Арчимбольди, не позволяет нам таить надежду, что на следующий день он переменит свое решение и отправится в турагентство, чтобы лично купить билет, в этот раз уже на паспортное имя и с официальным паспортом, и не сядет, как тысячи других пожилых немецких холостяков, которые каждый день пересекают небеса курсом на какую-нибудь североафриканскую страну.
Пожилой и холостой, подумал Пеллетье. Один из тысяч пожилых и холостых немцев. Как холостяцкая машина [5]5
Целибатные, или холостяцкие, машины – термин, применявшийся Марселем Дюшаном, любимый также дадаистами и психоаналитиками; обозначает механизм, работающий вхолостую, вырабатывая энергию без конечной цели или результата.
[Закрыть]. Как безбрачник, который вдруг состарился, или как безбрачник, который возвращается из путешествия со скоростью света и обнаруживает других таких же дряхлыми или вовсе в виде соляных статуй. Тысячи, сотни тысяч холостяцких машин каждый день пересекают наше море, наши амниотические воды, летят «Алиталией», едят спагетти с томатным соусом, запивают кьянти или яблочным ликером, полуприкрыв глаза, сидят и думают, что рай для пенсионеров – он не в Италии (и ни в какой другой европейской стране), и потому летят курсом на шумные аэропорты Африки или Америки, где покоятся слоны. Огромные кладбища проносятся со скоростью света. Не знаю даже, зачем я об этом думаю, подумал Пеллетье. Пятна на стене, пятна на руках, думал Пеллетье, глядя на свои руки. Мудак вонючий – вот кто этот ваш серб.
В конце концов, когда статья была уже опубликована, Эспиносе и Пеллетье пришлось признать: метод серба – сущая ерунда. Надо проводить исследование, заниматься литературоведческим анализом, писать эссе о смыслах произведения или даже политические памфлеты для широкой публики, если того требует момент, – но не писать гибрид научной фантастики и незаконченного детектива. Так сказал Эспиноса, и Пеллетье во всем согласился со своим другом.
Тогда, в начале 1997 года, Нортон охватила жажда перемен. Ей хотелось в отпуск. Полететь в Ирландию или в Нью-Йорк. Временно отдалиться от Эспиносы и Пеллетье. Она назначила встречу им обоим – в Лондоне. Пеллетье каким-то образом догадался, что ничего катастрофического или же непоправимого их не ждет, – и пришел на свидание совершенно спокойным, расположенным более слушать, чем говорить. А вот Эспиноса боялся, что случится самое страшное: Нортон позвала их, чтобы сообщить, что выбирает Пеллетье, а ему сказать, что их дружба отнюдь не пострадает, да еще и пригласить шафером на свадьбу.
Пеллетье добрался до квартиры Нортон первым. Спросил, не случилось ли чего плохого? Та ответила, что дождется Эспиносу, иначе придется повторять одно и то же два раза. Поскольку говорить было не о чем, они стали беседовать о погоде. Пеллетье это быстро опротивело, и он сменил тему разговора. Тогда Нортон заговорила об Арчимбольди. Новая тема беседы взбесила Пеллетье. На ум снова пришел серб, потом он задумался о том, сколько лет провел впустую, пока не встретил Нортон.
Эспиноса запаздывал. Вся жизнь – говно, с изумлением осознал Пеллетье. А потом подумал: если бы мы не составили дружескую компанию, сейчас она была бы моей. И потом: если бы мы не оказались столь схожи, если бы не дружба, союз и родство душ, она была бы моей. А затем: если бы ничего этого не было, мы бы не познакомились. И: а возможно, я бы с ней познакомился, потому что мы занимаемся Арчимбольди сами по себе, а не потому, что подружились. И, возможно, она бы меня возненавидела, сочла педантом, холодным высокомерным нарциссом, интеллектуалом, исключительным и исключающим. Выражение «исключающий интеллектуал» его позабавило. Эспиноса опаздывал. Нортон выглядела совершенно спокойной. На самом деле Пеллетье тоже выглядел спокойным – вот только в душе у него бушевала буря.
Нортон заметила, что Эспиноса часто опаздывает. Сказала, что иногда самолеты запаздывают. Пеллетье тут же представил самолет Эспиносы, как он, весь в пламени, обрушивается на взлетную полосу Мадридского аэропорта со скрежетом перекрученного железа.
– Может, телевизор включим? – сказал он.
Нортон посмотрела на него и улыбнулась. «Я никогда не включаю телевизор», – с улыбкой сказала она. Видимо, ее удивило, как это Пеллетье такого не знает. Естественно, Пеллетье знал. Но ему не хватало духа сказать: давай посмотрим новости, вдруг мы увидим на экране разбившийся самолет.
– Я могу его включить? – спросил он.
– Конечно, – ответила Нортон.
И Пеллетье, наклонившись к кнопкам телевизора, посмотрел на нее искоса: она просто сияла, такая естественная, вот наливает себе чашку чая или переходит из одной комнаты в другую, чтобы поставить на место книгу, которую она только что показала, вот отвечает на телефонный звонок – нет, не Эспиносы.
Он включил телевизор. Пробежался по каналам. Увидел бородатого дядьку в лохмотьях. Увидел группу негров – те шли по какой-то тропе. Увидел двух джентльменов в костюмах и при галстуках: они неспешно о чем-то говорили, оба сидели нога на ногу, время от времени посматривая на карту, которая то появлялась, то исчезала у них за спиной. Увидел пухленькую даму, которая говорила: дочь… фабрика… собрание… врачи… неизбежно… а потом слабо улыбалась и опускала глаза. Увидел лицо бельгийского министра. Увидел дымящийся остов самолета сбоку от взлетно-посадочной полосы, окруженный машинами скорой и пожарными. Заорал, призывая Нортон. Та еще говорила по телефону.
Самолет Эспиносы разбился, сказал Пеллетье уже обычным голосом, и Нортон, вместо того чтобы смотреть на экран, посмотрела на него. Ему хватило нескольких секунд, чтобы понять: этот самолет, который горит, он не испанский. Рядом с пожарными и командами спасателей виднелись и пассажиры, которые удалялись от места аварии: кто-то прихрамывая, кто-то завернутый в одеяло, с искаженными страхом или ужасом лицами, но в общем и целом невредимые.
Двадцать минут спустя приехал Эспиноса, и во время обеда Нортон рассказала: мол, Пеллетье думал, что на потерпевшем крушение самолете летел ты. Эспиноса засмеялся, но как-то странно посмотрел на Пеллетье; взгляд Нортон не заметила, а вот Пеллетье заметил очень хорошо. За исключением этого, обед вышел каким-то грустным – хотя Нортон вела себя как обычно, как будто встретилась с ними случайно, а не попросила приехать к себе в Лондон. Она еще ничего не успела сказать, но они уже поняли, что сейчас будет: Нортон хотела прервать, пока на время, любовную связь с обоими. Она сказала, что ей нужно подумать и собраться, а потом добавила, что хотела бы остаться с ними в дружеских отношениях. Ей нужно подумать – собственно, вот и всё.
Эспиноса принял объяснения Нортон без вопросов. А вот Пеллетье хотел спросить, не обошлось ли здесь без бывшего мужа, однако, глядя на Эспиносу, предпочел молчать. После обеда они поехали посмотреть Лондон на машине Нортон. Пеллетье было уперся – хочу, мол, на заднее сиденье, но увидел, что в глазах Нортон сверкнул сарказм, и сказал: «А, ладно, сажайте меня куда хотите». «Куда хотите» оказалось то самое заднее сиденье.
Ведя машину по Кромвель-роуд, Нортон сказала: наверное, этой ночью будет правильно пригласить в постель вас обоих. Эспиноса рассмеялся: мол, это было бы мило – он посчитал, что Нортон шутит. А вот Пеллетье отнюдь не был в этом уверен, а еще меньше он был уверен в том, что готов поучаствовать в таком menage a trois. А потом они направились в Кенсингтон-гарденс – посмотреть закат рядом со статуей Питера Пэна. Они сели на скамейку под сенью огромного дуба – Нортон с детства тянуло к этому месту. Сначала вокруг сидели и лежали на газоне люди, но постепенно все ушли. Мимо проходили пары или элегантно одетые женщины – все торопились, шагая к галерее «Серпентайн» или Мемориалу принца Альберта, а навстречу им шли мужчины с мятыми газетами или матери, тащившие коляски с детьми, – эти направлялись к Бэйсуотер-роуд.
В парк прокралась тень и стала затягивать окрестности, и тут к статуе Питера Пэна подошла молодая пара. Они говорили по-испански. У женщины были черные волосы, и смотрелась она сущей красавицей. Она протянула руку, словно бы хотела потрогать ногу Питера Пэна. Рядом топтался высокий бородатый и усатый мужик. Он залез в карман, вытащил блокнотик и что-то в него написал. А потом громко прочел:
– Кенсингтон-гарденс.
А женщина уже глядеть забыла на статую – ее внимание привлекло озеро, или скорее то, что двигалось через траву и кустарник по дороге к воде.
– На что она смотрит? – спросила Нортон на немецком.
– Похоже на змею, – ответил Эспиноса.
– Здесь нет змей! – воскликнула Нортон.
Тут девушка позвала спутника: «Эй, Родриго, иди сюда, ты должен это увидеть». Молодой человек, похоже, ее не услышал. Он положил блокнотик в карман своей кожаной куртки и застыл, созерцая статую Питера Пэна. Женщина нагнулась, и что-то в траве скользнуло к озеру.
– А ведь точно, похоже на змею, – заметил Пеллетье.
– А я что сказал? – проговорил Эспиноса.
Нортон не ответила, но поднялась со скамейки, чтобы получше видеть.
Той ночью Пеллетье и Эспиносе удалось поспать всего несколько часов. Они легли в гостиной, в их распоряжении были раскладной диван и ковер, но им так и не удалось уснуть. Пеллетье попытался завести разговор про крушение самолета, но Эспиноса сказал: «Не надо мне ничего объяснять, я и так все понял».
В четыре утра они, по взаимному соглашению, включили свет и сели читать. Пеллетье открыл книгу о творчестве Берты Морисо, первой женщины, принятой в кружок импрессионистов, но через некоторое время ему нестерпимо захотелось пульнуть книжкой в стену. А Эспиноса вытащил из кармана «Голову», последний роман Арчимбольди, и принялся просматривать записки на полях – конспект будущего эссе для журнала Борчмайера.
Эспиноса постулировал, а Пеллетье разделял его мнение, что этим романом Арчимбольди завершал свой путь на поприще романиста. После «Головы», говорил Эспиноса, Арчимбольди уйдет с книжного рынка – это мнение другой именитый арчимбольдист, Дитер Хеллфилд, посчитал опрометчивым: оно основывалось исключительно на возрасте писателя; впрочем, то же самое говорили об Арчимбольди, когда вышло в свет «Железнодорожное совершенство», более того, то же самое пророчила берлинская профессура после публикации «Битциуса». В пять утра Пеллетье принял душ и сварил кофе. В шесть Эспиноса уснул во второй раз, но полседьмого снова проснулся в преотвратном настроении. Без пятнадцати семь они вызвали такси и убрались в гостиной.
Эспиноса написал прощальную записку. Пеллетье краем глаза пробежал ее и, подумав несколько секунд, решил также оставить прощальную записку. Прежде чем уйти, он спросил Эспиносу, не желает ли тот принять душ. В Мадриде помоюсь, ответил испанец. Там вода лучше. Это правда, согласился Пеллетье, и ему самому не понравился ответ: настолько глупым и примирительным он получился. Потом оба бесшумно ушли и позавтракали, как и несчетные разы до этого, в аэропорту.
На борту самолета, летящего в Париж, Пеллетье по какой-то непонятной причине принялся думать о книге про Берту Морисо – той самой, что давеча хотел швырнуть в стену. «С чего бы?» – спросил себя Пеллетье. Неужели ему не нравилась Берта Морисо? Или ему не понравилось то, о чем книга напомнила? На самом деле ему нравилась Берта Морисо. И вдруг он понял: а ведь эту книгу не Нортон купила, а он сам, что это он поехал из Парижа в Лондон с завернутой в подарочную бумагу книгой, что Нортон впервые увидела репродукции Морисо именно в этой книге, а он сидел рядом, оглаживал ей затылок и рассказывал о каждой картине. Так что же, он расстраивается потому, что подарил эту книгу? Нет, конечно нет. А может, художница-импрессионистка и расставание с Нортон как-то связаны? Это вообще глупость… Так почему же ему так хотелось шваркнуть книгой о стену? А самое важное – почему он думает о Берте Морисо и ее альбоме и о затылке Нортон, а не о menage a trois, чей призрак сегодня ночью висел, как индейский воющий шаман, посреди квартиры англичанки, но так и не материализовался?
На борту летящего в Мадрид самолета Эспиноса, в отличие от Пеллетье, думал о последнем (с его точки зрения) романе Арчимбольди, ведь если Эспиноса прав (а он думал, что прав), романы Арчимбольди более не будут выходить и что` все это означает для него самого, ученого, неясно, а еще он думал об объятом пламенем самолете и о тайных желаниях Пеллетье (как тот прикидывается современным, если этого требует момент, вот же сраный сукин сын) и время от времени посматривал в иллюминатор и на двигатели и умирал от желания поскорее снова оказаться в Мадриде.
Некоторое время Пеллетье и Эспиноса не звонили друг другу. Пеллетье иногда говорил с Нортон, и их беседы становились все приторнее, словно бы их отношения теперь всецело зависели от хороших манер обоих; и еще так же часто, как и раньше, он звонил Морини, с которым у них ничего не поменялось.
То же самое происходило с Эспиносой, хотя тот не сразу это понял: Нортон не шутила и была совершенно серьезна. Естественно, Морини что-то такое ощутил, но чувство такта или лень, та самая тупая и время от времени болезненная лень, которая иногда вцеплялась в него намертво, – словом, Морини решил не показывать, что подметил нечто новое, и Пеллетье с Эспиносой были ему весьма признательны.
Даже Борчмайер (он до сих пор некоторым образом побаивался тандема испанца и француза), даже он заметил что-то новое в переписке, которую поддерживал с ними обоими: какие-то туманные намеки, чуть заметные поправки, легчайшие сомнения и прямо-таки поток красноречия, когда о них заходил разговор… чувствовалось, с некогда общей методологией что-то произошло.
Затем случилась Ассамблея германистов в Берлине, конференция по проблемам немецкой литературы ХХ века в Штутгарте, симпозиум по вопросам немецкой литературы в Гамбурге и конференция «Будущее немецкой литературы» в Майнце. На ассамблею в Берлине прибыли Нортон, Морини, Пеллетье и Эспиноса, но по ряду причин они сумели побыть вчетвером только один раз, во время завтрака, причем вокруг них сидели другие германисты, храбро ввязавшиеся в схватку с маслом и мармеладом. На конференцию приехали Пеллетье, Эспиноса и Нортон, и Пеллетье удалось поговорить с Нортон наедине (пока Эспиноса обсуждал научные вопросы со Шварцем); когда наступила очередь Эспиносы для разговоров с Нортон, Пеллетье тактично отошел побеседовать с Дитером Хеллфилдом.
В этот раз Нортон поняла, что ее друзья не хотят общаться друг с другом, да что там, они и видеться не очень-то желают, и это произвело на нее крайне тяжелое впечатление – ведь она некоторым образом чувствовала себя виноватой в том, что друзья отдалились друг от друга.
На симпозиум приехали только Эспиноса и Морини, и уж они-то постарались не скучать, а еще, пользуясь тем, что находятся в Гамбурге, отправились с визитом в издательство Бубис и застали там Шнелля, но не госпожу Бубис, которой купили букет роз, – та уехала по делам в Москву. Вот ведь женщина, сказал им Шнелль, – непонятно, откуда в ней берется такая энергия. И, довольный, рассмеялся, да так, что Эспиноса и Морини сочли его веселье чрезмерным. Перед уходом они вручили букет роз Шнеллю.
На конференцию приехали только Пеллетье и Эспиноса, и в тот раз им не осталось ничего другого, как встретиться лицом к лицу и выложить карты на стол. Поначалу – и это понятно – они успешно избегали друг друга (впрочем, ни разу не погрешив против вежливости), а в некоторых, по пальцам пересчитать можно, случаях они все-таки погрешили против нее. Однако в конце концов им не осталось путей к отступлению, и пришлось все-таки поговорить. Это знаменательное событие случилось в баре гостиницы глубокой ночью, когда за стойкой оставался лишь один официант, самый молоденький из всех, высокий белокурый сонный паренек.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































