Текст книги "2666"
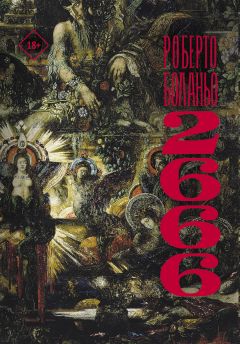
Автор книги: Роберто Боланьо
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 69 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
– А почему ты мне раньше ничего такого не рассказывал? – перебила его Нортон.
Эспиноса пожал плечами.
– Да нет, я рассказывал, – возразил Пеллетье.
Но через несколько секунд сам понял: нет, и вправду никогда не рассказывал.
Нортон, ко всеобщему изумлению, расхохоталась – а это, надо сказать, за ней почти не водилось – и заказала еще одну маргариту. Некоторое время – точнее, время, которое понадобилось хозяину, который все так же развешивал и снимал платья, чтобы принести им коктейли, все трое провели в молчании. Потом, уступив просьбам Нортон, Эспиносе пришлось продолжить свой рассказ, но это быстро ему наскучило.
– Давай ты дальше рассказывай, – сказал он Пеллетье, – ты же тоже там был.
История Пеллетье начиналась с того места, где трое арчимбольдистов застыли перед решеткой из черного металла на входе в сумасшедший дом имени Августа Демарра, решеткой весьма внушительной, возведенной, дабы приветствовать посетителей или помешать им выйти (или зайти); хотя нет, история Пеллетье началась несколькими секундами ранее, когда он с Эспиносой и Морини в инвалидной коляске замерли у железных врат и железной же ограды, что тянулась и вправо и влево, и там и там теряясь из виду под нависшими над ней кронами старых и хорошо ухоженных деревьев, а Эспиноса подошел к машине, залез по пояс в кабину, расплатился с таксистом за ожидание и договорился, чтобы тот подъехал забрать их через какое-то разумное время. Затем все трое встали лицом к лицу с сумасшедшим домом, который вырисовывался вдалеке, там, где заканчивалась дорога, и виделся он крепостью XV века, но не из-за облика, а из-за ощущения, которое инерция его силуэта вызывала в душе.
Так что же это было за ощущение? Оно… оно было странное. Например, в смотрящего вселялась совершеннейшая уверенность в том, что Американский континент не был открыт, в смысле, уверенность в том, что Американский континент никогда не существовал, что вовсе не препятствовало постоянному экономическому росту, или обычному демографическому росту, или продвижению демократических ценностей в швейцарской республике. В конечном счете, сказал Пеллетье, это одна из этих странных и бесполезных идей, которые забредают в головы во время путешествий, в особенности если путешествие совершенно точно бесполезно для путешествующего, как, например и скорее всего, этот их вояж.
Затем им пришлось пройти через лес всевозможных формальностей и бюрократических препон швейцарского сумасшедшего дома. В конце концов – а надо сказать, за все это время им не попался на глаза ни один страдавший душевной болезнью пациент из тех, что проходили лечение в данном учреждении, – медицинская сестра средних лет с совершенно бесстрастным лицом отвела их к маленькой беседке в садах за клиникой – а надо сказать, сады те были огромны и на них открывался прекрасный вид; впрочем, с точки зрения Пеллетье, который катил инвалидную коляску Морини, то, что деревья произрастали на устремленном вниз склоне холма, совершенно не способствовало излечению души, страдающей серьезным или очень серьезным расстройством.
Однако же павильон, против их ожиданий, оказался вполне уютным: окружали его сосны и розовые кусты, оплетавшие балюстраду, а внутри стояли кресла, словно бы позаимствованные из комфортабельного английского сельского дома, также наличествовали камин, дубовый стол, наполовину пустая этажерка с книгами (в основном на немецком и французском языках, впрочем, попадались и английские издания), офисный стол с компьютером и модемом, турецкий диван, совершенно не гармонировавший с остальной мебелью, санузел с унитазом и раковиной и даже душ с пластиковой занавеской.
– А неплохо они тут живут, – заметил Эспиноса.
Пеллетье же молча подошел к окну и принялся рассматривать открывавшийся за ним пейзаж. У подножия далеких гор он разглядел какой-то город. Видимо, это Монтрё, сказал он сам себе, а может, и деревенька, где они наняли такси. Еще там виднелось озеро – озеро как озеро, без особых примет. Эспиноса подошел к окну и заявил, что те домики вдалеке – точно та деревенька, а не Монтрё. Морини сидел не шевелясь, в своей коляске, сидел и не спускал глаз с двери.
Когда та открылась, он первым увидел его. У Эдвина Джонса были прямые волосы – впрочем, он уже начал лысеть на макушке – и бледная кожа, росту он был невысокого и по-прежнему оставался худым. Под тонким кожаным пиджаком можно было разглядеть серый свитер с высоким воротом. Первым делом Джонс обратил внимание на коляску Морини, которая его приятно удивила: он, видно, не ожидал, что тут может материализоваться подобный предмет. Морини, со своей стороны, не удержался и посмотрел на правую руку художника, точнее, на ее отсутствие; каково же оказалось его удивление, признаться, совсем не приятное, когда он увидел, что из рукава куртки, где должна была зиять пустота, высовывается рука! Да, из пластика, однако сделанная до того искусно, что только терпеливому и заранее осведомленному посетителю стало бы понятно, что это протез.
Следом за Джонсом вошла медсестра, но не та, что привела их сюда, а другая, немного моложе и намного более светловолосая; она присела на один из стульев около окна, вытащила карманную толстенькую книжечку и принялась читать, не обращая вовсе никакого внимания на Джонса и посетителей. Морини представился как филолог из Туринского университета и большой поклонник мистера Джонса, а затем представил своих друзей. Джонс все это время стоял не шевелясь, но протянул руку Эспиносе и Пеллетье, которые осторожно пожали ее, а потом уселся на стул рядом со столом и принялся наблюдать за Морини, словно бы в павильоне никого, кроме них двоих, не было.
Поначалу Джонс предпринял минимальное, едва заметное усилие, чтобы завести беседу. Он спросил, купил ли Морини какое-либо из его произведений. Морини ответил, что нет. А потом добавил, что картины Джонса ему, увы, не по карману. И тут Эспиноса заметил, что книга, которую, не отрываясь, читает медсестра, – антология немецкой литературы XX века. Он пихнул локтем Пеллетье, и тот спросил у медсестры – более, чтобы разбить лед меж ними, нежели из любопытства, – есть ли в этом сборники тексты Бенно фон Арчимбольди. Медсестра сказала, что да, есть. Джонс искоса поглядел на книгу, закрыл глаза и провел ладонью протеза по лицу.
– Это моя книга, – сказал он. – Я дал ей почитать.
– Невероятно, – пробормотал Морини. – Какое совпадение…
– Но я, естественно, ее не читал – не владею немецким.
Тогда Эспиноса спросил, зачем же он тогда купил эту книгу.
– Из-за обложки, – ответил Джонс. – На ней рисунок Ханса Ветте, он хороший художник. Что же до остального, – добавил Джонс, – то речь не о том, чтобы верить или не верить в совпадения. Самый наш мир – одно большое совпадение. У меня был друг, он говорил, что подобный образ мыслей ошибочен. Мой друг говорил, что для того, кто едет в поезде, мир – не случайность, пусть даже поезд проезжал бы через неизвестные путешественнику страны, которые ему больше никогда в жизни не увидеть. Так же не случайность этот мир для того, кто с невероятным трудом в шесть утра поднимается, чтобы идти на работу. У кого нет выбора, тот поднимется и пойдет умножать уже накопленную боль. Боль умножается, говорил мой друг, это факт, и чем сильнее боль, тем меньше случайность.
– Выходит, случайность – она сродни роскоши? – спросил Морини.
В этот момент Эспиноса, который внимательно слушал монолог Джонса, увидел, что Пеллетье стоит рядом с медсестрой, облокотившись на подоконник, а свободной рукой – из учтивости – помогает ей найти страницу с рассказом Арчимбольди. Светловолосая медсестра, сидящая на стуле с книгой на коленях, и Пеллетье, стоящий рядом, – картина эта дышала покоем. В прямоугольнике окна переплетались розы, а за ними зеленели газон и деревья, а вечер уже подплывал тенями между скал, ущелий и одиноких утесов. Тени неприметно расползались по комнате, и появлялись углы, где их прежде не было, на стенах возникали неровной рукой начертанные рисунки и завивались круги, тут же рассеивающиеся безмолвной взрывной волной.
– Случайность – не роскошь. Это другое лицо судьбы и кое-что еще, – сказал Джонс.
– Что же это? – спросил Морини.
– То, что ускользало от зрения моего друга по очень простой и понятой причине. Мой друг (хотя звать его так – слишком смело с моей стороны) верил в человечество и потому верил в порядок, порядок в живописи и порядок слов, ибо живопись ими пишется. Он верил в искупление. Он даже в прогресс, наверное, верил. Случайность же, напротив, – это полная свобода, к которой мы стремимся в силу собственной природы. Случайность не подчиняется законам, а если и подчиняется, то мы этих законов не знаем. Случайность, если вы мне позволите так выразиться, – она как Бог, который открывает себя каждую секунду существования нашей планеты. Бог, непознаваемый, непознаваемо действует в отношении непознаваемых творений. В этом урагане, сминающем все окостенелое, совершается причастие. Причастие случайности, оставляющее следы в мироздании, каковых следов причащаемся мы.
Тогда и только тогда Эспиноса и Пеллетье услышали или прочувствовали неслышимое – вопрос, который тихим голосом задал Морини, наклонившись вперед так, что едва не выпал из инвалидной коляски.
– Зачем вы нанесли себе увечье?
По лицу Морини бежали последние отблески света, пронизывающие парк сумасшедшего дома. Джонс бесстрастно выслушал его. По его виду можно было подумать, что он знал: этот человек в коляске приехал сюда, дабы получить, как ранее все остальные до него, ответ на этот вопрос. Тогда Джонс улыбнулся и задал свой вопрос:
– Вы опубликуете заметки об этой встрече?
– Никоим образом, – ответил Морини.
– Тогда зачем вы меня спрашиваете?
– Я хочу услышать ответ от вас, – прошептал Морини.
Джонс просчитанным – во всяком случае, так показалось Пеллетье – медленным жестом поднял правую руку и поднес ее к лицу застывшего в ожидании Морини.
– Думаете, вы на меня похожи? – спросил Джонс.
– Нет, я же не художник, – ответил Морини.
– Я тоже не художник, – сказал Джонс. – Так что же? Считаете, вы на меня похожи?
Морини повертел головой, и коляска под ним тоже задвигалась. В течение нескольких секунд Джонс наблюдал за ним с улыбкой на тонких бескровных губах.
– А вы как думаете, зачем я это сделал? – спросил он снова.
– Не знаю, честно – не знаю, – проговорил Морини, глядя ему в глаза.
Итальянца и англичанина уже окутал полумрак. Медсестра хотела подняться, чтобы включить свет, но Пеллетье приложил палец к губам и не разрешил ей. Медсестра снова села. На ней были белые ботинки. На Пеллетье и Эспиносе – черные. На Морини – коричневые. На Джоне были белые кроссовки, удобные и для бега на большие расстояния, и для прогулок по мостовым городов. Это было последнее, что увидел Пеллетье, – цвет ботинок, их форма и их неподвижность, а потом ночь погрузила все в холодное альпийское ничто.
– Я скажу, почему я это сделал, – сказал Джонс, и в первый раз за все время жесткое напряжение – плечи расправлены по-военному, спина по стойке смирно – покинуло его тело, и он наклонился, приблизился к Морини и что-то прошептал ему на ухо.
Потом поднялся, подошел к Эспиносе и безупречно пожал ему руку, потом подошел к Пеллетье и проделал то же самое, а потом вышел из павильона, а медсестра покинула комнату вслед за ним.
Включив свет, Эспиноса довел до их сведения – а то вдруг они не поняли, – что Джонс не пожал руку Морини ни в начале, ни в конце встречи. Пеллетье сказал, что он-то как раз заметил. Морини не сказал ничего. А потом пришла та первая медсестра и проводила их к выходу. Пока они шли по парку, она сказала, что такси ждет их у ограды.
Машина отвезла их в Монтрё, где они провели ночь в гостинице «Гельвеция». Все трое чувствовали себя очень усталыми и решили не идти ужинать. Но через пару часов тем не менее Эспиноса позвонил в номер Пеллетье и сказал, что голоден и что собирается пойти прогуляться и заодно посмотреть, может, что-то еще и открыто. Пеллетье сказал, чтобы тот его подождал – пойдем, мол, вместе. Когда они встретились в лобби, Пеллетье спросил, звонил ли он Морини.
– Позвонил, – ответил Эспиноса, – но никто не взял трубку.
Они решили, что итальянец, видимо, уже спит. Тем вечером они вернулись в гостиницу поздно и немного навеселе. Поутру пошли в номер Морини, но не обнаружили его там. Портье сообщил им, что клиент Пьеро Морини закрыл свой счет и покинул гостиницу вчера в полночь (в это время Эспиноса и Пеллетье спокойно ужинали в итальянском ресторане), – так говорит компьютер. В это время он спустился к стойке и попросил вызвать ему такси.
– Он уехал в двенадцать часов ночи? Куда?
Портье по понятным причинам не знал.
Этим утром они обзвонили все больницы Монтрё и окрестностей – Морини туда не поступал. Тогда Пеллетье и Эспиноса сели на поезд до Женевы. Из женевского аэропорта позвонили Морини домой в Турин. Попали на автоответчик, который оба художественно выругали. Потом каждый из них сел на свой самолет.
Едва добравшись до дома, Эспиноса позвонил Пеллетье. Тот уже где-то с час находился у себя дома и сказал: о Морини так ничего и не слышно. Весь день как Эспиноса, так и Пеллетье названивали на номер итальянца и оставляли короткие и с каждым разом все более унылые сообщения на автоответчике. На следующий день они обеспокоились не на шутку и даже подумывали сесть на самолет в Турин и, не найдя Морини, передать это дело в руки правосудия. Однако страх попасть из-за поспешности в дурацкое и смешное положение пересилил, и они никуда не полетели.
Третий день прошел в точности как второй: они звонили Морини, звонили друг другу, взвешивали различные возможности и думали, что можно тут предпринять, взвешивали возможные варианты – как там с психическим здоровьем у Морини? – и признали, что он человек в высшей степени зрелый и здравомыслящий, но так и ничего не предприняли. На четвертый день Пеллетье позвонил прямо в Туринский университет. Трубку взял молодой австриец, временно работавший на немецкой кафедре. Австриец понятия не имел, куда пропал Морини. Тогда Пеллетье попросил к телефону лаборантку. Австриец сообщил ему, что лаборантка вышла позавтракать и пока не вернулась. Пеллетье тут же позвонил Эспиносе и рассказал о звонке, в красках описав подробности. Эспиноса сказал, что теперь его очередь попытать судьбу.
В этот раз к телефону подошел не австриец, а студент кафедры немецкой филологии. Тем не менее немецкий студента был не слишком хорош, поэтому Эспиноса перешел на итальянский. Спросил, вернулась ли лаборантка. Студент ответил, что он сейчас на кафедре один, все ушли завтракать. Эспиноса поинтересовался, в котором часу завтракают служащие Туринского университета и сколько этот завтрак длится. Студент не понял скверный итальянский Эспиносы, и тому пришлось два раза повторить вопрос, причем второй раз он говорил уже на повышенных тонах.
Студент сообщил, что он, к примеру, практически никогда не завтракает, но это ничего не значит, у каждого свои привычки. Понятно, нет?
– Понятно. – Эспиноса уже скрипел зубами от злости. – Но мне необходимо поговорить с кем-нибудь, кто работает на кафедре.
– Поговорите со мной, – предложил студент.
Тогда Эспиноса спросил: а не пропустил ли доктор Морини какие-либо свои занятия?
– Так, дайте подумать, – проговорил студент.
И потом Эспиноса услышал, как кто-то, тот самый студент, шептал «Морини… Морини… Морини…» каким-то чужим, не своим голосом, голосом волшебника, точнее волшебницы, прорицательницы времен Римской империи, голосом, который доносился до него, подобно каплям, сочащимся из базальтового источника, он рос и полнился оглушающим шумом, шумом тысяч голосов, грохотом огромной реки, выходящей из русла, и скрывал в себе некий шифр, в котором сокрыта судьба всех голосов.
– Вчера у него было занятие, но он не пришел, – сказал студент после долгого размышления.
Эспиноса поблагодарил его и повесил трубку. Ранним вечером он еще раз позвонил Морини, а потом Пеллетье на домашний. Ни там, ни там никто не ответил, и ему пришлось удовольствоваться пространным сообщением на автоответчики. Затем он сел и задумался. Однако мысли его немедленно устремились к тому, что произошло, к прошедшему в строгом смысле этого слова, прошедшему, что обманчиво видится как практически настоящее. Он припомнил голос на автоответчике Морини, в смысле, записанный голос самого Морини, который без риторических излишеств, но очень вежливо сообщал, что это номер Пьеро Морини, пожалуйста, оставьте свое сообщение; а голос Пеллетье, вместо того чтобы сказать – это телефон Пеллетье, повторял собственный номер, чтобы никаких сомнений не осталось, а затем просил звонящего сообщить свое имя и номер телефона, все в обмен на неопределенное «я потом вам перезвоню».
Тем вечером Пеллетье позвонил Эспиносе, и они, разогнав с горизонта висевшие там тяжкими тучами предчувствия, пришли к соглашению: пусть пройдет несколько дней, нет причин впадать в глупую панику; надо всегда иметь в виду: Морини, что бы он ни учинил, имеет на это полное право и они не могли и не должны были ставить ему никаких препон. Тем вечером, впервые после возвращения из Швейцарии, они смогли спокойно уснуть.
Следующим утром оба отправились на службу, отдохнув телом и успокоив дух, хотя в одиннадцать, перед тем как отправиться обедать с коллегами, Эспиноса не утерпел и снова позвонил на немецкую кафедру Туринского университета – с тем же нулевым результатом. Позже ему позвонил из Парижа Пеллетье и спросил, имеет ли смысл ввести Нортон в курс дела.
Они взвесили все за и против и решили пока не срывать покров молчания с частной жизни Морини – во всяком случае, пока не узнают что-либо поконкретнее. Два дня спустя, уже почти на автомате, Пеллетье позвонил Морини на домашний, и в этот раз кто-то снял трубку. У Пеллетье вырвались слова удивления – его друг подошел к телефону! Это он! Наконец-то!
– Не может быть! – закричал Пеллетье. – Не может быть, это невозможно!
Голос Морини звучал как обычно. Затем настало время поздравлений, чувства облегчения, радости, что закончился не только скверный, но и совершенно непонятный сон. В середине разговора Пеллетье сказал ему, что ему нужно немедленно позвонить Эспиносе.
– Ты же никуда не уйдешь? – спросил он, прежде чем повесить трубку.
– Куда мне идти, сам-то посуди, – ответил Морини.
Но Пеллетье не стал звонить Эспиносе, а пошел и налил себе стакан виски, а потом двинулся на кухню, потом в ванную, потом в кабинет, везде включая люстры и лампы. И только потом позвонил Эспиносе и рассказал, что обнаружил Морини в здравом уме и трезвой памяти и только что побеседовал с ним по телефону, но сейчас уже не может говорить. Повесив трубку, Пеллетье налил себе еще виски. Спустя полчаса ему позвонил из Мадрида Эспиноса. Действительно, с Морини все в порядке. Сказать, где он пропадал эти дни, он отказался. Сказал, ему нужно отдохнуть. Кое-что для себя понять. Эспиноса не стал донимать его вопросами, но ему показалось, будто Морини что-то скрывает. Но что? Эспиноса даже представить себе не мог…
– На самом деле мы о нем крайне мало знаем, – проговорил Пеллетье, которому уже поперек горла стояли Морини, Эспиноса и телефонные звонки.
– Ты спросил, как он себя чувствует? – поинтересовался Пеллетье.
Эспиноса сказал, что да, и Морини его заверил, что чувствует себя превосходно.
– Что мы здесь можем поделать? Ничего, – сделал вывод Пеллетье, и грусть в его голосе не укрылась от Эспиносы.
Через некоторое время они повесили трубки, Эспиноса взял книгу и попытался читать, но не смог.
Нортон тогда сказала (а владелец или служащий галереи все так же снимал с вешалок и развешивал платья), что те дни, на которые пропал, Морини находился в Лондоне.
– Первые два дня он провел один, даже не позвонил мне ни разу.
Когда я его увидела, он сказал, что ходил по музеям и ездил по незнакомым ему районам, которые смутно напоминали ему рассказы Честертона, но уже ничего не имели с ним общего, хотя тень отца Брауна все еще пребывала в них, скажем, не совсем ортодоксальным образом. Все это Морини рассказал, словно бы пытаясь очистить косточку своих хождений по городу от привнесенной драматической шелухи; однако на самом деле картина виделась иначе: вот он сидит в своем номере круглые сутки, занавески раздвинуты, и он час за часом созерцает открывающийся из окна уродливый ландшафт задних стен зданий и читает. Потом Морини ей позвонил и пригласил на обед.
Естественно, Нортон была весьма рада его слышать и в назначенный час подошла к стойке портье, рядом с которой сидел в своей коляске Морини со свертком на коленях, подобно судну, удерживающемуся на волнах, и терпеливо и совершенно бесстрастно наблюдал за толпами гостей и клиентов, которые носились туда-сюда по лобби, выставляя на всеобщее обозрение множество чемоданов, которые тоже перекатывали то туда, то сюда: перед ним проходили люди с усталыми лицами, в воздухе, подобно метеоритному шлейфу кометы, плыли ароматы духов, коридорные стояли с видом хранящего страшную тайну и оттого взволнованного человека, под глазами у постоянного или замещающего менеджера по приему гостей расплывались синяки, за менеджером вилась парочка помощников, на вид весьма наглых, и наглость эту источали также (беспрестанно хихикая) некоторые девушки, но Морини, по причине душевной щепетильности, предпочитал на такое не смотреть. Нортон подошла, и они отправились в бразильский вегетарианский ресторан в Ноттинг-хилле – Нортон только недавно в нем побывала.
Узнав, что Морини уже два дня как приехал в Лондон, она спросила, какого черта и где его носило и почему, черт побери, он ей не позвонил. Тогда Морини рассказал ей про Честертона, сказал, что ему нужно было проветриться, похвалил городскую инфраструктуру, хорошо приспособленную для инвалидов – полную противоположность Турину, где люди в колясках ежедневно встречали препятствия для передвижения, сказал, что побывал у некоторых букинистов, кое-что купил, но названий не сказал, упомянул о двух визитах в дом Шерлока Холмса – Бейкер-стрит одна из самых любимых его улиц, улица, которая для такого, как он, итальянца среднего возраста, образованного и слабого здоровьем, увлекающегося детективами, – так вот, эта улица – она вне времени или даже дальше, чем время, любовно (хотя точное слово здесь не «любовно», а «филигранно») сохраненная на страницах доктора Ватсона. Потом они пошли к Нортон домой, и там Морини ей вручил купленный для нее подарок – книгу о Брунеллески, с замечательными фотографиями, выполненными фотографами четырех национальностей, заснявшими одни и те же здания великого архитектора Возрождения.
– Это всё интерпретации, – сказал Морини. – Лучший – француз. Меньше всего мне нравится американец. Слишком шикарно. И слишком много рвения – во что бы то ни стало хочется ему открыть Брунеллески. Стать Брунеллески. Немец ничего такой, но вот француз – да, он лучший, как мне кажется, ты мне потом расскажи, что тебе понравилось.
И хотя она никогда не видела эту книгу, отпечатанную на такой прекрасной бумаге и с такой невероятной обложкой, что она уже сама по себе была редкостной жемчужиной, – так вот, Нортон показалось, есть в ней что-то знакомое. На следующий день они встретились перед театром. У Морини было два билета, которые он купил в гостинице, и они посмотрели дурацкую вульгарную комедию и хохотали над ней без устали, причем Нортон смеялась больше, чем Морини, который время от времени не понимал фраз на лондонском жаргоне. Тем вечером они поужинали, и, когда Нортон спросила, что поделывал Морини сегодня до театра, тот признался, что гулял по Кенсингтон-гарденс и Итальянским садам Гайд-парка и просто бесцельно передвигался, – хотя Нортон, неизвестно почему, представляла его тихо сидящим в парке, как он иногда вытягивает шею, пытаясь разглядеть нечто, ускользающее от взора, а в основном сидит с закрытыми глазами, делая вид, что спит. За ужином Нортон объяснила ему то, что он не понял в комедии. Только тогда Морини понял, что комедия оказалась даже пошлей, чем он думал. Тут он сполна оценил актерские работы, и по возвращении в гостиницу, пока снимал с себя одежду, не слезая с коляски перед выключенным телевизором, в котором отражались он и номер, отражались странно, призрачно, как персонажи пьесы, которую благоразумие и страх никогда не позволили бы поставить на сцене, он сделал вывод, что не такая уж дурацкая была эта комедия, хорошая она на самом деле: он посмеялся, актерская игра приличная, кресла удобные, а билеты не то чтоб очень дорогие.
На следующий день он сказал Нортон, что ему пора возвращаться. Та отвезла его в аэропорт. Пока они ждали, Морини самым беззаботным тоном, на который был способен, сказал, что, похоже, теперь он знает, почему Джонс отрезал себе правую руку.
– Какой Джонс? – удивилась Нортон.
– Эдвин Джонс, художник, которого ты мне открыла, – ответил Морини.
– Ах да, Эдвин Джонс, – покивала Нортон. – Так почему?
– Из-за денег, – сказал Морини.
– Из-за денег?
– Он верил в инвестиции, в денежные потоки, что тот, кто не вкладывает, не выигрывает, – вот это всё.
Нортон, судя по выражению лица, надолго задумалась. А потом сказала: а что, возможно.
– Он сделал это из-за денег, – еще раз сказал Морини.
Потом Нортон спросила его (в первый раз за все время), как там Пеллетье с Эспиносой.
– Я бы предпочел, чтобы они не знали о моей поездке сюда, – проговорил Морини.
Нортон ответила ему вопросительным взглядом, но потом сказала: мол, не волнуйся, я сохраню твой секрет. Потом спросила, позвонит ли он ей, как долетит до Турина.
– Конечно, – ответил Морини.
К ним подошла стюардесса, они обменялись парой слов, и через несколько минут та отошла улыбаясь. Очередь пассажиров пришла в движение. Нортон поцеловала Морини в щеку и ушла.
Прежде чем покинуть галерею, они, грустные и задумчивые, столкнулись с хозяином (или служащим?), и тот сообщил, что всё, скоро закрываемся. Перекинув через руку платье из блестящей ткани, он рассказал: дом, частью которого является галерея, принадлежал его бабушке – благородной и прогрессивной даме. После ее смерти дом унаследовали три племянника – теоретически, в равных долях. Но тогда он – один из этих трех племянников – жил на Карибах, где научился не только маргариты смешивать, – словом, занимался продажей информации и шпионажем. Для всех родственников он был все равно что пропавшим без вести. А так, да, как он сам сказал: был я шпионом-хиппи с массой вредных привычек. Вернувшись в Англию, обнаружил, что двое его кузенов заняли весь дом. Тогда он подал на них в суд. Но услуги адвокатов стоили дорого, и в результате он согласился на три комнатки, в которых открыл галерею. Но дело не шло: картины не продавались, секонд-хенд тоже не приносил дохода и мало кто приходил в бар продегустировать маргариту. Этот район слишком пафосный для моих клиентов, сказал владелец, сейчас галереи открывают в обновленных рабочих районах, бары – в традиционных для баров местах, а здешние люди не покупают поношенные вещи. Когда Нортон, Пеллетье и Эспиноса уже поднялись и направились к металлической лесенке, которая вела на улицу, хозяин галереи сказал им, что, словно этого было мало, ему стал являться призрак бабушки. Это признание заинтересовало Нортон и ее спутников.
– Вы прямо ее видели, да? – спросили они. Да, видел, кивнул хозяин галереи. Поначалу слышались только странные шумы, словно вода льется или пузырьки лопаются. Таких шумов он еще не слышал в этом доме, хотя, после того как его разделили на отдельные квартиры и, соответственно, оборудовали, чем положено, санузлы, можно было подобрать рациональное объяснение звуку текущей воды. Правда, раньше он ничего подобного не слышал… А потом начали слышаться стоны и даже вскрики, причем не боли, а удивления и горести: видимо, призрак бабушки бродил по своему дому и не узнавал его – еще бы, ведь его разделили на несколько жилищ поменьше и теперь появились стены там, где она их не помнила, и современная мебель, которая ей наверняка казалось вульгарной, и зеркала висели там, где прежде не было никакого зеркала.
Время от времени подавленный и несчастный хозяин оставался ночевать в магазине. Естественно, страдал он не от шумов и стонов призрака, а от того, что дела шли из рук вон плохо и предприятие могло прогореть. В такие ночи он совершенно отчетливо слышал шаги и стоны бабушки, которая бродила по верхним квартирам, словно бы не понимала, что случилось с миром мертвых и с миром живых. Однажды ночью, заперев входную дверь, он увидел ее отражение в единственном зеркале, которое стояло в углу – старинное викторианское зеркало в полный рост, предназначавшееся для примеряющих одежду дам. Бабушка разглядывала картины на стене, потом переводила взгляд на вешалки, а потом, словно бы этого было мало, на два единственных стола в заведении.
Лицо ее искажал ужас, сказал хозяин. Так что это был первый и последний раз, когда он ее видел, хотя время от времени все равно слышал, как она ходит по квартирам наверху, где она явно могла проходить сквозь стены, которых не было в ее время. Когда Эспиноса спросил его, чем именно он занимался в ту пору, когда жил на Карибах, хозяин грустно улыбнулся и заверил их, что вовсе не безумен, как некоторые могли бы полагать. Да, я был шпионом, сказал он, а что, профессия не хуже любой другой, кто-то описывает имущество, кто-то работает в отделе статистики, а он вот шпионом работал. Рассказ хозяина галереи почему-то вверг всех в печаль.
На одном семинаре в Тулузе они познакомились с Родольфо Алаторре, молодым мексиканцем, среди многих прочих авторов прочитавшим и Арчимбольди. Мексиканец, наслаждавшийся стипендией литератора и пытавшийся, похоже безрезультатно, написать современный роман, ходил там на некоторые лекции и, среди прочего, представил сам себя Нортон и Эспиносе, которые отделались от него без долгих слов, потом он подошел к Пеллетье, который тоже не удостоил его своего царственного внимания: он видел в Алаторре лишь одного из бегающих тут стаями молодых европейских исследователей, занудных и бестолковых, вечно толкущихся вокруг апостолов арчимбольдианства. К стыду своему, Алаторре не знал и слова по-немецки, что мгновенно дисквалифицировало его как собеседника. Семинар в Тулузе, с другой стороны, пользовался успехом у публики и того семейства критиков и исследователей, которые знали друг друга по прошлым конференциям и, по крайней мере на словах, были рады снова встретиться и продолжить дискуссии, – так вот, в этой обстановке мексиканцу было нечего делать, разве что отправиться домой (чего он делать не хотел, потому что домом его была голая комнатушка стипендиата, заваленная книгами и рукописями) или остаться здесь и засесть в уголочке, улыбаясь направо и налево и изо всех сил изображая из себя философичный ум, погруженный в решение важных вопросов, – собственно, чем он и занялся. Эта позиция, или, если угодно, плацдарм, тем не менее позволила ему заметить среди гостей Морини, который, будучи ограничен в перемещениях, сидел в своей коляске и рассеянно отвечал на приветствия, то есть виделся Алаторре (или на самом деле был) таким же чужим на этом празднике жизни. Через некоторое время после того, как Алаторре представился Морини, мексиканец и итальянец уже бродили по Тулузе.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































