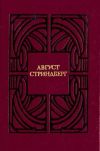Текст книги "Жан Баруа"

Автор книги: Роже Мартен дю Гар
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
В том же году, несколько месяцев спустя.
На площади Мадлен Баруа подзывает фиакр.
Баруа. В «Сеятель», на Университетскую улицу.
Он захлопывает дверцу.
Экипаж не трогается с места. Удар кнутом; лошадь брыкается.
Скорее! Я спешу…
Снова удар кнутом. Молодая норовистая лошадь перебирает ногами на месте, становится на дыбы, вскидывает голову и стрелой летит вперед.
Она проносится по улице Руаяль, одним духом пересекает площадь Согласия и мчится по бульвару Сен-Жермен.
Четыре часа дня. Оживленное движение.
Кучер сидит, упираясь ногами; он уже не в силах сдержать животное, он с трудом справляется с ним.
Медленно плетущийся трамвай преграждает дорогу.
Пытаясь обогнуть его, кучер направляет экипаж налево, на свободный рельсовый путь. Он не заметил встречного трамвая…
Невозможно замедлить бег… Невозможно проскочить между двумя трамваями.
Баруа, помертвев, откидывается на подушки. В одно мгновение он почувствовал, насколько он беспомощен в этом движущемся ящике; неотвратимость неизбежно, о, как молния, пронизывает его.
Он шепчет: «Богородица, дева, радуйся…»
Адский грохот разлетевшихся вдребезги стекол…
Смертоносный удар.
Мрак.
Несколько дней спустя.
У Баруа; день клонится к вечеру.
Вольдсмут неподвижно сидит на стуле, возле окна: читает.
Баруа лежит в постели; его ноги до бедер – в гипсе. Всего несколько часов назад он пришел в сознание и уже в десятый раз мысленно воспроизводит случившееся:
«Было еще место, если бы этот, справа, не пошел быстрее…
Успел ли я почувствовать прикосновение смерти? Не знаю…
Я испугался, ужасно испугался… И потом этот скрежет затормозившего трамвая…»
Он невольно улыбается: так нелепо думать о смерти, ощущая в себе кипение жизни, вновь обретенной жизни!
«Любопытно, до чего ж страшно умирать!.. Почему так боятся полного уничтожения всякой способности мыслить, воспринимать, страдать? Почему так боятся небытия?
Быть может, страшит только неизвестность? Ощущение смерти для нас, очевидно, нечто совершенно новое: ведь никто не может унаследовать ни малейшего представления о нем…
И все же ученый, у которого остается еще несколько секунд на размышление, должен покориться неизбежности без большого труда. Если хорошо понимаешь, что жизнь – лишь цепь изменений, зачем же страшиться еще одного изменения? Ведь это не первое… Вероятно, и не последнее…
И потом, когда ты сумел прожить свою жизнь в борьбе, когда что-то оставляешь после себя, о чем жалеть?
За себя я твердо уверен: я уйду спокойно…»
Внезапно лицо Баруа передергивается. Страх подавляет его. Мысленно он вновь пережил тот ужасный миг и вдруг вспомнил вырвавшиеся у него слова: «Богородица, дева, радуйся…»
Прошел час.
Вольдсмут в той же позе переворачивает страницы.
Паскаль приносит лампу; он закрывает ставни и подходит к хозяину; приятно смотреть на плоское гладко выбритое лицо этого швейцарца, с широко раскрытыми светлыми глазами.
Но Баруа не замечает Паскаля: взгляд его неподвижен; мозг лихорадочно работает, мысли необыкновенно ясны: так бывает ясен горный воздух после грозы.
Наконец напряжение от умственного усилия постепенно исчезает с его лица.
Баруа. Вольдсмут…
Вольдсмут (поспешно поднимаясь). Больно? Баруа (отрывисто). Нет. Выслушайте меня. Сядьте рядом.
Вольдсмут (щупает его пульс). Вас лихорадит… Лежите спокойно, вам нельзя говорить.
Баруа (высвобождая руку). Садитесь сюда и слушайте. (Гневно.) Нет, нет, мне надо говорить! Я не все рассказал вам… Я забыл самое главное… Вольдсмут! Знаете ли вы, что я сделал в тот миг, когда почувствовал себя на краю гибели? Я воззвал к богоматери!
Вольдсмут (стараясь успокоить его). Забудьте обо всем этом… Вам надо отдохнуть.
Баруа. Вы думаете, я в бреду? Я говорю серьезно и хочу, чтобы вы меня выслушали. Я не успокоюсь, пока не сделаю того, что должен сделать…
Вольдсмут садится.
(Глаза Баруа блестят, на скулах – красные пятна.) В это мгновение я, Жан Баруа, ни о чем другом не думал, я был охвачен безумной надеждой: всем своим существом я умолял святую деву совершить чудо! (С мрачным смехом.) Да, дорогой, после этого есть чем гордиться! (Приподнимается на локтях.) И, понимаете, теперь меня преследует мысль, что это может повториться… Сегодня вечером, ночью, разве могу я отныне за себя ручаться? Я хочу кое-что написать, заранее отвергнуть. Я не успокоюсь, пока не совершу этого.
Вольдсмут. Хорошо, завтра, я обещаю. Вы мне продиктуете…
Баруа (непреклонно). Сейчас, Вольдсмут, сейчас, слышите? Я хочу написать сам, сегодня же! Иначе я не усну… (Проводя рукой по лбу.) К тому же, все уже обдумано, я не устану… Самое трудное сделано…
Вольдсмут уступает. Он устраивает Баруа на двух подушках, подает ему перо, бумагу. А сам стоит возле кровати.
Баруа пишет, не останавливаясь, не поднимая глаз, прямым и твердым почерком:
«Это – мое завещание.
То, что я пишу сегодня, в возрасте сорока лет, в расцвете сил и в состоянии полного душевного равновесия, должно, разумеется, иметь большее значение, чем все то, что я буду думать или писать в конце моей жизни, когда я, под влиянием старости или болезни, ослабею телом и духом. Для меня нет ничего более ужасного, чем поведение старика, который, посвятив всю свою жизнь борьбе за идею, затем, на пороге смерти, поносит нес, что было смыслом его жизни, постыдно отрекается от своего прошлого.
При мысли о том, что все дело моей жизни может окончиться подобной изменой, при мысли о том, какую пользу могут извлечь из столь зловещей победы те, против чьей лжи и чьих посягательств на свободу личности я так яростно боролся, все существо мое восстает, и я заранее протестую со всей энергией, на какую был способен при жизни, против необоснованного отказа от своих идеалов или даже против молитвы, которая может вырваться в предсмертной тоске у того жалкого подобия человека, каким я могу стать. Я заслужил честь умереть стоя, как жил, не капитулируя, не питая пустых надежд, не страшась возвращения к медленному процессу всеобщего и вечного круговорота.
Я не верю в бессмертие человеческой души, якобы существующей отдельно от тела…
Я не верю; что материя и дух существуют раздельно. Душа – это совокупность психических явлений, а тело – совокупность органических явлений. Душа – одно из проявлений жизни, свойство живой материи; я не вижу никаких оснований для того, почему бы материя, порождающая движение, теплоту, свет, не могла породить также и мысль. Физиологические и психические функции зависят друг от друга: и мысль есть такое же проявление органической жизни, как и все другие функции нервной системы. Мне никогда не приходилось наблюдать мысль вне материи, вне живого тела; я всегда сталкивался только с одной формой жизни – с живой материей.
И как бы мы ни назвали ее – материя или жизнь, – я думаю, что она вечна: жизнь была всегда, и она всегда будет порождать жизнь. Но я знаю, что мое существо – только совокупность материальных частиц, и распад его приведет к моей полной смерти.
Я верю во всеобщий детерминизм и в причинную обусловленность человеческой воли.
Все развивается; все воздействует друг на друга: и камень, и человек. Не существует неподвижной материи. Стало быть, у меня нет никакого основания приписывать большую свободу своим действиям, чем медленным превращениям какого-нибудь кристалла.
Моя жизнь – результат непрерывной борьбы между моим организмом и средою, которая его окружает: я действую в силу своих собственных реакций, другими словами – в силу побудительных причин, свойственных только мне, и поэтому некоторые ошибочно полагают, будто я свободен в своих поступках. Но я никогда не действую свободно: ни одно из моих решений не может быть иным. Свободная воля означала бы возможность сотворить чудо, изменить соотношение причин и следствий. Такое метафизическое представление только доказывает, как долго мы находились – да и сейчас еще находимся – в неведении относительно законов, управляющих нашей жизнью.
Я отрицаю, будто человек может хоть сколько-нибудь влиять на свою судьбу.
Мы произвольно делим всё на добро и зло. Я признаю практическую пользу этого разделения, пока понятие об ответственности, хотя оно и не имеет под собой никакой реальной почвы, остается необходимым условием прочности нашего общественного порядка.
Я верю, что все еще не изученные нами явления жизни будут когда-нибудь изучены.
Что касается первопричин этих явлений, то я полагаю, что они остаются для нас вне досягаемости и недоступны нашим исследованиям. Будучи ограничен в пространстве, человек ограничен также и во времени; и поэтому ему не дано постичь ничто вечное и абсолютное; он придумал слова, чтобы выражать ими то, что не походит на него, но это мало помогло делу: он – жертва собственных определений, все эти слова существуют лишь в его представлении и не соответствуют ничему реальному. Так как он сам – только часть целого, то естественно, что целое ему недоступно.
Отвергать это – значит восставать против условий жизни во вселенной.
Вот почему я считаю бесполезным придумывать ни на чем не основанные гипотезы для того, чтобы объяснять то, что не доступно нашему пониманию. Пора уж нам излечиться от этого метафизического бреда и прекратить задавать себе вопросы, на которые не может быть ответа, вопросы, которые подсказывает нам унаследованное тяготение к мистическому.
Перед человеком лежит беспредельное поле деятельности. Постепенно наука так расширит область явлений, поддающихся изучению, что если человек вздумает познать все, что ему будет доступно, у него не останется времени жалеть о том, чего он не в состоянии постичь.
Я уверен, что наука, приучив людей спокойно игнорировать непознаваемое, поможет им обрести такое душевное равновесие, какого им никогда не давала ни одна религия.
Жан Баруа».
Онемевшей рукой он медленно ставит свою подпись. Силы оставляют его. Красное от прилива крови лицо внезапно бледнеет. Он откидывается на руки Вольдсмута.
Листки рассыпаются по простыням.
Встревоженный Вольдсмут зовет Паскаля. Но Баруа уже приоткрывает веки и улыбается.
Несколько минут спустя его равномерное дыхание возвещает о глубоком и спокойном сне.
Часть третья
Трещина
IПять лет спустя.
Париж.
………………………………………………
Утро.
Баруа заканчивает завтрак.
Паскаль. Какой-то аббат хочет вас видеть, сударь.
Баруа. Аббат?
Паскаль. Он не захотел назвать свое имя.
Баруа входит в кабинет. Пожилой священник стоит против света: это – аббат Жозье.
Аббат. Я не назвал себя, ибо не был уверен, что вы захотите принять меня… (Встречает радостный взгляд Баруа и опускает голову.) Добрый день, Жан.
Уже десять лет никто дружески не называл его «Жан»… Глаза Баруа наполняются слезами; он протягивает руки, аббат пожимает их.
Несколько мгновений они смотрят друг на друга, не произнося ни слова.
Аббату Жозье лет шестьдесят. Высокий и худой, он сохранил былую подвижность. Но лицо его – лицо старика: седые волосы, желтая морщинистая кожа; в уголках рта – две глубокие складки, впалые щеки.
Баруа предупредительно придвигает стул. Аббат осторожно садится.
Баруа тоже изменился: он похудел, спутанные волосы ниспадают на лоб; взгляд стал задумчивым; черные с проседью усы скрывают очертания непокорного рта.
Аббат. Я не явился к вам с дружеским визитом, вы это, верно, и сами понимаете… Я пришел, потому что меня об этом попросили и потому что больше некому это сделать… Вы, конечно, догадываетесь, зачем я пришел?
Баруа отрицательно качает головой: видно, что он не притворяется.
Входя в дом, аббат Жозье сердился на Жана, но, увидя его открытый взгляд, он становится снисходительнее: «Что с него взять…» Но затем аббат снова входит в роль, и былая дружба прячется в глубине сердца.
(Воинственно). Недавно вы, уж не знаю по какому случаю, читали публичную лекцию под названием: «Психологические документы относительно современного развития веры».
Баруа. Да, читал.
Аббат. В этой лекции вы сознательно отклонились от общих идей и перешли к примерам… автобиографический характер которых очевиден. Отрывки из этой лекции, которые мне пришлось прочесть, намекают на события вашей молодости, в частности на обстоятельства вашего брака… и все это освещено… без всякого уважения.
Баруа (сухо). Вы преувеличиваете. Факты, которые вы имеете в виду, приводились мною без упоминания имен, в чисто научном плане; уже одно это устраняет всякую возможность иного их истолкования. Я изучил множество психологических случаев: некоторые из них были сообщены мне провинциальными врачами, с которыми я переписываюсь, другие, признаюсь, касались меня самого…
Аббат (повышая тон). В этом-то вы и ошибаетесь, Жан. Факты эти касаются не только вас. (С горечью.) К сожалению, многое в вас меня разочаровало. Но все же я не думал, что мне когда-нибудь придется напоминать вам об элементарном чувстве человеческого достоинства. Есть такие интимные стороны жизни, о которых человек не должен говорить. Вы не имели права выносить на суд любопытной публики – что бы вас к этому ни побуждало – чувства женщины, которая была и остается вашей женой, матерью вашего ребенка!
Баруа молча выслушивает этот жестокий упрек. Лицо его багровеет.
Воспоминания лавиной обрушиваются на него; и прошлое, которое, оказывается, таилось в глубине его сердца, оживает вновь…
Франкмасонская газета департамента Уазы отметила в вашем выступлении все, что могло задеть госпожу Баруа, и…
Баруа не слушает. Он смотрит на аббата сосредоточенным и далеким взглядом. Он обидел жену? Ни разу с той самой минуты, как они расстались, ему не приходило в голову, что он еще может чем-нибудь обидеть ее!
Ему нужно собраться с мыслями. Он идет к письменному столу, как к своему прибежищу, и тяжело опускается на привычное место, сжимая руками подлокотники кресла.
Баруа. Да, теперь я понимаю… Но это вышло непреднамеренно!
Взгляд аббата выражает недоверие.
(С живостью.) Вы не верите? Но судите сами: я живу здесь один, вот уже десять лет никого не видя, кроме нескольких друзей и сотрудников… Я страшно занят… У меня нет времени оглянуться назад; и потом это не в моем характере… Я не получаю никаких новостей из Бюи: раз в год письмоводитель нотариуса уведомляет меня, что деньги переданы по назначению, вот и все.
Аббат смотрит на него с изумлением.
Вы удивлены… Но это чистейшая правда. Прошлое есть прошлое; я ушел от него, оно далеко, оно умерло для меня, я никогда не думаю о нем, никогда. Когда я готовил лекцию, я искал прежде всего подлинных, точных фактов. И, не колеблясь, заимствовал их из своей собственной жизни. Конечно, воспоминания о былом принадлежат не только мне… Это правда… (Как бы спрашивая самого себя.) Очевидно, я поступил грубо и бестактно…
Баруа не поднимает глаз. Руки его слегка дрожат.
О, я очень огорчен, что, сам того не желая, послужил причиной… (Внезапно.) Объясните ей все, передайте, пожалуйста, что я…
Аббат (обескураженный таким объяснением). Нет, Жан, лучше уж мне не повторять того, что вы сказали…
Молчание. Аббат берет шляпу.
Баруа. Вы очень спешите… (Он колеблется.) Расскажите, что там нового… Как Сесиль… все еще живет у матери?
Лицо священника остается замкнутым; он утвердительно кивает головой.
И они ведут прежний образ жизни? Церковная благотворительность?
Аббат (неодобрительно). Госпожа Баруа отдает благотворительным делам все то время, какое ей оставляет воспитание дочери.
Баруа. Ах, да, дочь… подождите, ей сейчас лет тринадцать?… Да? (Наивно.) Как она выглядит, малютка? Здорова?
Он встречает взгляд аббата; фраза обрывается сконфуженной улыбкой.
Я, верно, кажусь вам чудовищем. Что поделаешь?… (С резким жестом.) Я все это вычеркнул из своей жизни! Все это – в прошлом, все это кончилось! Моя жизнь – в другом, и это целиком поглощает меня! К чему притворяться? Девочка родилась, когда я уже уехал в Англию… Она меня совершенно не интересует, в ней ничего нет моего…
Аббат (пристально смотрит на него). Нет, есть. Я даже удивлен тем, как она похожа на вас.
Баруа (изменившимся голосом). Похожа на меня?
Аббат. То же выражение лица… Взгляд… Подбородок…
Снова наступает молчание.
Аббат встает; он сердит на Баруа, сердит на самого себя: ведь он так и не сказал того, что собирался; он уходит, унося в душе горький осадок от этой встречи.
Баруа (провожая его до двери). И… вы по-прежнему живете в Бюи?
Аббат. В праздник тела господня исполнится четыре года, как епископ доверил мне приход в Бюи.
Баруа. Я этого не знал.
Они дошли до передней.
Аббат (с внезапной злобой). Нам страшно вредит ваш новый закон об отделении церкви.[72]72
Закон об отделении церкви от государства был принят парламентом Франции 2 июля 1901 года.
[Закрыть]
Баруа (улыбаясь). То, что я продолжаю требовать свободы мысли и борюсь против несправедливости, еще не означает, что я согласен со всем, что делается во Франции…
Аббат, который уже открыл было дверь на лестницу, тихонько прикрывает ее и оборачивается.
Если вы хотя бы изредка следили за журналом, которым я руковожу…
У аббата вырывается жест отвращения, вызывающий новую улыбку Баруа.
…вы знали бы, что я всегда распространял и на церковь принципы, которые вдохновляли нас во время процесса, – точно такие же принципы. (Грустно.) Из-за этого мы, кстати, потеряли немало подписчиков. Не в этом дело. Я протестовал изо всех сил, когда правительство стало опираться на дрейфусаров нового типа, стараясь сорвать голосование в палате и протащить закон в совсем ином духе, отличном от первого варианта закона.
Аббат (холодно). С большим удовлетворением принимаю к сведению ваши слова… Но если вам ясно, насколько все, что делается ныне во Франции, отвратительно, то весьма печально, что вы не понимаете ни того, почему это происходит, ни того, какая ответственность лежит на вас и на ваших друзьях… (Значительно.) До свидания.
Баруа (пожимая ему руку). Признаюсь, наша встреча доставила мне большое удовольствие. Хотя я глубоко сожалею о том, что заставило вас сюда приехать: передайте это… в Бюи. (С натянутой улыбкой.) Впрочем, на будущее будьте спокойны… Да, говорят, будто у меня что-то разладилось (кладет руку на сердце)… вот здесь… Запрещают публичные выступления; велят вести себя осторожно… В общем, много неприятностей…
Аббат (сердечно). Неужели? Но, надеюсь, ничего серьезного.
Баруа. Нет, если я буду благоразумен.
Аббат (горячо). Надо вести себя благоразумно! Ваша жизнь еще не кончена, она не может кончиться так…
Баруа (прерывая его). Я больше, чем когда-либо, уверен в том, что избрал правильный путь и твердо иду по нему.
Аббат (качая головой). До свидания, Жан.
IIОтэй.
Весенний день.
Люс сидит в своем саду, в тени каштанов. Солнечные пятна дрожат на лбу и на поседевшей бороде. Спокойно и печально смотрит он перед собой. На коленях – развернутая газета.
Крупным шрифтом:
ПРАХ ЗОЛЯ В ПАНТЕОНЕ
Торжественное шествие.
Президент республики и министры
Полиция охраняет порядок.
Столкновения.
Вдруг лицо его светлеет; сквозь кустарник он видит приближающегося Баруа. Они крепко пожимают друг другу руки. Слова излишни.
Они молча садятся; оба сдерживают свои чувства. Но в их взглядах можно прочесть одну и ту же мысль: их оскорбляет это театральное шествие, от которого их отстранили, этот балаган, устроенный в честь их великого Золя, чье имя, ставшее символом честности и справедливости, используют теперь для прикрытия корыстной политики!
Люс (грустно). Замечательная погода, не правда ли?
Баруа соглашается, медленно кивая головой.
Что могут они сказать?
Проходит несколько мгновений. Потом Люс делает новую попытку завязать разговор.
А вы, дорогой друг, как себя чувствуете?
Баруа. Недурно. С тех пор как я прекратил читать лекции, даже хорошо.
Люс. А «Сеятель»?
Баруа тихо смеется и смотрит на Люса.
Баруа. Помните, как вы удивились, узнав, что в результате борьбы, которую мы повели с чрезмерным антимилитаризмом, некоторые подписчики отказались от нашего журнала?
Люс. Ну и что?
Баруа. Так вот, я решил проделать такой опыт… (Опять начинает смеяться, но тотчас же перестает, словно боясь, как бы смех не перешел в рыдание.) Я выбрал двадцать человек из числа наших сторонников, тех, что боролись вместе с нами с самого начала; и вот уже три месяца перестал посылать им «Сеятель». (С расстановкой.) Никто из них этого не заметил; я не получил ни одного письма с претензией! (Пауза.) Вот, посмотрите список.
Но Люс отстраняет листок.
(Шагая взад и вперед под деревьями.) Да… Все это было бы ничего, если б мы чувствовали себя молодыми и бодрыми, как раньше.
Люс (непосредственно). И это говорите вы, Баруа!
Баруа (с невольной гордостью; улыбаясь). Благодарю вас… Однако это так: уже несколько месяцев я замечаю тревожные признаки… Временами устаю, ко всему отношусь скептически, бываю излишне снисходителен… (Устало.) А вечерами чувствую себя таким одиноким…
Люс (не задумываясь). За своим рабочим столом вы не одиноки.
Баруа (выпрямляясь). Да, это правда! Сколько еще надо успеть!
Проводит рукой по волосам, делает несколько шагов. Его пристальный взгляд медленно теряет остроту.
Да, и все же теперь, когда у меня появляется предлог – какое-нибудь дело или хлопоты – и приходится уходить из редакции, я не возмущаюсь, как раньше, а скорее… Вам это еще не знакомо?… А?
Люс (смеясь). Нет.
Баруа. Порою у меня складывается впечатление, что воспоминания становятся мне дороже, чем новые начинания, дела… Я пытаюсь сопротивляться, принуждаю себя читать все, что появляется в печати. Но, несмотря на это, не чувствую себя таким восприимчивым, как прежде, словно какой-то груз мне мешает…
Люс. Опыт!
Баруа (серьезно). Быть может… Я чувствую, что способен все понять, но физически меня что-то связывает. Какое-то сопротивление организма… Это мучительно.
Люс недоверчиво улыбается.
(Словно не замечая этой улыбки.) Человек долго представляет себе жизнь как прямую линию, два конца которой теряются по обе стороны горизонта; но постепенно становится ясно, что линия эта изгибается дугой, концы ее сходятся, соединяются… Кольцо замыкается. (В свою очередь улыбнулся.) Приходит старость, и тогда уже не выбраться из этого кольца!
Люс. Полноте! (Внезапно встает.) А, вот и все наши друзья!
В глубине двора появляются три человека, вышедшие из-под арки ворот: Брэй-Зежер, Крестэй д'Аллиз и Вольдсмут.
Люс (быстро, тихим голосом). Скажите… Разве Крестэй потерял кого-нибудь из близких?
Баруа (так же тихо). Никто не знает. Уже две недели он в глубоком трауре.
Молчаливые рукопожатия.
Люс (после короткого молчания, просто). Кто-нибудь из вас был там?
Зежер. Нет.
Крестэй (своим хриплым голосом). Они отлично поняли, что надо выбрать: они или мы!
Он похудел. Лоб его полысел, и это еще больше подчеркивает гордую посадку головы. Кожа, обтянувшая виски и горбинку носа, цветом напоминает самшит.
Вольдсмут (выражая общую мысль). Как вспомнишь похороны Золя, настоящие похороны!..
Люс. Тогда вокруг него были только люди с чистыми сердцами…
Зежер (насмешливо). И мы не нуждались в полиции, чтобы охранять министров.
Его черные глаза блестят, как полированный камень. Болезнь печени его точит, но не может победить до конца: он ее носит, как власяницу.
Баруа. Когда заговорил Анатоль Франс, вы помните, какая дрожь восторга, какое чувство мужества охватило нас.
«Я скажу только то, что надо сказать, но я скажу все, что надо сказать», – произнес он, а затем добавил, что Франция – страна справедливости…
Вольдсмут (стараясь припомнить). Подождите…
«Есть только одна страна в мире, где могут совершаться великие дела… Как прекрасна душа Франции, Франции, которая уже в прошлые века учила Европу и весь мир тому, что такое правосудие!..»
Они слушают, устремив глаза на его седеющие брови, под которыми блестят дымчатые стекла очков.
Горький смех Крестэя возвращает всех к действительности.
Крестэй. Да, все было прекрасно, необыкновенно честно! А что из этого получилось? Мы вскрыли нарыв: думали, наступит выздоровление, а началась гангрена!
Протестующий жест Люса.
Брэй-Эежер пожимает плечами.
Чего мы только не видели!.. Политическая неразбериха, злоупотребление властью, торгашество. Посягательство на церковное имущество, доходящий до нелепости антимилитаризм… И наконец – полный крах.
Зежер (сухо). Я не защищаю нынешней политики. Но она, во всяком случае, не хуже той, что проводилась до процесса!
Баруа (после некоторого размышления). Право, я не знаю…
Люс (быстро). Не нужно жалеть о прошлом, Баруа, не нужно!
Зежер. Если бы тогдашнее правительство было на высоте, то не мы, а оно добивалось бы истины!
Люс. Вы замечаете только дурное, Крестэй. Вы не видите наступающих перемен. Республиканский строй обладает драгоценным качеством: это единственный строй, который можно усовершенствовать. Дайте демократии время снова вступить на правильный путь.
Крестэй. Все-таки недопустимо, чтобы те, чья политика не имела ничего общего с нашими устремлениями, бесцеремонно претендовали на плоды наших усилий. Помните историю пресловутой картотеки! Те, кто посмел организовать систему доносов в армии, не постеснялись прикрыться нашими принципами перед лицом палаты!
Зежер. Парламентская болтовня!
Баруа (печально). И потом это закон истории: победители немедленно перенимают пороки побежденных. Можно подумать, что от власти исходит какая-то зараза безнравственности.
Крестэй (мрачно). Нет. Дело даже не в этом: ведь все, что имело отношение к процессу, все, что было порождено им, – оказалось отравленным.
Люс (с упреком). Крестэй…
Крестэй. Зачем спорить против очевидности? Начиная с секретного досье девяносто четвертого года и вплоть до отказа уголовного отделения суда рассматривать дело – я уже не говорю о процессе Эстергази и о процессе Золя, – все сопровождалось нарушениями закона. (С отвращением.) Но это еще не самое страшное! Когда мы дождались приговора суда в Ренне, а затем помилования… (Кажется, что ему доставляет удовольствие бередить раны.) …те, кто не сложил оружия, вопреки всему еще надеялись на конечный успех! Но нас снова постигла неудача! Нас так бессовестно предали! Весь смысл дела, все то, ради чего мы тратили свои силы, жертвовали своим спокойствием, все это было сведено на пет тем, что мы примирились с последним нарушением закона: решение о кассации приговора, без права передачи в следующую инстанцию, было вынесено судом, который не имел на это права и не остановился во имя торжества справедливости перед вопиющим нарушением закона! Ха, ха, ха…
Люс. Крестэй!
Зежер (ровным голосом, саркастически). Вы полагаете, что третий военный суд, состоящий из каких-то семи новоиспеченных судей-офицеров, лучше справился бы со своей задачей, чем кассационный – высший гражданский суд страны?
Взгляды Баруа и Люса встречаются. Баруа молча отводит глаза.
Крестэй. Вопрос должен быть поставлен по-другому, Зежер. Говорили, будто два года подготовляли кассационный суд, а тем временем, за эти два года, состав суда сильно изменился… Но я говорю не об этом. (С подчеркнутой надменностью.) Я только хочу сказать, что можно было более достойным образом закончить дело, не получая для этого согласия гражданских судей и избежав нескончаемых споров юристов и писак вокруг четыреста сорок пятой статьи.[73]73
Статья 445 «Устава Уголовного судопроизводства» Франции 1808 года гласит, что, если после вынесения приговора подсудимому будет в судебном порядке доказано, что показания какого-либо из свидетелей были ложными, приговор должен быть отменен и дело должно быть передано вновь в суд присяжных, но не в тот, где оно было рассмотрено в первый раз. Более поздние дополнения к этой статье предусматривают, что кассационный суд может отменить приговор и не передавать дело на новое рассмотрение, если не усматривает никакого состава преступления.
[Закрыть] Я хочу сказать, что для отмены несправедливого приговора, вынесенного в Ренне, нужно было неопровержимое решение другого военного суда. И я добавлю, что в этом смысле дело осталось навсегда незаконченным, как гноящаяся рана, которая никогда не заживет!
Баруа (неуверенно). Но это значило бы все начать заново.
Крестэй. Ну и что же!
Баруа. Однако есть ведь предел человеческим силам.
Крестэй. Вы думаете так же, как и я: вы довольно часто высказывались в этом духе в своем «Сеятеле».
Баруа, улыбаясь, опускает голову.
Тем более что представлялся прекрасный случай передать дело новому военному суду… Генералы, чьи недомолвки повлекли за собой осуждение Дрейфуса в девяносто девятом году, категорически опровергли, во время расследования в уголовном отделении суда, всю историю о документе с пометками кайзера! Достаточно было бы им повторить свои показания перед военным судом, и обвиняемого наверняка оправдали бы.
Люс. К чему препираться? Ваш пессимизм, Крестэй, чрезмерен – даже сегодня.
Баруа (вставая). Мы будто нарочно собрались здесь, чтобы беседовать, как разочарованные пятидесятилетние люди…
Зежер (показывая на газету, лежащую на земле, с коротким смешком). Сегодня наши надежды воистину развеялись в прах…
Все улыбаются.
Баруа подходит к Люсу проститься.
Крестэй (внезапно обращаясь к Баруа). Вы пойдете через Булонский лес? Я с вами…
Люс. Видите ли, все горе в том, что французский народ – это народ, который мало интересуется моралью, и вот почему. Уже много веков во Франции политике и выгоде отдают предпочтение перед правом. Придется перевоспитывать народ… Правда, мы не достигли нашей цели, но все же приблизились к ней, и рано или поздно достигнем ее. (Пожимая руку Крестэю.) И что бы вы ни говорили, Крестэй, век, начавшийся Революцией и кончившийся Делом, – славный век!
Крестэй (с грустной насмешкой). Это также и век лихорадки, утопии и сомнений, век скороспелых начинаний и неполадок. Рано еще давать ему оценку. Может быть, о нем скажут: век бутафории!
Аллея в Булонском лесу.
Теплый вечер.
Возбужденный Крестэй ускоряет шаг.
Крестэй (доверительно). На людях, вы видели, я горячусь, говорю увереннее… Но когда я остаюсь один, вот тут-то… Нет, мой дорогой, кончено: я не могу больше отделываться словами… Я слишком много видел и слишком хорошо знаю, что такое жизнь: ярмарочный балаган – вот что она такое! Добро, долг, добродетель – подумать только! Маскировка своих эгоистических инстинктов – вот что нас в действительности занимает. Мы – просто паяцы.
Баруа (взволнованно). Полноте, полноте, вы говорите ужасные вещи!
Крестэй (резко). Человек – таков, каков он есть. И я понял это только недавно. Я не просил жизни, особенно такой, какой она была у меня…
Баруа (прибегая к последнему средству). Разве вы сейчас не работаете?
Крестэй (разражаясь смехом). Да, мои книги! Из меня вышел прекрасный образец неудачника, а?… Искусство! Это всего лишь слово, как Справедливость или Истина: слова эти ничего не означают, они пусты, как червивый орех, и ради них я в восторженном порыве жертвовал всем. Искусство! Человек, этот жалкий калека, хочет что-то прибавить к природе, хочет творить. Творить! Он! Просто смешно!..
Баруа слушает его с сжавшимся сердцем: так внимают реву урагана, треску деревьев, завыванию бури…
Послушайте, друг мой! Если бы я начинал заново жить я бы уничтожил в себе честолюбие, я бы смеялся сам над собой до тех пор, пока не перестал бы верить во что бы то ни было! Я бы постарался любить жизнь только в самых скромных ее проявлениях: лишь они не переполняют невыносимой горечью, которую не в силах сносить человек. Подбирать мельчайшие крупинки счастья… только так человеку дается немного радости… прежде чем он умрет… ведь жизнь неизбежно кончается… ямой!
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.