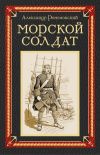Автор книги: Сборник
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
М.И. Скаловский. Воспоминания о Черноморском флоте. 1851–1855 гг.
Лазаревская школа воспитания, привитая трудами великого адмирала на Черноморском флоте, основывалась на воспитании во всех флотских чинах благородного славолюбия, ответственности и инициативы, взаимного уважения и товарищеской любви. Свобода обращения начальников и подчиненных, немыслимая в то время в русской армии, воспитывала свободных духом людей, глубоко преданных своему делу. Эта внутренняя свобода формировала в моряках готовность и стремление к подвигу (ведь из-под палки героями не становятся), так ярко проявившуюся на севастопольских бастионах.
В 1851 году, имея 16 лет от роду, я был представлен к производству в черноморские юнкера. Производство мое задержалось надолго при тогдашних путях сообщения. Видя мое горе – не попасть в этот год в плавание – добрые люди посоветовали мне обратиться к начальнику штаба Владимиру Алексеевичу Корнилову и просить его взять меня на эскадру волонтером. На мою просьбу его превосходительство Владимир Алексеевич изъявил согласие и приказал мне перебраться на фрегат «Коварну», на котором адмирал имел свой флаг.
6-го июня наша эскадра вышла в море, и этот день был для меня знаменателен неожиданностью – на время всего плавания я был приглашен к столу адмирала. В памяти моей сохраняются и составляют хорошее, высокое воспоминание увлекательные и полезные беседы адмирала, продолжавшиеся не менее часа после каждой трапезы нашей. Темы бесед адмирала составляли разные рассказы из его кругосветного плавания, из многих морских сражений, как наших, в которых он участвовал, так и иностранных. Он подробно и ясно представлял слушателям портреты людей, полезная деятельность которых послужила к славе и величию России: Ушакова, Сенявина, Грейга, Головина, Крузенштерна, Кроуна. Интересны были также диспуты о состоянии и усовершенствовании флотов, их вооружения, управления и морских эволюциях судов. Легко понять, с каким вниманием слушали эти рассказы офицеры, приглашаемые к адмиральскому столу по заведенной очереди, и какую существенную пользу приносили нам эти беседы. Плавание наше продолжалось полтора месяца с заходом на несколько дней в порты Крыма и Кавказа для ознакомления с входами на рейды.
Второе не менее интересное плавание имел я летом 1853 года на фрегате «Кулевчи» под командой капитана 2-го ранга Степана Степановича Лесовского. С.С. Лесовский был командир очень строгий, взыскательный, но справедливый; он искусно, с замечательным тактом умел действовать на нравственный дух команды и в обучении достигал результатов, не прибегая к беспощадным наказаниям линьками и розгами, подобно многим командирам того времени, но сильно и разумно влиял на нравственный дух подчиненных. Команда его боялась, но любила и им восторгалась. Артиллерийские учения на фрегате были доведены до совершенства. Быстрая стрельба достигнута была не телесными наказаниями, а нравственными. Если какое-нибудь орудие действовало не с той быстротой, какую требовал Степан Степанович, то имена комендоров записывались на дощечках, и дощечки эти вывешивались на батарейной палубе, на общий суд всей команды. Мы, юнкера, слышали горячие диспуты комендоров, собиравшихся группами возле тех позорных табличек. «Я теперь знаю, – говорит кто-нибудь из комендоров, – как довести до пути мое орудие: бить прислугу у орудия – дела не поправишь, а 7-й номер заменю третьим, потому что у него левая рука плохо действует банником, и через то – задержка; попрошу батарейного командира переменить расписание, и тогда дело у меня на лад пойдет; Степан Степанович не будет меня бранить да срамить, и с этой таблички имя мое сотрется, да еще и поблагодарит при всех».
Однажды в темную ночь нас неожиданно окружили три парохода, и через шесть минут койки были связаны, уложены в сетки, орудия заряжены и вся команда на своих местах по-боевому, хоть и полуодетая. Окружившие нас пароходы тотчас же стали удаляться и легли на Константинопольский рейд. Во время погони надо было слышать воодушевленные разговоры команды в ожидании радостной встречи с турком: «Когда бы нам догнать, уж мы зададим им жару».
Приведу еще случай, как Степан Степанович воздействовал успешно на нас, юнкеров. На фрегате плавал монах Серафим. Дело началось с того, что к некоторым юнкерам отец Серафим благоволил – чаще приглашал к себе в каюту на беседу и пить чай. Нашлись между нами завистники – начали передразнивать его[161]161
Отец Серафим картавил.
[Закрыть]. Призвав нас всех к себе в каюту и не доискиваясь виновных, Степан Степанович сказал нам сильную, воодушевляющую, назидательную речь, подробно объясняя нам наше будущее назначение – что мы готовимся в скором времени быть офицерами – властными распорядителями русской силы, послушной церкви христианской и ее служителям, что мы не должны в команде подрывать и колебать авторитет духовного лица, а напротив, во всем поддерживать его, тем более ввиду ожидаемой в скором времени войны, что мы должны сознать и познать себя – свой долг – и не забывать, что служитель церкви нашей есть одна из самых главных и сильных пружин к повиновению, благонравию, тишине, к ретивому исполнению долга службы, действуя на людей своим примером. Читатель может представить себе, какое впечатление произвела на нас, юных, но пылких людей, эта речь. Скажу коротко, что мы вышли молча, не гладя в глаза один другому, как бы стыдясь себя, но в душе каждый представлял себя с львиным сердцем. Под влиянием таких поучений мы все и проводили время на бастионах Севастополя, где я пробыл семь месяцев на 4-м бастионе.
В июне 1853 г. старший выпуск юнкеров был произведен в мичманы, а 18-го ноября все они участвовали в Синопском сражении и были произведены в лейтенанты. Сигнал дивизионного командира вице-адмирала Павла Степановича Нахимова эскадре 1-го ноября 1853 г. мы выучили наизусть: «Война объявлена. Турецкий флот вышел в море. Отслужить молебен и поздравить команду».
Нахимов был популярен. Благотворное влияние на матросов Нахимова, Корнилова, Лесовского, Истомина и многих подражателей их тактики принесло во время обороны Севастополя зрелые плоды. Матросы обожали их и благоговели даже перед молодыми офицерами и тем воодушевляли нас, юношей, в эти тяжелые минуты перед лицом смерти на батареях многострадального Севастополя. Приведу бывший со мной случай, рисующий отношение команды к офицерам. Однажды ночью, стоя у орудия с семью матросами, слышим оклик часового: «Берегись, наша выстрелила!» Это означало, что с французской батареи был сделан выстрел в нашу сторону. Мы инстинктивно прислонились к траверсам, и слышу я, что на тот траверс, к которому прислонился я и три матроса, грузно села бомба – матросы упали ниц, я же скатился с платформы, упал ниц и для защиты положил руки на голову. Через 2–3 секунды разрывает бомбу, разваливает траверс, засыпает землей трех матросов; на меня же посыпалось лишь немного земли. Дым, шум и крики выскочивших из блиндажа восьмидесяти матросов. Моего приказания – отрывать засыпанных матросов – не слышно, а в толпе лишь громко раздается голос унтер-офицера Шишкова: «Где Митрофан Иванович, где Митрофан Иванович?» Нашед меня в толпе, он обнимает меня, целует: «Слава Богу, что вы живы, – говорит он, – не ушиблены ли вы?» Я приказываю отрывать скорее матросов, Шишков говорит: «Успеем еще», – а меня из рук не выпускает, говоря: «Слава Богу, что вы для нас живы».
…Придя на бастион мы учреждали между собой очередь; я и товарищ мой мичман Броневский состояли в одной смене и когда приходил черед нашего отдыха, то мы отправлялись на правый фланг бастиона, где, как казалось, реже падали неприятельские бомбы. Подойдем, бывало, к орудию и спрашиваем часового: «Часто ли здесь падают бомбы?» Всегда получался ответ: «Редко падают, можно заснуть». У меня была подушка, у Броневского – одеяло. Только хорошо расположимся на деревянной платформе под пушкой, лежим, обнявшись, грея друг друга, перестанем разговаривать, начнем дремать – как вдруг вблизи разрывает бомбу. Пожурим часового, а он непременно ответит: «Теперь, ваше благородие, больше не будут падать». Но мы уже идем дальше… Тот же ответ часового, и та же история. Переменим, бывало, несколько мест, пока крепкий сон не скует измученные нервы – тогда и бомбы нам не страшны, и холода не чувствуем.
Зато иногда, на рассвете, охватывало душу чудное чувство. Тихо, ни ветерка. Свет чуть пробивает тьму. Враги спят. Дремота одолевает, и сквозь сон слышишь – из лагеря пластунов-черноморцев несется прелестная мелодия утренней зари на их рожках, как чудная песня. Ни о чем не думаешь, хочется только слушать и слушать. В такие минуты забываются все невзгоды, и становится легко на душе.
(Морской сборник, 1901, № 10, с. 55–60)
Приказ капитана 1 ранга В.А. Корнилова. № 9 от 19 мая 1843 г.
Рекомендации по обучению матросов и унтер-офицеров будущего адмирала, начальника Севастопольской обороны Владимира Алексеевича Корнилова в то время, когда он еще командовал кораблем «Двенадцать апостолов», показывают, что на флоте никогда не увлекались муштрой, отдавая предпочтение воспитанию сознательного отношения к освоению воинской специальности.
Так как всякое искусство тогда только прочно вкореняется в ум и в память человека и тогда только может быть применено к разным обстоятельствам, когда обучение основано на рассуждении и понятии цели и назначении сего к нему относящегося, то я и рекомендую гг. дечным командирам и вообще всем, обучающим нижних чинов обращению с орудиями, в продолжение учений уделять часть времени на объяснение цели и назначения как самого орудий, так и всех приспособлений для действительной и скорой пальбы из него; для лучшего же уразумения требований моих прилагаю список вопросов комендорам и прислуге.
(Сборник приказов и инструкций адмиралов, с. 60)
В.И. Даль. Два лейтенанта
Записки автора знаменитого словаря, выпускника Морского корпуса Владимира Ивановича Даля рисуют любопытные портреты русских морских офицеров эпохи парусного флота.
…Иван Васильевич был старый лейтенант, один из тех, кто уже привык быть старшим лейтенантом на корабле. Средний рост, гибкий стан, большая живость в движениях и самоуверенность в осанке придавали ему приятную и приличную наружность; льняные волосы и такая же борода, чисто пробритая на подбородке и тщательно зачесанная по щекам; красное, загорелое лицо с голубо-серыми, острыми, яркими, нахальными глазами и с бровями льняной кудели придавали ему неотъемлемое прозвание белобрысого.
Иван Васильевич ходил козырем, с руками вразмашку или рассовав их по карманам, коих было у него множество; форма стесняла его на берегу, но в море он управлялся с ней по-своему: я не помню его на вахте, иначе как в куртке с шитым воротником, то есть в мундире с отрезанными полами и в круглой шляпе с низкой тульей. Если кисти рук и были заложены в карманы шаровар, то локти разгуливали на воле; голова привыкла закидываться на затылок; острый взор почасту обращался исподлобья вверх; ступни ног никогда не сходились, и пятка пятку не видывала. Иван Василевич стоял не иначе как расставив ноги вилами, подламывая несколько колени и даже покачиваясь на них, будто его подшибало зыбью.
Иван Васильевич был из числа тех старых моряков наших, которые прошли школу на английском флоте; моряки такого закала величались презрением ко всяким умозрительным сведениям, довольствуясь практикой, в которой, конечно, познания их были обширны, разнообразны и основательны. Никогда не забуду радушного просветления белобрысого лица Ивана Васильевича в минуту шквала, во время приготовления к шторму и тому подобному. Иван Васильевич был незлой человек, но по какой-то зачерствелой привычке обращался с командой более чем строго – жестоко. Никакие убеждения не могли отклонить его от этой крайне дурной, бесчеловечной привычки; он слушал в морском деле только одного себя и неизменных убеждений своих. Он опасался упрека в трусости, если бы уступил проявлявшимся иногда лучшим чувствам. Вот почему Иван Васильевич в тихую и ясную погоду являлся нередко на вахту, насупив брови; он скучал тихою, бездейственною вахтой; кипучая кровь его требовала деятельности, начинались учения и испытания разного рода, а за ними следовали неизбежные взыскания и расправа.
Другое дело в бурю: по мере того как небо замолаживало, постепенно заваливалось тучами, полдень начинал походить на поздние сумерки, прозрачный отлив яри-медянки и лазурика темнел на поверхности моря – по мере всего этого Иван Васильевич начинал свежеть, молодеть, оглядываться каким-то царьком, и лицо его теряло грубые черты. Брови подымались, чело прояснялось, лицо получало какое-то детское, прямодушное выражение; перемена эта была так разительна, что ее понимал бессознательно последний матрос, и команда бралась за дело без робости и страха.
Никогда не видал я такой тишины, как в вахту Ивана Васильевича. Сам он не терпел крика, долгих, обстоятельных командных слов и повторений. Вместо того, что Федор Иванович, о коем буду говорить ниже, командовал ровным и бездушным голосом: «На фока-брас, на марса-брас, на брам-брас, на грота-брас» и пр., Иван Васильевич живым, кипучим голосом без натуги кричал: «На брасы, на правую!», и моргнув, если нужно было, бровями своими туда, куда следовало броситься уряднику, он прибавлял вполголоса: «На отдаче стоять!» и вслед за тем раздавалось разгульное «пошел!», и мигом, летом перебрасывались все реи с одного галса на другой при общем молчании и одном только топоте и согласном пении свистков.
При неумолимой строгости к нижним чинам он, однако же, совсем иначе обращался с подвахтенными офицерами и гардемаринами: он не требовал от них ровно ничего, как только чтоб они ему не мешали и ни во что не вмешивались. Самолюбие его было так велико, что он всех младших честил прозвищем молокососов, признавал одну только пользу своей деятельности, одни свои знания и сведения, а на всех прочих смотрел со снисходительным презрением.
О быте семейном он всегда отзывался с таким презрением и такими словами, что нельзя и передать. И в то же время – какая противоположность – он знал на память и охотно и хорошо читал наизусть лучшие стихотворения английских и итальянских поэтов, любил их и восхищался ими, указывая на всю тонкость выражений, на всю прелесть этих созданий.
Обряды своей Церкви в море Иван Васильевич исполнял довольно часто, но до того бессознательно, что в это время нисколько не прерывал обычного течения мыслей и чувств своих, продолжая беседовать для приличия вполголоса. Церковная служба в море составляла для него часть морского устава и потому, по понятиям его, требовали строгого исполнения; на берегу же он считал себя свободным даже от этого внешнего послушания. Иван Васильевич кроме Морского устава не признавал над собой никаких законов, ни божеских, ни человеческих, а исполняя Устав, заканчивал этим все расчеты свои по обязанностям к Богу, Государю и ближнему. Все остальное было его, во всем была его воля, и он делал, что хотел, ничем не стесняясь.
Самой разгульной мечтой Ивана Васильевича был поединок двух фрегатов: русского и английского, причем, разумеется, первый состоял под его начальством. Он приходил в исступление, описывая это событие с такой подробностью, с таким знанием дела, что у слушателей занималось дыхание. Он требовал для этого хороший фрегат, офицеров, которые бы не ссорились между собой, а команду какую угодно, все равно, и год практики в море. «Годик в море, – говаривал он, – и я черта выучу, коли отдать его под мою команду. Мне чужой науки не надо; я слажу и сам; год в море – великое дело; всякого можно приставить к своему месту и делу, вся команда свыкнется и обживется».
– Чуть свет, на исходе шестой склянки, – продолжал Иван Васильевич, сверкая серыми глазами, – меня будят. Вскакиваю, выбегаю с трубой… вскинул трубу – так, англичанин; его знать по осанке. Это передовик. Бить тревогу; очистить палубы; готовиться к делу; по два ядра в пушку; осматривать горизонт – не появятся ли еще где паруса. – Спускайся: держать прямо на него. А, вот и другое судно, это товарищ его, кажется, бриг… бриг и есть, но он милях в 15 под ветром; быть не может, чтобы фрегат, чтобы англичанин уклонился от боя, а бриг опоздает: останутся одни щепки. Неприятель поднял английский флаг – ядро у нас перебило ванту – констапель говорит, что настоящая мера. просит позволения. скажи констапелю, что я его посажу в трюм, коли будет рассуждать: полкабельтова моя мера, не сметь палить до приказания. Неприятель лежит на правом галсе: держи под корму, подходи на кабельтов, приводи вдруг лево на борт – залп: кто навел, пали! Право на борт! Спускайся под корму! Залп правым бортом, да продольный, наискось. У англичанина стеньги полетели, рулевую петлю своротило да зажало крюком, и руль стоит, как вкопанный, дурак дураком. приводи, лево на борт – валяй по два ядра! Фрегат валит прямо на нас. подай его сюда! Абордажные! Готовься – за мной.
– Да вы забыли свой-то фрегат, – заметил кто-то посреди шумного одобрения, – что на нем делается. Ведь неприятель палит не подушками, а такими же ядрами.
– Ну так что ж, – отвечал Иван Васильевич, заложив руки в карманы, – что ж из этого? Нас с вами выкинули за борт, может статься, и по частям, а место, где вы стояли, подтерли шваброй – вот и все.
[Иван Васильевич], вовсе не будучи честным, потому что как-то не знал этой добродетели и не ценил ее, был однако же, весьма не корыстен и никогда не пользовался какими-либо непозволительными доходами, менее же всего – за счет команды. Жадность и скупость, даже несколько тщательная бережливость в его глазах были пороки презренные; зато всякий порок, согласный с молодечеством и похвальбой, слыли в понятиях его доблестями.
При таких свойствах Ивана Васильевича почти все командиры за ним ухаживали и просили о назначении его к ним. С таким старшим лейтенантом на фрегате командир мог спать спокойно и избавлялся от большей половины забот своих. Правда, что командир, положившись на него раз, в нем не обманывался: вооружение, обучение команды, управление парусами – все это было в самом отличном порядке; но команда терпела от непомерной взыскательности, от жестокости своего учителя и нередко гласно роптала. Поэтому было несколько командиров, предпочитавших офицера, может быть, не столь опытного и решительного, но более рассудительного и добродушного.
Этот другой был Федор Иванович. Головой выше первого, статный и видный собой на берегу, с мягкими чертами лица, он на шканцах много терял рядом с Иваном Васильевичем и сравнительно с ним казался несколько робким и малодушным. Позже, будучи сам командиром, он был в деле и доказал, что внешность обманчива; все отзывались о нем с уважением.
Товарищи дружески называли Федора Ивановича подкидышем Морского корпуса: овдовевшая мать его привезла в Петербург, и притом, – по каким-то бестолковым уверениям приятелей – прямо в Корпус, где не было свободного места, и он не мог быть принят. Она слегла в ту же ночь и скончалась в беспамятстве на каком-то постоялом дворе. Что было делать с бедным подкидышем? К счастью, бумаги его уцелели, и он был принят в Корпус круглым сиротой.
Федор Иванович был высокого роста, темно-рус, сероглаз, с каким-то добродушной морщиной между щек и губ. Эта черта поселяла доверие в каждом, кто глядел ему в лицо. У Ивана Васильевича руки были только навешены на плечах и болтались свободно; у Федора Ивановича они были почти на заклепках и не двигались без надобности. Федор Иванович не решался также расставлять ноги свои вилами, хотя это при качке удобнее, а стоял всегда твердо на одной ноге, подпираясь другой.
В беседе Федор Иванович был очень приятен, но скромен и тих; зато на шканцах я не слыхивал такого неугомонного крикуна. Иван Васильевич почти не брал в руки рупор; Федор Иванович, напротив, не выпускал его из рук, хотя и командовал обыкновенно своим голосом.
Прокричав командное слово, он продолжал тем же голосом понукать направо и налево, повторял команду, бранился и ругался на чем свет стоит, бегал суетливо взад и вперед с возгласами: «Что это? Это что? Мордва! Литва!» Со всем тем Федор Иванович знал свое дело отлично, обходился с командой умно и рассудительно, вел подчиненных прекрасно, умел занять каждого и приохотить к делу. Если насмешники и говорили о нем, что клетневка, остропка блоков и оплетка редечкой концов были главным предметом его занятий, то это доказывало только, что Федор Иванович не пренебрегал и этими мелочами, весьма важными в быту моряка, потому что знал все эти работы сам не хуже всякого боцмана.
Богомольный не по обязанности и уставу только, а по чувству и потребности, ровный и терпеливый в обращении, честный и добросовестный в отношении к товарищам, твердый в слове, благородный в поведении, Федор Иванович, будучи о семейной жизни противоположного мнения с Иваном Васильевичем, он охотно мечтал об этом состоянии как о цели всех надежд своих и служебных трудов. Жена по мыслям, свой домок, свой уголок, свой укромный садик, в котором роются ребятишки, как кроты, – кто этим не прельстится. Но какими путями бедному подкидышу Морского корпуса достигнуть блаженной мечты! Сквозь мрак ночной вахты и сквозь туман утренней он видел в конце своего поприща уютное местечко при порте: поставки, подряды, сделки, свидетельства годного и негодного, расчеты и недочеты – вот чем играло скорбное воображение Федора Ивановича и что утешало безотрадную будущность его.
Он поговаривал об этом, не скрываясь, беседовал с товарищами откровенно, не чая в этом ни греха, ни неправды. Он прибавлял еще к этому: «Что делать, ведь в нашем быту семьи не обеспечить; экипажные командиры все сами строят, всем сами заведуют; наш брат ротный командир только для славы числится начальником, а доходов нет».
Нравы Ивана Васильевича и Федора Ивановича, как вы видели, были не только несходны, но почти противоположны; два человека эти даже как моряки не походили друг на друга, хотя каждый из них и был отличный, прекрасный моряк.
(Морской сборник 1857, № 2, с. 201–215)
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?