Текст книги "Евреи"
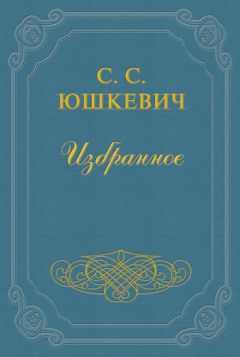
Автор книги: Семен Юшкевич
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
9
Теперь Мейта проводила дни, как во сне. Время ее по-прежнему проходило в труде, но в душе она переживала что-то нежное, блестящее, и минуты проходили, сотканные из порывов. Она просыпалась с улыбкой, улыбалась комнате, двору, и все милые образы, которые были ей так дороги, целый день окружали ее.
Казалось ей, – лишь только она скажет Нахману о своей любви к нему, и он ответит ей тем же, протянутся нити к родине, к Дине, и сотворится мост для перехода евреев на родину, где они будут счастливы и свободны.
Все девушки превратятся в работниц, рассыплются по полям, и жизнь станет пляской радости. Каким-то непостижимым чудом все, что она переживала, претворялось в любовь, и как в реке нельзя отличить образовавшие ее воды, так и она не знала теперь, какой любовью любит Нахмана, какой родину, Дину…
К Дине ее неудержимо влекло, и, разговаривая с Нахманом, она часто упоминала о ней.
Она представляла ее себе страдающей и непреклонной и хотела бы отдать себя всю на служение ей. И оттого, что чувствовала себя недостойной заговорить с ней, готова была пасть ниц, лишь бы Дина ее заметила, ободрила…
Часто вечером она подстерегала Фейгу, мечтая что-нибудь разузнать о Дине, и была недовольна холодностью Фейги к сестре.
– Если бы у меня была такая сестра, – сказала ей однажды Мейта, – я не отходила бы от нее.
Это было в конце ноября, вскоре после того, как старуху Симу подобрали на улице, сбитую с ног пьяным тачечником. Девушки сидели в комнате Нахмана, и Фейга торопилась, чтобы тот не застал ее.
– Некогда, Мейта, – ответила Фейга. – Мы любим Дину, но нам некогда показывать любовь. Вот осень прошла – монотонно продолжала она, – и зима гонит из фабрики на улицу, из улицы на фабрику. Мать все не встает, и ноги ее остаются толстыми, как бревна. Корзины лежат на печи, и когда она смотрит на них, то плачет.
– Конечно, – нетерпеливо возразила Мейта, – веселого в жизни мало. Но Дина – солнце…
– Солнце, – все так же монотонно повторила Фейга, – но нас и солнце не согреет. Когда посидишь в комнате, где мать лежит на одной кровати, а Ита, теперь опять забеременевшая от какого-то мальчика, на другой, и подумаешь, как они обе мучатся, то и о себе забудешь. Обе говорят, кричат от злости, ругаются, плачут… И голод сидит с ними, как живой.
Мейта уже молчала. И казалось, то были слова из книги зла, которые произносила девушка.
– Если бы не я, не Фрима, – продолжала Фейга, – они давно умерли бы с голоду. А ночью на улице уже прохода нет от девушек. И злишься на них, что отбивают хлеб.
– Это страшно, – бормотала Мейта с гримасой, как будто ее ударяли.
– Привыкнешь, Мейта, – с спокойным унынием отозвалась Фейга, и в этом был ужас. – Оно придет и к тебе, как самый верный друг. Оно отыщет дом, где ты живешь, твою квартиру, постучит тебе в окно, и ты выйдешь. Если зима не вытолкнет, весна заманит. И толкает, и тянет, Мейта…
Послышались шаги Нахмана, и Фейга стремглав выбежала из комнаты.
– Ну, вот я и свободен, – произнес он усталым голосом – Добрый вечер, Мейта! Что теперь делать?
Он, не раздаваясь, уселся, а Чарна, выглянув на него из двери, скрылась опять у себя в комнате…
Днем Нахман сидел с Даниэлем в трактире, после того как распродал торговцам остаток товара, и, поделившись с ним деньгами и выглядывая из окна на ряды, говорил:
– Мне Шлойма предсказывал, Даниэль, что так кончится. Не горюйте, товарищ, может быть, весной мы снова начнем торговать.
– Да, – ответил Даниэль, силясь улыбнуться, – зима таки отрезала голову. Мы, правда, продержались до ноября, и это отличное утешение. Ведь четверть разбежалась еще в начале октября…
– Торговцем нужно родиться, – упорствовал Нахман.
– Не будем спорить, – согласился Даниэль. – Передайте-ка мне чайничек. Теперь у меня одно осталось: продержаться до весны, а там уехать. Нас четверо с детьми, и все будем работать… на родине. Только бы добраться до тех, которые помогают уехать отсюда.
– Что же вы будете делать всю зиму? – мрачно спросил Нахман.
– То же, что и вы, – то же самое. Немного поголодаем, немного выпросим, немного заработаем… Поверьте, я не думаю об этом. Только бы не свалиться от болезни и найти тех, кто бросит добрый взгляд на мою семью. И «там» я всегда буду молиться на них.
Нахман не ответил, и они долго сидели задумчивые, потрясенные несчастьем, которое предвидели и ждали со дня на день…
– Теперь я вам надоем, Мейта, – ласково произнес Нахман, пожалев девушку, которая не поднимала головы от печали. – Но не хороните меня, – я, может быть, отыщу что-нибудь другое.
– Мы не гоним вас, Нахман, – раздался в соседней комнате голос Чарны. – Живите пока! Вы думаете, я жадная? – послышался ее смех, добрый, тихий, долгий… – Ваше положение теперь напоминает мне положение одного торговца с яблоками в тот день, когда у него украли корзины, и он не знал, что ему делать с яблоками.
– Не печальтесь, Мейта, – шептал Нахман, – в жизни ко всему нужно быть готовым.
– Мы не жадные, – повторила Чарна, показываясь на порог. – Мейта работает руками, я ногами… Живите пока у нас.
– Хорошо, Чарна, я не забуду вашей доброты.
– Ай, ай, – смеясь, выговорила она, – доброта! Вы это сказали, как одна птица, когда хозяин отнял у нее пшеницу, которую она собиралась съесть… Доброта! Нужно быть добрым, Нахман, истинно добрым! Я только и живу, когда я добрая. Тогда я как-то делаюсь выше, шире…
– Слышите, Нахман? – шепнула Мейта, с восторгом глядя на старуху.
– Когда мне становится худо, я только доброй и делаюсь. Я потеряла рано мужа, я плакала, и мне казалось, что солнце потухло, но я была доброй, доброй… Я потеряла троих детей, я плакала, но я была доброй, доброй… Что скажете, Нахман? Вы бы подумали, что я похожа на того несчастного извозчика, который целовал лошадь, когда та отказывалась везти…
Она опять вышла из комнаты, и долго еще слышался ее голос, ее смех, ее шепот.
– У вас хорошая мать, Мейта, – проговорил Нахман, безотчетно радуясь чему-то.
– Ее все любят, – серьезно сказала девушка, – я хотела бы быть похожей на нее.
– Вы тоже такая, – начал он и оборвался, заметив, что она покраснела.
– Я скажу ему, – думала Мейта, не поднимая глаз, – я скажу ему…
А Нахман уже рассказывал ей о Даниэле, о том, что он собирается весной уехать, и Чарна, слушавшая в другой комнате, кивала недовольно головой.
– Все это уже было, – произнесла она, появляясь в комнате. – Есть хорошенькая история…
И она щурила глаза, и беззубый рот ее умно улыбался, и она говорила, а Нахман, едва слушая, смотрел на Мейту и думал о своем.
Прошло несколько дней. Начались снега, и теперь горы его лежали во дворе и напирали на окна… Нахман сильно скучал и не находил себе места. Старуха Чарна искала для него работы, но бесплодно.
– Пойду к Шлойме, – сказал он себе как-то в одно утро.
Шлойма уже знал, что произошло с Нахманом, и встретил его восклицанием:
– Ага, Нахман! – произнес он. – Садись где-нибудь. Помнишь, я тебе предсказывал?
Нахман поискал места, оглянулся и спросил:
– Отчего же я не вижу Леи?
– Она у соседки. Рассказывай. А что Даниэль?
– И рассказывать не о чем. Сам не понимаю, как я продержался до сих пор.
– Я видел все, как на ладони, – серьезно произнес Шлойма, – но ты все-таки должен был попробовать. Здесь потерял, – в другом выиграешь.
– Я не жалею об этом. Для себя найду что-нибудь. Даниэля жалко. Теперь он задумал уехать…
Шлойма одел очки и внимательно посмотрел на Нахмана.
– Ты не смеешься? – спросил он.
– Конечно нет, Шлойма.
Старик замолчал, огорченный…
– Да, едут, – с сожалением выговорил Шлойма, точно ему трудно было признаться, и он не хотел солгать… – Это не горячка, но едут. Куда ни обернешься – видишь повозку, а из квартир выносят вещи бедняков. Да, да, не горячка, не лихорадка, не кричат, не шумят, но едут. Куда? Кто знает? Как будто на границе стоит большой друг и манит рукой…
– Ну вот, – произнес Нахман внимательно вслушиваясь, – вы сами говорите.
– Хотел бы кричать, Нахман, но кто послушает? Реку не остановишь, когда она разливается, и если даже уносит самое драгоценное для тебя.
– Я понимаю вас, – с жаром выговорил Нахман.
– Нет, нет, ты не понимаешь… Оно так трудно. Я смотрю на несчастную жизнь… Как лес, в воде разбухший и уже гниющий, – так вижу я людей. Но увозится и молодое вино в старых мехах, хочу я крикнуть, и крик мой обрывается.
– Что же делать, что делать? – шепнул Нахман.
Старик сидел, подняв очки на лоб, и в глазах его бегал огонь.
– Пусть слабые уходят, пусть сильные останутся, – выговорил он. – Пусть уйдет тот, у кого больная жена, больной ребенок, пусть уйдет несчастный и немощный, пусть уйдет калека и нищий, пусть уйдет тот, кто слаб умом, слаб сердцем… Но уходят наши надежды, наше воинство. И крик мой обрывается…
Нахман сидел, насупившись, и мучительно работала его мысль.
– Вернемся к тебе, – произнес, наконец, Шлойма, выходя из задумчивости, – что ты теперь думаешь делать?
– Скажите вы, Шлойма. Какое несчастие, что я не знаю ремесла.
– Ремесла? А почему бы тебе не поучиться у Хаима, пока ты ходишь без дела.
– Как вы сказали? – с волнением спросил Нахман.
Что-то блеснуло перед его глазами. Будто он стоял у стены, и вдруг стена раздалась, и открылся широкий путь.
– Отличая мысль, – пробормотал он. – Не понимаю, как это мне в голову не пришло?
– Что поделывает Мейта? – с улыбкой спросил Шлойма.
– Мейта? – Он покраснел. – Работает… Вы думаете, Хаим согласится?
– Конечно, согласится. Будешь чай пить? Ну, так возьми чайник и принеси кипятку. Не там, не там ищешь. Вот тут за печкой стоит чайник.
Нахман принес чай, и оба уселись за стол. Они опять заговорили, но уже об упадке дел, о безработице, и Шлойма постепенно раскрыл ему весь ужас, который принесла зима беднякам. Люди голодали, болели, и глядя из окна на чистый снег во дворе, такой белый и невинный, никогда нельзя было догадаться, что мучительные страдания были вызваны им. Они просидели долго в разговорах и расстались дружно.
Теперь Нахман так привык к Шлойме, что все время проводил с ним. Он уходил к нему с утра, и по целым дням они рассуждали о жизни, о том, что происходит в окраине, и опыт Шлоймы, как живая книга, учил его. Иногда они посещали Натана в больнице, и в немногие часы бесед все трое сближались теснее, и что-то новое, никому в отдельности раньше неизвестное, открылось каждому, Натан оставался в том же положении, но еще больше укрепился в своей мысли о необходимости приспособлена к страданию, был терпелив к своей болезни, спокойно ждал смерти и красноречиво говорил о своем счастье, что познал истину. Шлойма горячо спорил с ним, Нахман с обоими, и все втроем переживали что-то невыразимо прелестное, свежее.
– Вчера у меня был Хаим. Я с ним говорил о тебе. Он согласен выучить тебя набивать папиросы, а весною сможешь поступить на фабрику.
В тот же вечер Нахман, расспросив у Чарны, – она была Хаиму дальней родственницей, – куда Хаим выбрался, отправился к нему. Когда он завернул в переулок, где тот жил, то очутился в длинном проходе, шириною в три шага.
– Я никогда не знал об этом переулке, – подумал Нахман, зажигая спичку, чтобы отыскать дорогу в глубоком снегу.
Двухэтажные здания, ветхие, серые, были так близки, что от малейшего ветра грозили упасть друг на друга. Они протянулись далеко, а в конце переулка, как свеча, горела керосиновая лампа в фонаре.
Нахман все зажигал спички и, сердясь на ветер, который тушил их, с трудом добрался до узеньких ворот дома и зашел во двор. Там, увязая в снегу, он долго бродил, пока натолкнулся на живое существо, которое хриплым голосом прокричало ему, что Хаим живет в середине внутреннего флигеля, и что черт бы побрал незнакомых людей и чахоточных соседей… Нахман поднялся по узенькой лестнице и употребил силу, чтобы открыть примерзшую к раме дверь.
– Это ты Хаим? – послышался тихий женский голос.
– Нет, не Хаим, – ответил Нахман. – Я сам пришел к нему. Скоро он придет?
– Зайдите и закройте дверь. Кажется, вы Нахман?
Нахман вошел в комнату и на ходу произнес:
– Да, Нахман. Я был у вас, помните?.. У меня дело к Хаиму.
Теперь лишь он оглянулся, и тяжелая тоска сейчас же охватила его. На железной кровати лежала Голдочка, жена Хаима, и черты ее лица так изменились, что Нахман едва узнал ее. Щеки у нее горели, а скулы и верхняя челюсть придавали ей такой суровый вид, что чувство жалости мгновенно сменялось страхом. Комната имела форму маленького ящика, и сырость стен и тяжелый запах табака делали воздух удушливым, раздражающим. На столике лежала горка табаку, покрытая мокрой тряпкой. Чуть тлела зола в казанке.
– Садитесь, – медленно, с одышкой выговорила Голдочка. – Я вас сразу узнала, – она улыбнулась от радости, что память не изменила ей. – Хаим пошел за гильзами. Сядьте поближе.
Он пересел и, чтобы утешить ее, сказал:
– Вы лучше смотритесь, чем тогда, когда я был у вас. Честное слово! Как вы себя теперь чувствуете?
– Вот и вы обманываете, – печально сказала она. – Все обманывают Голдочку. Я ведь изменилась? Можете говорить правду, я не боюсь. Голдочка не боится. Я, слава Богу, видела смерть, – все ведь тут так кончают, – и привыкла. Можете сказать правду. Вот слава Богу, что у нас детей нет…
Она отпила чай из стакана, который стоял тут же, на стуле, и оправилась.
– Что у вас слышно? – спросила она. – Вы, кажется, торговали в рядах?
Ей становилось все приятнее с ним. Ее так редко посещали теперь, и она страстно тосковала по улице, по людям… И то, что с ней сидел свежий, новый человек, что у него были широкие плечи, цветущее лицо и громкий голос, доставляло ей большое наслаждение.
– Да, торговал, – ответил Нахман, закашлявшись, – но теперь разорился. Ряды не кормят.
– Вот как, – удивилась она. – Правда, мы всегда с Хаимом думали, что ремесло лучше торговли, и только одного понять не могли, почему Хаим стал папиросником. Может быть, на других фабриках не лучше, – я ведь видела жизнь, – но хуже нашего ремесла не может быть. Вы чувствуете воздух? Табак ложится на грудь и съедает ее.
– Человек никогда не знает, где упадет, – возразил Нахман. – Вот и я попался. Я потерял половину здоровья за эти полгода в рядах. Не пугайте меня фабрикой. Разве Хаим вам не рассказывал, о чем Шлойма с ним говорил?
Она испуганно посмотрела на него, а он, улыбаясь ее страху, тихо повторил:
– Не смотрите так на меня, я могу отказаться работать с Хаимом, и тогда не знаю, что со мною будет.
– Я не мешаю вам, – с грустью выговорила она, – но посмотрите на меня. Я не смотрюсь в зеркало, – это ведь трудно вынести. Я была здоровой, свежей, – красная, как яблоко, когда вышла за Хаима. Он был уже тронут табаком. Да, тронут, это правда. Но я любила… Мы сняли одну комнатку, и, кажется, если бы ангелы там жили, – не могло быть лучше. Он зарабатывал тридцать рублей в месяц, – и я стала хозяйкой. Но скоро цены начали падать… Хаим из кожи лез. Спрашиваю, – кто сидел бы сложа руки? И я принялась помогать ему. Посмотрите, что сделалось со мной за пять лет…
– Но что же мне делать? – упрямо настаивал Нахман. – От болезни нигде нельзя уберечься.
Она замахала руками и с ужасом в голосе стала рассказывать о жизни рабочих-табачников. Все болели чахоткой, грудными болезнями, все бедствовали, дети погибали рано или позже, отравлялись табаком…
– Тут такие несчастия, – говорила она, – что лошадь свалилась бы! Вот я вам расскажу… Недавно взяли в больницу товарища Хаима, Лейбу, в последней чахотке. Через неделю слегла жена его, – она тоже была чахоточная, – пришлось и ту отправить в больницу. Дети остались на руках девятилетней девочки. Вчера умерла мать, а накануне Лейба, и оба так и умерли, ничего не зная друг о друге… Даже проститься не удостоились…
Она вдруг и совершенно неожиданно заплакала, и от ее слез у Нахмана, как будто наступили на него, сжалось сердце.
– Не плачьте! – попросил он…
Она лежала неподвижно, как ребенок, и продолжала плакать.
– Нам ни в чем не везет, – произнесла она сквозь слезы. – С фабрикой не везло, с лейпцигским билетом не везло, со здоровьем не везло… И отчего нам не везло? Мы все делали. Мы работали, недоедали, недосыпали, все готовились к лучшему и никогда не жили.
– Так, так, – качал головой Нахман.
– С каждым днем становится труднее жить. Народ приезжает со всех сторон и сбивает цены. Дошло до того, что с неохотой платят тридцать копеек с тысячи. Теперь, говорят, есть уже машинки для выделки папирос… Вы слыхали об этом? Вот болезнь мучит, – но когда вспомнишь, что ожидает нас дальше, то и ей радуешься… Кто это там? Кажется, Хаим. Да, да, это он…
Нахман обернулся. Дверь уже была открыта, и в комнату входил Хаим. Он тяжело дышал и отдувался.
– Добрый вечер, Хаим! – произнес Нахман.
– А, Нахман, – обрадовался Хаим, – откуда вы приехали? Добрый вечер!
Он положил гильзы на стол и стал, снимать пальто.
– Кто бы мог подумать, Голдочка, – произнес он, – что придет Нахман. Какой сегодня праздник у нас? Когда человек отправляется раз в год в гости к приятелю, он говорит себе: пусть сегодня будет праздник, я иду к приятелю.
– Вы угадали, – засмеялся Нахман, – у меня уже больше месяца праздник.
– Да, да, мне Шлойма рассказывал. – Он сел. – Попали уже в колесо?
– Я хочу попасть в другое, Хаим…
– И об этом знаю. Чай еще горячий, Голдочка? Поработайте со мной. Если идти не спеша на тот свет, – не все ли равно, придешь ли туда табачником или торговцем? Земля принимает всех без разговоров… Даже приятнее висеть над ямой и покуривать.
Нахман рассмеялся, хлопнул Хаима по колену и весело сказал:
– Вы остались тем же шутником… Честное слово, вы славный человек, и я с радостью буду работать с вами! Немножко жира только не хватает вашему телу. Вы похудели, Хаим…
Голдочка сделала ему незаметно знак. Нахман смутился и пробормотал:
– Конечно, я говорю, вы похудели, но это потому, что я сравниваю вас с собою. Вот если бы вы были таким здоровым, как я…
– Да, – говорил Хаим, поставив стакан на стул и блуждая глазами по комнате, – похудел. Все похудели. Теперь, кого ни встретишь, сейчас подумаешь: он похудел. Куда это человеческий жир уходит, Нахман? Ребята говорят, что знают. Вы говорите, что в полной руке нашего хозяина лежит мой жир? Вы не смеетесь, Нахман?
– Это – пустяки, – пробормотал Нахман.
– Ну, не говорите! В каждой правде есть немножко лжи, вот как в лейпцигском билете. Выиграть может, а обманывает… Я, право, завидую вам, Нахман. Вы здоровый парень, у вас нет билета, который не выигрывает…
– Вы еще выиграете, Хаим, – утешил его Нахман.
– Слышишь, Голдочка? Я тоже говорю. Тогда позову десять докторов, пошлю Голдочку в деревню, и она станет полненькой, как была. Возьму ей ребенка у какой-нибудь несчастной женщины, и она станет матерью.
Он начал фантазировать на тему о выигрыше, и как будто сами стены обрадовались, – так стало приятно от его мечтаний.
Голдочка недолго боролась и, раскрыв глаза от наслаждения, слушала чудную повесть о будущей жизни.
– Я вам говорю, – настаивал Хаим, красный от волнения, – что это одна, но крепкая надежда. Все обманет, только не билет. Жизнь скучна, как проклятая ночь. Детей нет, здоровья нет, хлеба нет… Кто думает о нас?
– Конечно, – поддержал Нахман, – никому до нас дела нет.
– Раскошелится ли богач для Хаима? Ведь такой Хаим, как я, ему нужен больше, чем он мне. Я не во всем согласен с нашими ребятами, но тут они правы, как святые. Наш хозяин ездит в карете, а ведь только кажется, что он в карете сидит. Это он на нас ездит, и мы уже знаем, как из нашей крови, из наших сил сделал так, чтобы карета казалась хозяйской. Если он подумает обо мне, что будет с его каретой? И спрашиваю вас, на что же мне, чахоточному, с чахоточной женою, надеяться, хотя ребята и хорошие и хотя жизнь понемногу и двигается к лучшему?
– Хаим, – перебила его Голдочка, – дай Нахману чаю!
– Я ему дам чай… А с билетом живешь так, будто высунулся из окна и смотришь, идет ли уже тот, кого ждешь. И ночью снятся марки, деревья, ребенок…
Он засмеялся от радости, и Голдочка и Нахман вторили ему.
– Право, – прибавил, он, – без этого жить нельзя. Здесь бывает так, что даже из пальцев текут слезы. Теперь ей легче, моей Голдочке…
Он достал чайник и налил Нахману в стакан.
– Посидите и напейтесь чаю, – сказал он, – я уже ночью буду работать.
Он перенес стол к кровати, отодвинул табак, переставил лампочку, чтобы было светлее, и все начали дружно разговаривать о делах, о знакомых, о фабрике, о намерении Нахмана, и он очень поздно ушел от них…
Теперь Нахман подвигался по пустынным белым улицам, весь под влиянием этих добрых людей, и безотчетно радовался, в предчувствии чего-то славного, крепкого, что поставит его твердо на ноги.
И мысли тянулись у него легкие, как после большой усталости, и думалось о Мейте, которая, – он знал, – поджидала его.
– Она не спит, – говорил он себе, более довольный, – я обрадую ее.
Когда он вошел в темную комнату и стал искать спичек, до его ушей донесся шепот, и он не сразу узнал голос Мейты.
– Это вы, Мейта? – тихо спросил он, почувствовав, что дрожит.
– Я, Нахман… Фрима поступила в «дом», Симу едва спасли…
– Кто вам сказал? – с ужасом спросил он.
– Фейга, – шепнула Мейта. – Фрима в «доме» со вчерашнего дня. Ее уже видели.
– Дина знает?
Он нашел в темноте ее руку и невольно сжал ее. Мейта не ответила, и оба стояли без слов, погруженные в страх.
– Я боюсь, – шепнула вдруг Мейта, легонько притягивая его к себе, – как я боюсь!
– Чего вам бояться, – тихо говорил он, усаживаясь на кровать, – я ведь здесь! Я ведь здесь, – машинально повторил он, усаживая ее рядом с собой.
Они опять замолчали, все более волнуясь оттого, что были так близки в темноте. И как будто что-то лучезарное, прекрасное таилось подле них и теперь не могло уже прятаться, – счастье раскрылось. Мейта вдруг обняла Нахмана и испуганно шепнула:
– Я уже не могу, Нахман, я люблю вас, люблю! Я боюсь, – я люблю… Не сердитесь! Я не буду вам в тягость, я буду работать, работать…
Нахман слушал, и кружилась его голова. Теплые слова, чистые, добрые, после ужаса согрели его душу, и, не отвечая, он нежно прижимался к Мейте, ожидая ее признаний.
– Весной мне будет шестнадцать лет, – шептала она. – Я поступлю на фабрику… Я буду работать, помогать вам… любите меня!
И когда, отдавшись своей радости, он отдал ей душу и стал целовать, она с трепетом спросила:
– Вы еще любите Неси? Вы любите?
И он отвечал ей, кивал головой, обнимал ее, и они сидели до утра, пока бледный свет дня не разогнал их…
Они пьянели от счастья.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































