Текст книги "Пётр и Павел. 1957 год"
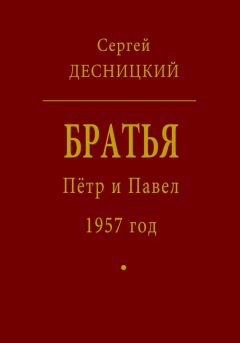
Автор книги: Сергей Десницкий
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 60 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Слова вылетали из его уст легко и бездумно. Звенящий голос и бодрый тон Януарьевича были всем так знакомы, а шаблонные фразы и лозунги настолько обрыдли, что колхозники откровенно затосковали и уже слушали оратора в пол-уха. Всех охватило привычное тупое оцепенение, и народ был готов с ним тут же и во всём согласиться, только заканчивал бы он молоть языком поскорее. А не то ведь, ей Богу! – невмоготу.
И вдруг!..
Что он сказал?..
Или мы ослышались?..
Не сразу дошёл до сознания людей смысл только что сказанного бодрым интеллигентом.
– Как?!.. Как?!..
– Ну-ка, повтори!..
– Мы чего-то не поняли.
– А тут и понимать нечего, всё элементарно, товарищи: решением исполкома районного Совета Депутатов трудящихся ваша церковь объявляется памятником архитектуры и передаётся в ведение Комитета по культуре, то есть как бы собственно мне, – и очкарик коротко хохотнул.
– Погоди, погоди!.. Зачем передаётся?
– В какое такое ведение?..
– И не нужен нам никакой памятник…
– Как же это, братцы?.. А?..
– Храм порушить решили…
Януарьевич опять рассмеялся, но как-то уже не очень весело.
– Можете не беспокоиться, товарищи, мы ничего ломать не собираемся. Наоборот, выделим средства и церковь вашу отремонтируем. Увидите, краше прежнего станет.
– А на что нам краше?..
– Во всём районе благолепней храма не сыщешь!..
– Нам он и такой люб!..
– А про средства это мы уже слыхали. Сколько этих самых средств нам на клуб выдали?..
– В самый раз хватило, чтобы двери да окна досками заколотить!..
– Вот тебе и все средствия!..
Народ разволновался не на шутку.
– Тише!.. Тише, товарищи!.. Про клуб с председателя колхоза спрашивайте, подобные мелочи – это его забота. А мы сейчас, согласитесь, не о том говорим…
– Стыдись, Михаил!.. – резко, свистящим шёпотом оборвала Януарьевича товарищ Рерберг. – Что ты перед этой шантрапой на цыпочках прыгаешь?!.. Мы с тобой как договаривались? Покончить с этим делом быстро и решительно, а ты сопли размазал, нюни распустил. Одно слово – интеллигент!.. С комсомола пример бери! У Никиты Сергеевича учись!.. – щёки Никитки заалели, он готов был заплакать от гордости и смущения. – Товарищ Коломиец, выручай хоть ты, а то культура наша в который уже раз слаба в коленках оказалась.
Януарьевич обиделся и, потупившись, концом шарфа, что свисал с его тощей шеи, стал протирать очки. Он скорбел и всем своим видом показывал, что вот, мол, дни и ночи напролёт работаешь, работаешь, а в награду одни только попрёки и подзатыльники получаешь.
А майор крякнул и, пошире распахнув шинель, чтобы виднее стали его боевые награды, выступил вперёд.
– Народ, слушай сюда! – он сурово нахмурил брови, и выражение лица у него стало недовольное, брезгливое, словно в сотый уже раз говорил он об одном и том же, а народ был настолько чудовищно и безпросветно туп, что никак не мог или, что ещё хуже, не хотел его понять. – Короче!.. Для отправления любых ваших религиозных потребностей мы церковь эту с сегодняшнего дня закрываем и переводим из сугубо культового в сугубо культурное заведение. Надеюсь, понятно выражаюсь?..
– Кто здесь богохульствует и храм Божий заведением называет? – мощный бас отца Георгия заставил вздрогнуть от неожиданности даже партийное руководство района. Все настолько увлеклись выяснением отношений, что не заметили, как батюшка вместе со счастливым Иосифом Бланком и его крёстными родителями вышел из церкви.
– Как ты кстати!.. Тебя-то мне, голуба, и надо! – оживился майор. – Товарищ поп, сливай масло, Приехали. Закрывай свою лавочку.
И обернулся к очкарику:
– Где постановление исполкома?
– Я портфель в машине оставил, принесу сейчас, – спохватился тот и трусцой побежал к "Победе". Сегодня был явно не его день.
– Что за постановление? – встревожился отец Георгий.
– Лишают нас храма, батюшка!..
– Закрыть решили.
– Осиротели мы!.. – заголосили бабы.
– Что?.. Завыли?.. – Никитка не мог скрыть вожделенного удовлетворения: сбывалось его неутолимое желание отомстить. Всем и за всё. – У вас настоящего храма и в помине-то не было. Тоже мне церковь называется, а в году всего раз пять отперта бывает… Смех один!.. Но ничего, и этому безобразию мы конец положим!.. Настал час!.. Теперь и она на пользу людям послужит!..
– Каким же это образом, отрок? Поведай нам, – отец Георгий хмурился всё больше и больше.
– А я здесь к Новому году музей открою!.. Настоящий!..
– Какой такой "музей"?!..
– Антирелигиозной агитации и пропаганды!.. Что скушали?!.. – торжествовал Никитка.
– В храме?!
– В нём! И со всех концов нашей необъятной родины в Дальние Ключи люди приезжать начнут и учиться станут, как с пережитками бороться надо!..
– Ах, ты поганец!.. – Егор стиснул в безсильной ярости огромные кулаки. – Стало быть это всё, – своей деревянной ногой он ткнул в сторону приезжих, – твоя работа?
– Моя! – Никитка откровенно злорадствовал.
– Эх!.. Мало тебе одной порки показалось, надо будет ещё задать… Имей в виду… Чтобы на всю свою паршивую жизнь запомнил, и впредь неповадно было.
– А за оскорбление действием вы мне ещё ответите!.. – вспыхнул комсомольский вожак. – По закону!.. Верно говорю, товарищ майор?.. Я на всех вас заявление написал!..
– Вот она!.. То есть оно… в смысле… постановление!.. – Януарьевич одной рукой протягивал майору бумагу с гербовой печатью, а другую руку прижимал к груди, пытаясь унять страшное сердцебиение. Он сильно запыхался и широко открывал рот, стараясь глотнуть побольше воздуха. Видно было, что неусыпные заботы о районной культуре не позволяли ему быть в хорошей спортивной форме, и потому забег за постановлением туда и обратно по пересечённой местности мог закончиться для него настоящим сердечным приступом.
Майор взял бумагу, зачем-то повертел в руках, словно прикидывая, для какой такой ещё надобности её можно употребить, и как бы нехотя отдал отцу Георгию. Тот взял, долго читал, словно никак не мог вникнуть в смысл написаного. Люди сгрудились вокруг, пытаясь через головы впереди стоящих заглянуть в этот, казавшийся таким невинным, лист бумаги.
И тут в зловещей тишине прозвучал слабый женский голос:
– Никитушка!..
Все вздрогнули, обернулись.
– Что ты натворил, сынок?! – маленькая неказистая женщина с измученным скорбным лицом и страдальческими глазами, в которых, казалось, навсегда застыла непереносимая боль, прижав руки к пылающим щекам, не отрываясь смотрела на своего торжествующего сына.
– Мама, я прошу… – Никитка съежился, как от удара, и злобно зыркнул из-под нахмуренных бровок на мать. – Мы с вами дома поговорим… Ладно?..
– Как я людям в глаза смотреть стану, сыночка?.. Что Господу отвечу?.. – в глазах её застыл ужас.
– Твоей вины, Настёна, нету тут никакой, – бабка Анисья сокрушённо качала головой. – И ты не убивайся так… Выродки, они в любой семье завсегда объявиться могут… Так что терпи, мать… Это тебе Господь испытание посылает… Терпи.
– Вам что-то не понятно, товарищ поп? – Эмилию Рерберг затянувшаяся пауза начала раздражать.
– Отчего же, гражданочка?.. Всё ясно, – батюшка вернул бумагу майору и, перекрестившись, тихо добавил. – Господи, прости их, бедных, ибо не ведают, что творят…
– Попрошу ключи от церкви, – Коломиец был явно доволен: дело двигалось к развязке.
Алексей Иванович посмотрел на отца Георгия. Тот только развёл руками.
– Мы с тобой перед этим законом безсильны, дорогой мой.
И было странно видеть этого огромного человека таким маленьким, слабым и безпомощным.
– Понимаю… А ключи… Ключи я, конечно, принесу… Я сейчас, – и, тяжело переставляя ноги, которые в одночасье стали какими-то чугунными, Алексей Иванович побрёл в храм.
Потрясённые мужики и бабы стояли молча, не шевелясь, как на фотографии или на картинке, и даже казалось, не дышали.
– Люди добрые!.. Бабы!.. Мужики!.. Простите меня, окаянную!.. – Настя Новикова упала перед народом на колени. – Не ждала, не ведала, что собственный сын… Кровинушка родимая… так мать свою опозорит… Да что мать?!.. Весь род наш теперь проклят будет… Но… молю вас… Не держите зла… Хотя… О чём прошу?.. Чего жду?.. Поделом мне!.. Видно, так ещё ране решено Господом было… За грехи мои!.. Простите… не поминайте лихом… – и уткнулась головой в липкий мокрый снег.
– Смотри, поганец, до чего родную мать довёл!.. – не разжимая челюсти, процедил сквозь зубы Егор. От безсильного гнева он побагровел весь, на скулах у него вздулись желваки, и кадык заходил вверх-вниз, туда-сюда.
Бабы под руки подняли с земли Настю.
– Мама… За что же это вы меня так-то… перед народом срамите?.. Как не стыдно?!.. Я же упредил вас: дома поговорим! – Никитка растерялся и, честно говоря, не знал толком, что делать и как себя вести.
Тут пришёл черёд заговорить крепышу с бобриком на голове:
– Товарищи! – голос у него оказался красивый, вкрадчивый, эдакий бархатный баритон с нежными переливами и обертонами. – Нам очень нужна ваша помощь.
Не спеша он достал из внутреннего кармана пальто фотографию человека в профиль и анфас.
– Нашими органами разыскивается опасный преступник-рецидивист. Вот, взгляните, пожалуйста, – он пустил фотографию по рукам. – Он вам на глаза случайно не попадался?
Люди молча передавали карточку от одного к другому и равнодушно качали головами. Жизнь приучила их держаться подальше от "органов". А в случае чего, если прищучат и начнут допытываться, мол, почему скрыл и не показал, можно сослаться или на плохое качество фотки, или на проблемы с глазами.
– Так это же богомоловский квартирант! – закричал Никитка, показывая на вышедшего из храма Алексея Ивановича. Он чуть не задохнулся от радости, признав в изображённом на снимке своего давишнего обидчика.
– Вам знаком этот человек? – ласково спросил крепыш, показывая Алексею Ивановичу фотографию "рецидивиста".
– Знаком, – коротко ответил тот. – Кому ключи от храма отдать?
Майор распахнул свою широкую ладонь.
– Мне давай, – и, получив ключи, решительно зашагал к церкви.
– И где же он? По-прежнему у вас квартирует?
– Да нет, ушёл.
– И давно?
– Недели две назад.
– И куда? Если, конечно, не секрет?
– Бог его знает. Он мне адреса своего не оставлял, а я и не спрашивал. Ушёл, и всё.
– Что ж не поинтересовались?
– Я праздным любопытством никогда не отличался.
– А вот мы, чрезвычайно любопытны, гражданин Богомолов. До крайности, – крепыш был всё так же ласков, но в голосе у него зазвучали металлические нотки. – И, чтобы наше любопытство удовлетворить, вам придётся с нами в город проехать, а то здесь, на свежем воздухе, обстановка к серьёзному разговору не располагает. Прошу, – и, взяв Алексея Ивановича под локоть, повёл его под гору, к "Победе".
– За работу, товарищи! Не годится в будний день без толку прохлаждаться, – Эмилия Рерберг направилась вслед за ними и уже на ходу коротко бросила в сторону председателя колхоза. – А с тобой. Герасим Тимофеевич, мы завтра на бюро поговорим. К девяти ноль-ноль будь любезен явиться в райком.
– Эмилия Вильевна! А со мной как же?! – заволновался "министр культуры". Он сообразил, что в "Победе" ему места не достанется. – Мне как?.. Самому добираться?
Но секретарь райкома не удостоила несчастного ответом.
– Садись ко мне в "газик", до бетонки подброшу, – буркнул председатель колхоза, стараясь не глядеть на потерянного Януарьевича. И, меся своими сапожищами таящий снег, быстро пошёл прочь.
И потом на горе у запертого храма ещё долго стояли люди, молчали и глядели вслед новенькой "Победе", которая увозила в неизвестность церковного старосту, инвалида и героя Отечественной войны Алексея Ивановича Богомолова.
11
Когда Павел Петрович открыл глаза, яркое солнце светило прямо в окно. Дождь кончился ещё ночью, и теперь, умытый и просветлённый, мир радостно просыпался навстречу последним погожим осенним дням. Вчерашняя грязь куда-то исчезла, и в большой чёрной луже на вокзальном перроне, из которой не спеша пила воду очень важная ворона, отражалось бездонное голубое небо.
Поезд стоял на каком-то полустанке.
Вчерашний попутчик – несчастный старшина, потерявший паровоз, очевидно, сошёл, когда Павел Петрович спал. От выпитой накануне водки в голове протяжно гудело, в животе свершалась бурная революция, всё внутри пересохло и горело, как в пустыне.
Давненько Павлу Петровичу не было так муторно, горько, стыдно, как теперь.
Он спустился со своей верхней полки и жадно припал к гранёному стакану. Бурый чай давно остыл и потерял вкус, но сейчас это не имело значения. Ему хотелось только одного – пить!
"Ну, зачем так над собой издеваться? Забыл сколько тебе лет? – с горечью спросил сам себя. – Когда же ты, дорогой мой, умнее станешь?"
В коридоре послышались голоса, и через минуту Нюра-проводница ввела в купе новых пассажиров: мужчину средних лет с недельной щетиной на обветренном загорелом лице и пожилую женщину в потёртом драповом пальто. За ней, держась за руку, шёл высоченный широкоплечий парень в солдатской шинели без погон. Из-под серой ушанки, чудом держащейся на его затылке, выглядывала плотная марлевая повязка, скрывавшая верхнюю часть лица.
– Сюда проходите. Тут у меня как раз три полочки свободные. Две нижних и одна верхняя. Устраивайтесь. Я вам сейчас бельё принесу, – сказала и побежала по коридору.
– Чур, моя верхняя! – мужчина забросил на полку небольшой фибровый чемодан. – А ты, Макаровна, внизу располагайся. Так сказать, согласно купленным билетам.
– Дай Бог тебе здоровья, Владик!.. – женщина опустила на пол свою поклажу. – Павлуша, сынок, ты вот тут садись, в уголок, а корзинку мне давай, – она взяла у сына большую плетёную корзинку, прикрытую сверху чистой белой тряпицей, и поставила под стол. Затем помогла ему снять шинель и только после этого разделась сама.
Парень осторожно присел на краешек вагонного сиденья около двери. Большие сильные руки, с детства привыкшие к крестьянскому труду, безпомощно лежали у него на коленях. По тому, как он сидел: прямо, откинув назад забинтованную голову, было видно: не привык ещё мальчишка к своему новому положению незрячего человека. Казалось, он всё время напряжённо прислушивается: что происходит вокруг него.
– Багаж можно сюда, под сиденье уложить, если тебе, конечно, что в дороге не понадобится, – Владик помог женщине спрятать в ящик под полкой её чемодан. – Между прочим, удобную штуку немцы придумали. Серьёзная нация. Нам такого ни в жисть не изобрести.
– Почему "ни в жисть"?.. У меня в дому точно такой короб в горнице имеется. Я туда зимние вещи на лето прячу. Алексей Степаныч, муж мой, Царство ему Небесное, ещё до войны сработал, – Макаровна даже слегка обиделась. – А немцы тут с какого боку присоседились?
– Как это "с какого"?!.. Отстала ты, Макаровна!.. Ох, отстала!.. Вагоны эти в Гэдээре сделаны. Соображаешь?
– В каком таком "Гэдээре"?
– Страна у немцев так называется – Гэ Дэ Эр по-нашему. Но это сокращённо. А если целиком, то Германская Демократическая Республика. Соображаешь? Стало быть, немцы тут главные виновники.
– А они, немцы, везде главные виновники. Виноватее их на всём белом свете никого не сыщешь. Какую бойню по всему миру устроили!..
– Какая ты несознательная, Макаровна!.. Скажешь тоже!.. – мужчина был явно раздосадован. – Они теперь наши друзья. Соратники. Соображаешь?.. Конечно, есть и ещё другая Германия: Фэ эР Гэ. Но эти не наши, эти с американцами дружбу водят. А с гэдэровцами мы сейчас в одном лагере… э-э-э… – он хотел по обыкновению сказать "сидим", но вовремя схватил себя за язык и с трудом, но всё же выкрутился, – … находимся. Верно говорю, дед? – обратился он за поддержкой к Павлу Петровичу, но тот не ответил.
– В каком таком "лагере"? Лагеря у нас разные бывают. И пионерские, и другие… Всякие…
– В социалистическом!.. – мужчина начал терять терпение и слегка раздражаться. – Дед, хоть ты ей скажи!..
– Может, тебе, Владислав, они и друзья, а для меня… Извини… Они мужика моего в сорок третьем убили… Под Сталинградом… Так что ты, если хочешь, сиди с ними в этом самом лагере, а я вот с убивцами Лексея моего дружбу водить не собираюсь.
– Эх, Авдотья Макаровна!.. Повезло тебе, что, кроме меня и деда, никто нас не слышит, а не то… – и он многозначительно покачал головой.
Протяжно прогудел тепловоз, лязгнули вагонные сцепления, и поезд медленно тронулся. Чуть запыхавшись, с постельным бельём в руках в купе вошла неунывающая Нюра.
– Заждались? Бельё, честно скажу, чуть сыровато, но, если на полке разложить, оно у вас мигом просохнет.
И вдруг спохватилась:
– Ой!.. С добрым утром вас, товарищ генерал!.. Я как-то растерялась совсем.
Павел Петрович удивился, откуда она знает его бывшее звание, но виду не подал:
– С добрым утром, Нюра. Как успехи?.. Научилась пятку вязать?
– Ой!.. А я и не думала, что вы про меня такую малость запомните!.. – щёки девушки вспыхнули ярким румянцем. – Я теперь, товарищ генерал, могу и вам связать, если захочете… Вот только боюсь… шерсти у меня на полтора носка только.
– Спасибо, голубушка. Как-нибудь в другой раз, – Павел Петрович ласково погладил её по плечу и, прихватив полотенце, пошёл умываться. Уже в коридоре за спиной он услышал изумлённый возглас мужчины: "Чего?!.. Генерал?!.." – и жаркий сбивчивый шёпот Нюры.
Как много в нашей жизни значит звание! Чин. Был обыкновенный "дедок", но в одночасье стал "его превосходительством". И не за какие-то выдающиеся заслуги, а оттого только, что назвали "дедка" генералом. И ведь сплошь и рядом так. Иной человек не то что почёта или славы, но и слова-то доброго не стоит, а повесь ему на грудь орден или хотя бы медаль, глядь, а отношение людей к нему уже изменилось. Он даже в собственных глазах расти начинает и незаметно так, потихоньку в "туза" превращается. И если не дал ему Господь разума, то от сознания собственной важности раздуется до невозможных размеров, как воздушный шарик на ярмарке. Велико человеческое тщеславие!.. Только вот беда, шарики эти частенько сдуваются, и от прежнего блеска и красоты одно воспоминание остаётся. А не то и вовсе…Хлоп! – и нету. Сколько их, несчастных, уже полопалось! И скольких эта горькая участь впереди ожидает?!..
Когда Павел Петрович вернулся в купе, Макаровна выкладывала из корзинки на стол, покрытый чистой белой тряпицей, домашнюю снедь.
– Вы меня извините, товарищ генерал, – новый попутчик вскочил и вытянулся перед Павлом Петровичем. – Я же не знал…
– О чём вы?.. – поморщился Троицкий.
– В том смысле, что я… Короче говоря, я вас, товарищ генерал, по ошибке "дедом" назвал. Сугубо по ошибке, без какой бы то ни было задней мысли!.. Поверьте… Я, признаться, совсем не хотел…
– Ерунда какая!.. Меня зовут Павел Петрович. А вас?
– Владислав Андреевич, – тот поспешно пожал протянутую руку. – Но вы меня лучше Владом зовите. Я так больше привык, – и уважительно добавил, – товарищ генерал.
– Будем знакомы, Владислав Андреевич. А что касается генеральства моего, оно в далёком прошлом безпробудным сном почивает, так что и вспоминать о нём, и тревожить его, ей Богу, не стоит.
И в ответ крепко пожал руку Влада. Затем обратился к парню, который всё так же неподвижно сидел на краешке вагонной полки в углу:
– А вас, молодой человек, я слышал, тоже Павлом зовут? – тот кивнул головой, но руки не подал. – Тёзки, значит…
– Мы с мужем в память свёкра Павлом его назвали, – Макаровна лодочкой протянула руку и церемонно представилась: – Авдотья Макаровна. Ведь говорили мне, не след дитё в честь покойника называть, не послушалась, безтолковая!.. Теперь вот, – она кивнула в сторону сына, – из-за моей дурости Павлик страдать должен.
– Не говорите так, мама, – голос у Павлика оказался низким, густым. – Сколько раз повторять?.. Ни в чём вы не виноваты.
– Мне, сынок, лучше знать.
– А какая тут связь? – удивился Павел Петрович. – Никогда раньше не слыхал, что детей в память предков называть не следует.
– Есть поверье такое, будто вместе с именем все беды, все несчастья, что довелось покойнику в этой жизни испытать, на младенчика переходят. Анна, золовка, ещё до крестин меня о том упреждала. Помню, я тогда посмеялась над ней, отмахнулась, а зря. И вот, пожалуйста, хошь верь, хошь, нет, а всё так и случилось… Не думала, не гадала, а беду на сына навела… Павел Тимофеевич, свёкор мой, видный мужчина был, красавец, а только и сорока ему не было, как ослеп. Сарай во дворе загорелся, а там корова с телёнком, поросята… Он и бросился в огонь, скотину спасать… Корову вывел, а как стал поросят выносить… Шевелюра у него была на зависть всем мужикам, первая вспыхнула… Потом уже рубашка занялась… Стоит, в руках поросёнок верещит, а он сам, как свеча полыхает!.. Насилу огонь сбили… Обгорел он не так, чтобы очень, вот только волос лишился и зрение потерял.
– Суеверие это всё, – ухмыльнулся Владислав Андреевич. – Отсталость мышления.
В купе со стаканами горячего чая в руках вошла Нюра-проводница:
– Я вам, товарищ генерал, как вы любите, с двойным сахаром принесла. Приятно кушать.
– Нюра, голубушка, довольно меня генералом обзывать. У меня, между прочим, имя есть. Нормальное, человеческое – Павел Петрович. Договорились?
Щёки Нюры опять вспыхнули ярким румянцем, она прикусила нижнюю губу, что-то буркнула в ответ, лицо её кисло сморщилось, и она стремглав выскочила из купе в коридор.
– Нюра! Милая моя, куда вы?! – Павел Петрович испугался. Он не понял, чем так обидел эту бедную девочку и поспешил за ней.
Нюра сидела в своём служебном купе и горько плакала.
– Девочка моя!.. Ну, что вы?.. Я обидел вас?.. Простите… – он присел рядом с ней и обнял вздрагивающие худенькие плечи. – Простите старого дурака!
– И ничего подобного!.. И совсем даже не то!.. – она уткнулась в грудь Павла Петровича и заплакала ещё горше. – И ничего-то вы не понимаете!.. Вот, ни капельки!.. Хотя и генерал…
– Ну, ну., девочка моя… давайте успокоимся… – он растерялся и на самом деле не знал, как быть. – Не надо, Нюра… Право, я прошу вас… Вот беда, не умею я успокаивать!.. Ну, скажите, в чём дело?.. Чем я вас так задел?..
– Ничего… я сейчас… я успокоюсь… Не сердитесь… Какая же я!.. Дура набитая!.. – всхлипывая и шмыгая носом, она ещё крепче прижалась к Павлу Петровичу.
Как легко ранить человеческую душу!.. Неосторожным словом, взглядом, ухмылкой… Да мало ли ещё чем!.. Ведь мы порой сами не замечаем, как безжалостны бываем, как грубы и безцеремонны в своём обращении с людьми. А душа человеческая так тонко устроена, так чутко реагирует на малейшую безтактность, её так легко ранить!..
Прошла, наверное, минута или даже две, прежде чем она, наконец, успокоилась.
– Ну, вот и ладно… Вот и хорошо, – он помог ей вытереть слёзы казённым вафельным полотенцем. – А теперь… выкладывайте, что же всё-таки с нами случилось?.. А?.. Отчего мы так горько рыдали?
Нюра подняла на него заплаканные счастливые глаза и чуть слышно прошептала.
– Голубушка…
– Что "голубушка"? – не понял Павел Петрович.
– Меня никто никогда не называл… так…
– Как?
– Голубушка… вот как!.. – и на глаза её вновь навернулись слёзы.
Сердце Павла Петровича сжалось от нежности, от жалости к этой простодушной трогательной девочке, и, чтобы самому не раскиснуть окончательно, он сурово нахмурил брови, грозно кашлянул в кулак и, наконец, что есть силы ударил этим самым кулаком по своей коленке.
– Понимаю, – только и смог выдавить из себя.
– Я – детдомовская…И кто у меня папка с мамкой, не знаю… И не видала их вовсе… И сколько помню, всю мою злосчастную жизнь меня токо так и звали: Нюрка да Нюрка… А иначе никак. Вроде клички кошачьей. Право слово… А так, чтобы… ласково… Вот, как вы, к примеру, так никто… никогда… А ласки каждому хочется!.. И тепла… Ведь правда же?.. Даже кошка и та об ноги трётся, чтобы погладил кто, – она напоследок порывисто всхлипнула и, улыбнувшись, прибавила: – Спасибо вам, Павел Петрович, товарищ генерал. Огромное-преогромное спасибо. Дождалась-таки…
"Товарищ генерал" обнял её и поцеловал в лоб.
Сколько их, несчастных, обездоленных сирот, по всей России раскидано? И ведь не только зверствами фашистов, но и стараниями своих соотечественников, соседей, друзей и даже родных ломались судьбы, коверкались жизни ни в чём не повинных людей. А главное – деток!.. Деток-то за что?!..
Вот и его сын, его Матвей, невесть где.
Жив ли?.. Найдётся ли?..
К горлу подступал удушливый комок… Наверное, поэтому он ничего не ответил… Стало вдруг нестерпимо стыдно, щёки покрылись жгучим румянцем. Павел Петрович махнул рукой и пошёл обратно в своё купе. Когда он плакал в последний раз?.. Забыл, и слава Богу!..
– Милости просим, позавтракайте с нами. Никаких разносолов, правда… Еда домашняя, деревенская… Но вы отведайте, не побрезгуйте, – Авдотья Макаровна подвинулась, приглашая Павла Петровича к столу.
А там!.. Сваренные вкрутую яйца лежали на чистой тряпице, из-под марли выглядывал белоснежный творог, рядом – банка сметаны, в которой ложка стояла торчком, и крупно нарезанные ломти свежеиспечённого деревенского хлеба, терпко пахнущие печным дымком, дразнили одним видом своим. Павел Петрович сглотнул обильную слюну. Давненько не видал он такого изобилия!
– А у меня, к сожалению, только крабы. Больше я вас ничем удивить не смогу.
– Да ну их, крабов этих! – отмахнулась Авдотья Макаровна. – И не рыба, и не мясо. Так, баловство одно.
– Деликатес! – уточнил Владислав. Он давно уже уплетал за обе щеки и только причмокивал от удовольствия.
– Я тебе, Петрович, лучше творожка со сметанкой положу. Попробуй… У Дони, моей кормилицы, молочко сладкое… Отведай.
– От такого приглашения трудно отказаться…
– А зачем отказываться? Ты кушай, батюшка, и никого не слушай. На здоровье!..
– Покорно благодарю.
Павел Петрович подсел к столу.
– В России от голода умереть никак невозможно, – Владислав с шумом отхлебнул чай из гранёного стакана. – Даже если в кармане, окромя громадной дыры, ни копейки, и в будущем безпросветный мрак нищеты намечается, непременно найдётся добрая душа и накормит. Вот как Макаровна, от пуза. Верно говорю? – и икнул. – Со вчерашнего дня не ел. Извиняюсь.
– Павлик, сынок, ты прилёг бы. С пяти утра на ногах.
– Не беспокойтесь, мама, я не устал.
Он по-прежнему сидел на нижней полке в углу, всё так же откинув назад голову и сложив на коленях руки, сжатые в кулаки. Толи дремал, то ли думал о чём-то своем. Макаровна порывисто вздохнула и робко спросила:
– Может, чайку попьёшь?
– Спасибо, не хочется, – он покачал головой и тут же тихо, словно стесняясь, попросил. – Вы меня, мама, проводите… в коридор?
– Пойдём, Павлуша, – мать сразу всё поняла. – Пойдём, – и, взяв сына за руку, вышла с ним из купе.
– Вот ведь судьба какая!.. Не приведи Господи! – Владислав ещё раз икнул и, вытирая казённым полотенцем рот, добавил. – Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь.
– А что с ним? – Павел Петрович давно хотел спросить, но при парне стеснялся.
– Тяжёлое осколочное ранение. Граната разорвалась… буквально под ногами… Четверо на месте. Как говорится… не приходя в сознание… А двоих – Пашку и ещё одного пацана – искалечило так, что не знаешь, кому больше завидовать… Тем четверым, что Богу душу отдали, или этим… двоим… выжившим.
– Так ведь война уже одиннадцать лет как закончилась!
– Это, смотря какая. Отечественная – это точно, одиннадцать, а венгерская… почитай, год назад.
– Первый раз о такой войне слышу.
– Это я в фигуральном смысле. Настоящей войны там, конечно, не было. Да вы же сами знаете – в газетах её "венгерскими событиями" называли.
– Ничего я, Владислав Андреевич, не знаю, – Павел Петрович развёл руками. – В тех местах, где я последние девять лет провёл, газеты читать да слушать радио было как-то… недосуг.
Изумление Влада сменилось неподдельным восхищением:
– И вы тоже?!..
– Что "тоже"?
– Я в том смысле… что и вы тоже… как и я?.. Сидели?!.. – восторгу Влада не было границ.
– И в том смысле, и в этом, – и, не дав собеседнику опомниться, сам задал вопрос: – Так что же это за война такая была и что на этой "венгерской" войне с нашим соседом приключилось?
Влад открыл было рот, чтобы ответить, но тут вернулась Макаровна с сыном, и он прикусил язык.
– Павлуша, я постелю тебе?..
– Так ведь рано ещё, – видно было, что парень устал и не прочь полежать, однако перед взрослыми соседями не хотел показывать свою слабость.
– И вовсе не рано, – Макаровна достала из корзинки потрёпанную книжку. – Ты приляг, а я тебе почитаю, глядишь, и время быстрее пройдёт.
– Ложись, ложись, – поддержал её Павел Петрович. – И мы с Владиславом Андреевичем послушаем. Я в юности тоже Джеком Лондоном увлекался, – на потёртой обложке он успел прочитать заглавие: "Белый клык".
– Ладно, я полежу, – согласился Павел. – Только наверху, если можно. Так для всех удобней будет.
– Милости прошу! – Владислав взял с верхней полки свой чемодан, – Я ведь, как лучше, хотел.
Макаровна принялась застилать сыну постель.
– Товарищ генерал, покурить пока не желаете? – Влад достал из кармана изрядно помятую пачку "Памира" и, угощая, протянул Павлу Петровичу. – Прошу. Это, конечно, не "Герцеговина Флор", но другого курева в наличии не имеется.
Павел Петрович со дня своего ареста не курил, но тут с готовностью ответил:
– Пожалуй, я вам компанию составлю, – но сигарету так и не взял.
В коридоре Нюра-проводница и молодая мама, девчонка лет восемнадцати с толстенной рыжей косой и россыпью озорных веснушек на вздёрнутом носу, играли с годовалым малышом. Губастый карапуз, видимо, только-только научился ходить и теперь, издавая радостные вопли, хохоча и взвизгивая, с восторгом бегал по ковровой дорожке от мамы к Нюре и обратно.
– Пойдёмте в тамбур, – предложил Павел Петрович.
– Да уж, не станем детям и матерям атмосферу дымом отравлять, – в голосе Влада послышалась неожиданная нежность.
– Павел Петрович! Посмотрите, какой у нас богатырь растёт! – щёки Нюры раскраснелись, глаза светились материнским счастьем. Казалось, не с чужим, со своим малышом она играла в эту минуту.
"Ох, и повезёт же тому парню, что женится на ней! – подумал Павел Петрович. – Дай Бог тебе счастья, милая, славная девочка".
В тамбуре Владислав тут же задымил, держа сигарету щепотью так, что горящий кончик её прятался в ладони, и, словно боясь, что его прервут или остановят, заговорил быстро, делая короткие паузы только для того, чтобы затянуться горьким махорочным дымом.
– Мы с Макаровной бок о бок живём, то есть не я, конечно, а матушка моя, покойница, пусть земля ей будет пухом, с ней соседствовала. Я-то в родном дому и тринадцати лет не прожил, – он скорбно вздохнул и, словно споткнулся, замолчал.
– Что так? – спросил Павел Петрович. – В бега ударился? Свободы захотелось?
– Да нет… Посадили меня. Сначала в колонию для несовершеннолетних… Я зерно из колхозного амбара горстями таскал. Очень кушать хотелось. В сорок втором голодали мы. Страсть!.. Летом ещё ничего, а зимой… целыми семьями вымирали. Так мы зерно это даже сырым ели, – он затянулся, выпустил через ноздри дым и продолжил. – А как стукнуло мне семнадцать, ещё срок накинули и во взрослую колонию перевели на Колыму. Пацаны-уголовники бунт учинили против нашего лагерного начальства, потому как издевалось оно над нами со смаком, не передать как, – он опять затянулся. – Я в бунте участия не принимал, потому как знал, ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Но кто по мелочам разбираться станет? И вкатили всей колонии ещё пятерик, как говорится, за «соучастие». Кроме застрельщиков, конечно, у тех двое самых главных даже вышку схлопотали, – снова затяжка. – Вышел я на поселение в пятьдесят первом, на «материк» мне дорога была заказана и остался я в Сусумане, а это, считай, золотая столица Колымы, на вечные времена. Так я решил тогда про себя, не мог даже в самом страшном сне представить, что усатый таракан концы отдаст и всё в нашей жизни вверх тормашками перевернётся. Поначалу сильно бедствовал, но потом прибился к партии старателей и зажил припеваючи, относительно, конечно, но всё-таки! Ни в чём нужды не знал, – он затянулся и пояснил. – Там по долине драга ходит, золото моет для страны, а отвалы, как они, идиоты, считают «пустой породы», дают на откуп нам, старателям. Так честно скажу, мы своей бригадой за сезон в два раза больше золота намываем, чем эта махина за два года, ну, и денег соответственно зарабатываем немерено, – он вновь выпустил дым из ноздрей. – Так бы и жил я на Колыме безвылазно, только в сентябре получаю телеграмму: «Матушка ваша, Владислав Андреевич, преставилась, приезжайте на похороны». Я – к начальству, мол, так и так, отпустите с родительницей проститься. И что бы вы думали, – отпустили. На похороны я, само собой, не успел, но на «материк» наконец-то вырвался и теперь думаю в Москве в Генеральную прокуратуру заявление подать, чтобы, значит, сняли с меня судимость и разрешили жить, где захочу. Теперь, говорят, по всем лагерям такая кампания идёт, «ребилитация» называется. А вы случаем не под эту ли кампанию попали? Угадал?..
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































