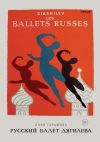Текст книги "Дягилев. С Дягилевым"

Автор книги: Сергей Лифарь
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
В борьбе Философова с Бенуа победа осталась, несомненно, за Бенуа: не Философов, а Бенуа стал в 1904 году и фактически, и официально соредактором Дягилева. В 1904 году Философов мог писать – «Я имел высокую честь быть одним из учредителей „Мира искусства“. Вот уже шестой год, как я заведую его литературным отделом и „Хроникой“», – «литературный» отдел почти упраздняется в 1904 году, и в том, что печатается в сохранившем это название отделе, Философов не принимает почти никакого участия. Дягилев не мог не увидеть в конце концов, что его «сердечный друг», называвший французских рисовальщиков представителями «бордельного искусства», весьма далек от понимания и восприятия искусства и что дальше Васнецова и Пюви де Шаванна он не пошел (рисунки Обри Бердслея ему кажутся «двусмысленными», картины Мориса Дени «наивными попытками»). Особенно должно было шокировать Дягилева отношение Философова к Левитану и Сомову – двум любимейшим художникам Дягилева. Так, Валечка Нувель писал Бенуа: «Дима упорно настаивал на том, что единственно большая величина в русском художественном мире это Васнецов, и говорил, что Левитан, например, в сравнении с ним „мелкота“». Но чем окончательно погубил себя Философов в глазах Дягилева, это презрительно-отрицательным отношением к Сомову, о котором Дягилев был восторженно-высокого мнения. У Философова – нельзя отказать ему в известной смелости – поднялась рука на Сомова, в котором он не увидел ничего, кроме «условной, несколько приторной сентиментальности».
Руководящая роль в журнале С. П. Дягилева. – Эклектизм Дягилева. – «Упадочность» в оценке Дягилева и его ненависть к повторениям и самоповторениям
Как ни велико было участие Философова и Бенуа в редактировании «Мира искусства» и как ни значительно было их влияние на Дягилева, все же главным, активным, независимым и проводившим свою художественную политику в журнале редактором-диктатором был сам Дягилев. Редактирование Дягилева сказывалось во всем: и в том, что он приглашал по своему усмотрению сотрудников, и в том, что по преимуществу он подбирал художественный материал для репродукций (говорю «по преимуществу», ибо, как мы увидим ниже, известная часть репродукций предопределялась статьями и корреспонденциями, в особенности корреспонденциями Бенуа), и в том, что он писал во всех отделах журнала, и в том, что главные руководящие статьи «Мира искусства» принадлежали ему, и он высказывал в них свои мысли об искусстве, совершенно не заботясь о том, совпадают ли они с мыслями других членов редакции (и действительно они часто находились в противоречии со взглядами других сотрудников и, в частности, Философова и Бенуа; необходимо добавить, однако, что терпимость Дягилева была так велика, что и своим сотрудникам он позволял открыто высказывать взгляды, с которыми он был не согласен).
Личные пристрастия Дягилева нашли себе наибольшее отражение в «Мире искусства» 1898–1899 и 1900 годов и особенно 1898–1899 годов. Я уже говорил о том, что первый двойной номер «Мира искусства» открылся картинами тогдашнего кумира Дягилева – Васнецова (кроме Васнецова там были помещены репродукции с картин и других симпатий Дягилева – Коровина, И. Левитана, Елены Поленовой и С. Малютина, – к Левитану и Малютину, как мы знаем, у Дягилева была особенная слабость, – а также скандинавского художника Эрика Веренскиольда). В следующих номерах мы опять находим печать вкуса Дягилева в помещении репродукций с произведений Левицкого, князя П. Трубецкого, Пюви де Шаванна, Сомова, Бердслея, Врубеля, Петра Соколова. Еще дальше – любимые дягилевские финляндцы и после них К. Брюллов и В. Боровиковский. «Мы ценим Брюллова», – не переставал повторять Дягилев и поместил Брюллова в самом же начале «Мира искусства». В этом, как и в многом другом, сказалась диктаторская самостоятельность Дягилева и его независимость от его «учителя» Александра Бенуа, который недооценивал Брюллова и в том же «Мире искусства» (!) писал, что «Брюллов груб, и если с ним еще не совсем порешили, то благодаря только отсутствию у нас в обществе и даже среди художников любовного и глубокого отношения к искусству».
В своих статьях Дягилев не перестает развивать свои любимые мысли о ценности художественного произведения независимо от того направления, к которому оно принадлежит.
Его широта, настоящая, свободная, независимая широта и его эклектизм основаны на той мудрой истине, которую он возвестил в своем манифесте – в первой статье «Мира искусства»:
«Классицизм, романтики и вызванный ими шумливый реализм – эти вечно сменяющиеся раздробления последней сотни лет – призывали и нас, в нашем новом произрастании, вылиться в одну из украшенных этикеткой форм. И в том и был главный сюрприз и симптом нашего разложения, что мы не выпачкались ни об одну из заваренных и расставленных для нас красок, да и никакого желания к этому не проявили. Мы остались скептическими наблюдателями, в одинаковой степени отрицающими и признающими все до нас бывшие попытки».
Для своей первой руководящей статьи, которою открылся «Мир искусства», Дягилев взял эпиграфом слова Микеланджело: «Тот, кто идет за другими, никогда не опередит их». Эти слова можно взять эпиграфом и для всей художественно-проповеднической деятельности Дягилева. Дягилеву было органически чуждо и ненавистно всякое повторение, всякое подражание, всякое подогревание вчерашнего блюда, всякое топтание на одном и том же месте, и только в этом повторении он и видел настоящий упадок, décadence[29]29
Разложение культуры (фр.).
[Закрыть]. Эту мысль об упадке в искусстве Дягилев не переставал повторять с первого («Наш мнимый упадок») и до последнего номера «Мира искусства», она является одной из главных, основных мыслей Дягилева об искусстве.
Защищая современное искусство от обвинений в декадентстве, Дягилев писал: «Отсутствие „упадка“ вовсе не в том, что Репин выше Брюллова (это, к тому же, еще большой вопрос). И Репин и Брюллов были высшими точками напряжения известных художественных идей, они были вершинами, до которых взбирались и с которых затем скатывались и скатываются все, кто идет по их стопам (вот где истинный упадок!). Моллер, Флавицкий, Семирадский – это „упадок“ Брюллова, Савицкий, Пимоненко, Касаткин – „упадок“ Репина. Новое искусство оттого и не есть „упадок“, что оно не идет ни за Брюлловым, ни за Репиным, что они ни хуже, ни лучше Брюллова и Репина. Оно ищет собственного выражения, которое явится в самом ярком его представителе, одном или нескольких.
По абсолютной ценности эпоха „нового“ искусства может даже быть ниже „эпохи классического искусства“ или „социального реализма“, она может не дать таких крупных величин, как Бруни или Репин, – в таком случае ее место в истории культуры будет менее заметно, но все-таки это будет место вполне самостоятельное. Наша эпоха в истории живописи никогда не будет названа эпохой „упадка“, повторявшего чужие мысли, твердившего зады давно и всем известного, – наоборот, за ней всегда останется та заслуга, что она вечно искала своих, новых путей».
Но и в современном искусстве, перед которым он вовсе не преклоняется раболепно, Дягилев не щадит такого упадка, и не щадит не только в дешевом модернизме, но и в тех художниках, которых особенно усиленно пропагандировал «Мир искусства» и сам Дягилев. Так, он писал о разрушительном влиянии «всесильного Мюнхена»: «Как тридцать лет назад Дюссельдорф, художественный центр того времени, сгубил целую массу даровитых людей, обледенил их своим академизмом, издав незыблемые художественные законы, так и нынешний законодатель Мюнхен, как самый яркий выразитель модного западного искусства, то и дело своим влиянием разрушает таланты. Искусство Сецессиона стало самой ужасной рутиной нашего времени, оно дало трафареты, по которым теперь изготовляются тысячи картин. Дешевые эффекты, общедоступное декадентство – все это идет оттуда, и с этим великим злом необходимо бороться».
Из этих мыслей об упадке и трафарете вытекает отрицательное отношение Дягилева и к самоповторениям, самоподражаниям – такой же упадок, такой же трафарет, такое же топтание на месте. Известно, с каким восторгом относился Дягилев к Цорну, Каррьеру, Даньян-Бувре и как высоко их ставил. А в 1901 году, продолжая их высоко ставить, он пишет: «Вы видите эффектный портрет, последнее произведение Цорна, этого большого баловня Парижа. Когда два года назад появилась его голубая „Американка“ с большой собакой – весь Париж бегал ее смотреть, только и было разговоров о Цорне, он был силен, непосредствен, в нем была нотка своеобразной свежести, какой-то нахальный и вместе с тем художественный je-m’en-fich’изм[30]30
Халатность, наплевательское отношение (фр.).
[Закрыть]. Все это осталось и теперь – белое шелковое платье, писанное обольстительной кистью великого виртуоза, красный диван, желтый фон new style[31]31
Нового стиля (англ.).
[Закрыть] с японскими деревьями… Женщина чудно усажена на холсте, все красиво в пропорциях и тонах, но под всем этим совершенством каким-то чудом прокрадывается тот неуловимый холодок, который рассказывает нам, что можно всему научиться, что можно знать не только анатомию и рисунок, но даже найти секрет, как придавать себе сильный темперамент, юную наивность, и вообще все те приправы, которые для художника ценнее алмазов. В Цорне… его пыл, его художественный пафос подчас шокирует: теперь это уже не более как подделка, такая же неискренняя, хотя и ловкая, как, например, все последние „туманы“ Каррьера. Каррьер, этот божественный поэт, – этот Роден в живописи – сколько раз заставлял он трепетать перед своими сокровеннейшими матерями и детьми, но к чему же все это опять и опять, и все это уже пожиже, без вдохновения, которое так долго не изменяло ему.
Конечно, каждому дано свое, Рембрандт всегда оставался Рембрандтом и в Леонардо не превращался, но у великих мастеров было одно великое преимущество. Они успели до конца оставаться самими собой и, главное, ухитрялись не подражать себе. Нынче же делается так: Раффаэлли или Каррьер выступают как новые, свежие явления – они „нашли себя“. С этой находкой они носятся затем всю жизнь и в конце концов либо летят в пропасть отчаянной рутины, как Даньян-[Бувре], Ленбах, Цвиль, Менье, Фриан, либо начинают подделываться под самих себя, и выходит не Каррьер, а под Каррьера, не Менар, а под Менара; они держатся всеми силами за раз сделанное открытие, в котором они были действительно и своеобразны и интересны, но увлечения настоящего уже нет, все способы, все нюансы уже испробованы, и вот начинается нескончаемая фабрика Латуша и Кº, на которой делаются отличные вещи и самой высокой пробы. Разве нельзя того же отчасти сказать и про Аман-Жана? Очаровательный портрет Сюзанны Понсе, облетевший уже все издания до обложек включительно, – является, конечно, нотой истинного вдохновения, это настоящий Аман-Жан, женственный, нежный, задумчивый, но к чему же так портить самому себе и где-то внизу выставки, в отвратительном отделе пастелей развешивать целый ряд трафаретов – настоящую фабрику женщин, обернутых в легкие материи на разноцветных фонах – красивые краски обоев из магазина Liberty».
Эта святая ненависть Дягилева к повторениям и самоповторениям, оставшаяся в нем на всю жизнь, давала часто повод думать, что для Дягилева не существовало ничего, кроме нового, кроме «сегодня» и «завтра», что для него не было никакого «вчера». Ничто не может быть наивнее и неправильнее этого взгляда на Дягилева, человека громаднейшей художественной культуры, дорожащего всеми победами этой культуры. Да, Дягилев ненавидел «вчера», если оно вторгается в «сегодня», если оно претендует на то, чтобы быть «сегодня». Но «вчера», как «вчера», прошлое, если только оно отмечено истинным талантом, имеет в глазах Дягилева вечную, непреходящую ценность. Сказать, что Дягилев любил великое прошлое искусства – вечное, – слишком мало: у Дягилева был настоящий восторженный культ прошлого (этим культом определяется и его широчайший эклектизм), и он считал, что истинный художник сегодняшнего и завтрашнего дня может образоваться, только приняв в себя созданную веками художественную культуру. Всю свою жизнь – в эпоху «Мира искусства» так же точно, как и в эпоху Русского балета – Дягилев воскрешал прошлое, сохранял прекрасное «вчера», закреплял «сегодня» и старался в «сегодня» угадать «завтра»…
Отдел художественной промышленности и художественной хроники
Произведения прикладного искусства – и западноевропейского и русского – занимают значительное место, как говорила и программа, «особенное значение придается вопросам самостоятельной художественной промышленности, причем обращено особенное внимание на великие образцы старого русского искусства».
Действительно, произведения русского прикладного искусства, как старинного (начиная с вышивок и кончая предметами домашнего обихода, домашней утвари), так и современного – мебели Бенуа, Бакста, Малютина, Якунчиковой, Обера и проч. и проч., – значительно преобладают над западноевропейским. Высоко ценя отдельных западных мастеров художественной промышленности, таких, как Ольбрих, Дягилев в общем отрицательно относился к трафаретному модернизму, к тому new style, который заполонил западноевропейскую промышленность, и отдавал решительнейшее преимущество русским художникам. «Движение прикладного искусства на Запад, – писал он, – не только успело одержать блестящую победу, но и успело даже порядочно надоесть тем неосторожным художественным туристам, которые, в погоне за современным движением, успели, до тошноты, наглотаться Дармштадтом, Турином, Веною и прочими „Священными рощами“, изобилующими бесчисленными подражателями Ольбриха, Ван де Вельде, Экмана и других.
Новый стиль совершенно заполонил Европу и сделался космополитичен, как вагон норд-экспресса, в один день пробегающий Германию, Бельгию и Францию.
Не знаю, перемена ли рельсов или вообще вялость наших поездов имела влияние на то, что до сих пор мы не вошли в эту международную конвенцию, в этот „современный стиль“, но факт только в том, что большинство попыток создания в России художественного прикладного дела всегда приводило к результатам, совершенно противоположным тому, что замечается на Западе; и вместо стадного начала, разлитого в западной художественной промышленности, мы встречаемся у нас с индивидуальными и случайными пробами Васнецова, Врубеля, Поленовой, Малютина, чарующими неожиданностью своих замыслов…»
«Художественная хроника», крайне пестрая, давала возможность русским читателям следить за малейшими подробностями художественной жизни в России и на Западе. Особенно большой интерес представляли в этом отделе «Сведения». Мы говорили уже о том, что «Мир искусства» ставил себе художественно-воспитательные цели и стремился к тому, чтобы давать русскому обществу художественное образование. Этой цели вполне отвечали «Сведения». Какие только «сведения» не давались русскому читателю! Тут и сведения о Д. Г. Левицком (небезынтересно отметить, что «Сведения» открываются этим художником, которому Дягилев посвятил свою единственную книгу), и о скульпторе князе П. П. Трубецком, и о Петре Соколове, и о художнице Н. Я. Давыдовой, и о майоликовом заводе, и о церквях и часовнях XVII века, и об античных скульптурах, и о скульпторе Зейдле, и о С. А. Коровине, и об Обере, и о С. Малютине, и о К. Коровине… всего не перечислишь. Множество всякого рода поучительных сведений находится также и в «Заметках»…
Музыкальный отдел
Музыкальный отдел в «Мире искусства» был поставлен очень хорошо, очень серьезно, относительно полно, но без особенного блеска. В том, что музыкальный отдел не был блестящим, меньше всего вины было редактора – Дягилева и вообще редакции «Мира искусства». Редакция все сделала для того, чтобы музыкальная критика была на должной высоте (и она была на большой высоте): музыкальный отдел строился по образцу главного отдела – живописи, то есть преследовал и художественно-воспитательные задачи, знакомя со старыми мастерами, и отражал современную западноевропейскую и русскую музыкальную жизнь. Вел музыкальный отдел А. П. Нурок, человек несомненно больших знаний и большой музыкальной чуткости; к писанию о музыке приглашались «гастролеры», впрочем, только в первые два года. В первые же два года появлялись и статьи почтенного Лароша («По поводу одного спектакля», «Мнимая победа русской музыки за границей», «Несколько слов о программах симфонических собраний Русского музыкального общества» и «Нечто о программной музыке») и А. Коптяева («Новости музыкальной литературы», «Музыкальные портреты: Скрябин» и «Сезон Московской оперы»). Нурок старался сделать как можно более содержательными и разнообразными страницы «Мира искусства», скупо уделяемые музыке, но он не был блестящим, талантливым музыкальным критиком… Впрочем, в это время в России и вообще не было выдающихся музыкальных критиков (да есть ли они и теперь?).
Как бы то ни было, Нурок с Нувелем и в «Мире искусства», и в основанном ими обществе «Вечера современной музыки» делали большое дело, подымая и развивая вкусы публики и знакомя ее с молодыми русскими композиторами (Нурок особенно пропагандировал Рахманинова) и с современным французским и немецким музыкальным течением: имена С. Франка, Дебюсси, Равеля, В. д’Энди, Рихарда Штрауса и Макса Регера стали известны русской публике только благодаря «Миру искусства» и «Вечерам современной музыки».
Литературный отдел
Литературный отдел, редактировавшийся Д. В. Философовым, настолько сильно отличался от основного отдела – изобразительных искусств, что представлял собою почти что отдельный журнал в журнале. Главное отличие его было зафиксировано уже программой, говорившей о том, что этот отдел будет посвящен только «вопросам литературной и художественной критики».
Подобно тому, как в живописи происходили искания новых художественных форм, подобно этому происходило искание новых путей в поэзии.
Только-только намечалась дифференциация петербургских поэтов: наиболее робких в исканиях новой поэзии и новой формы поэзии учеников и почти последователей Надсона, – Мережковского и Минского, писателей, принявших себя в начале своей литературной деятельности за поэтов, остроиндивидуальных и подлинно новых поэтов Федора Сологуба и Зинаиды Гиппиус, петербургско-московского поэта Божией милостью Бальмонта, московских поэтов-символистов во главе с Валерием Брюсовым, Коневским и молодым Андреем Белым, «женевца» Вячеслава Иванова; в Петербурге уже начинал свое восхождение к вершинам поэзии Александр Блок… Необходимость своего «Мира искусства» для оживающей и ищущей русской поэзии была так же настоятельна, как и для новых художников, и «Мир искусства» мог бы и должен был быть тем же самым для поэзии, чем он был для живописи. Этого не произошло – не из-за отсутствия организаторских способностей Философова, а из-за того, что, занятый другим, он проглядел новое русское поэтическое движение и не смог в нем разобраться. Достаточно сказать, что за 1899 и 1900 годы не было помещено ни одного художественно-словесного произведения – ни одного рассказа (в это время уже народилась новая художественная проза Алексея Ремизова, Андрея Белого и Федора Сологуба) и ни одного стихотворения. Наконец, в 1901 году появилась первая ласточка: в этом году были напечатаны стихотворения петербургских поэтов, настоящих поэтов – К. Бальмонта, Зинаиды Гиппиус, Федора Сологуба и… Н. Минского и Д. Мережковского. Эта ласточка весны не сделала по той простой причине, что она была не только первая, но и… последняя (сам собой напрашивается вопрос: не были ли напечатаны эти стихотворения из-за художественного обрамления их Бенуа, Бакстом и Лансере?). И даже тогда, когда, очевидно, по настоянию Дягилева и других сотрудников, более чутких к современной поэзии, на страницах «Мира искусства» появились Валерий Брюсов и Андрей Белый, их поэтические произведения игнорировались и печатались только их случайные теоретические рассуждения.
Литературный отдел публиковал не произведения словесного искусства, а только критические статьи о произведениях. Впрочем, и критический отдел был не особенно значителен и лишний раз свидетельствует о том, что Философов проглядел новую поэзию. По крайней мере, в 1900 году появилась такая оценка московских поэтов: «Г. Бальмонт владеет плавным, но не всегда выразительным стихом, несколько чуждым поэтического движения (?); стих Ив. Коневского, не чуждый поэтического движения (?), выразителен, но уродлив; г. Брюсов писал бы вероятно недурно, если бы свои несложные настроения выражал не таким притязательным стихом». Рецензируя Ивана Коневского, «Мир искусства» приводит очень удачные, истинно поэтические выдержки из него… в подтверждение своей мысли о безграмотности поэта. В сборнике Коневского «Мечты и думы» «язык до того безграмотен, стиль неряшлив и последовательность самых мыслей до того уродлива, что чтение книжки и чрезвычайно трудно и неприятно». Эта оценка, которую, действительно читать «неприятно», была два года спустя исправлена Валерием Брюсовым в его статье «Мудрое дитя», но факт остается фактом: «Мир искусства», или, вернее, редактор его литературного отдела, не понял совершенно поэзии, не увидел в ней ничего и не сыграл в русской поэзии той роли, какую он должен был сыграть…
Значит ли из сказанного, что Д. В. Философов не мог собрать в литературном отделе писателей с талантом? – Достаточно вспомнить имена литературных сотрудников даже одного первого года (а впоследствии список имен и еще более расширился), – Бальмонт, Гиппиус, Мережковский, Розанов, Владимир Соловьев, Федор Сологуб, – чтобы говорить о блестящем составе писателей с большими не только именами, но и с талантами. Но… за исключением одного случайного номера 1901 года со стихотворениями, К. Бальмонт поместил только статью о… художнике Фр. Гойе («Поэзия ужаса») и о драме Кальдерона «Поклонение Кресту» и Федор Сологуб единственный очерк о Пушкине («К всероссийскому торжеству»), а Владимир Соловьев с негодованием и с возмущением вышел из состава сотрудников «Мира искусства» после специального пушкинского номера. 26 мая 1899 года исполнилось сто лет со дня рождения Пушкина, и «Мир искусства» решил отпраздновать это событие особым номером. По тому, какой культ Пушкина был у Дягилева, по тому, как любил Философов рассказывать об их знаменитом соседе по имению, который приезжал в Богдановское и с которым мальчик Философов, отец Дмитрия Владимировича, был знаком, – можно было думать, что пушкинский номер «Мира искусства» будет особенно блестящим, интересным и значительным. Дягилев лично действительно все сделал для этого: он пересыпал номер репродукциями с картин художников пушкинской эпохи (графа Толстого, О. Кипренского, А. Венецианова, А. Алексеева, А. Легашева, М. Теребенева, Н. Чернецова, Гр. Чернецова, А. Нотбека, В. Тропинина, Г. Рейтерна, К. Брюллова, К. Зеленцова, А. Орловского) и поместил очень интересную статью в хронике «Иллюстрации к Пушкину»[32]32
В этой статье Дягилев, между прочим, защищал субъективный принцип иллюстрирования и писал: «Принимая объективность иллюстратора за главную цель его деятельности, мы суживаем его рамки и приводим задачу его к невозможным затруднениям. Требовать, чтобы иллюстрация выражала душу поэта, сокровенные его мысли, это значит требовать дополнений к творчеству поэта, как будто его надо дополнять и как будто в этом интерес. Единственный смысл иллюстраций заключается как раз в ее полной субъективности, в выражении художником его собственного взгляда на данную поэму, повесть, роман. Иллюстрация вовсе не должна ни дополнять литературного произведения, ни сливаться с ним, а наоборот, ее задача – освещать творчество поэта остро индивидуальным, исключительным взглядом художника, и чем неожиданнее этот взгляд, чем он ярче выражает личность художника, тем важнее его значение. Словом, если бы сам автор увидел иллюстрации к своей поэме, то вовсе не было бы ценно его восклицание: „Да, я именно так это понимал!“, но крайне важно: „Вот как вы это понимаете!“».
[Закрыть]. Но литературно пушкинский номер провалился; Д. В. Философов напечатал статьи В. Розанова («Заметки о Пушкине»), Д. Мережковского («Праздник Пушкина»), Н. Минского («Заветы Пушкина» – может быть, лучшая статья в номере) и Ф. Сологуба («К всероссийскому торжеству»). В этих статьях высмеивалось лицемерное и казенное чествование Пушкина, но ничего положительного взамен этого не давалось, а в статье В. В. Розанова, так возмутившей и Владимира Соловьева и русское общественное мнение, проводилась мысль о глубоком отличии Пушкина от Гоголя, Лермонтова и Достоевского: те «всю ночь писали», а Пушкин «всю ночь играл в карты» – «душа не нудила Пушкина сесть, пусть в самую лучшую погоду, и звездно-уединенную ночь, за стол, перед листом бумаги»; тех трех – она нудила, и собственно абсолютной внешней свободы, «в Риме», «на белом свете они искали как условия, где их никто не позовет в гости, к ним не придет в гости никто».
Другою особенностью литературного отдела, отличавшей его от всех других отделов, было почти полное игнорирование мировой литературы и сосредоточение, притом очень одностороннее, на русских литературных делах. Правда, в самом конце существования «Мира искусства» появляются в большом количестве статьи и заметки Перемиловского о польской литературе, но, за ничтожными исключениями, в этом и заключалось все внимание, которое уделял Философов «мировой литературе».
Художественной литературы – стихов, рассказов – в «Мире искусства» вовсе не было, литературная критика и качественно и количественно была незначительна. Из чего же в таком случае состоял обширный литературный отдел – настолько количественно большой, что он вызывал нарекания со стороны сотрудников-художников?
Д. В. Философов благоговел перед Мережковским и Гиппиус, с которыми находился в интимных дружеских отношениях, и под их влиянием, а также вследствие собственных тяготений, готов был превратить «Мир искусства» в религиозно-философский журнал. Обилие материала этого рода и отодвигало литературу на какой-то второй или даже третий план. При этом интересы Д. С. Мережковского были для Философова дороже чисто журнальных интересов «Мира искусства». Только этим и можно объяснить, что книга Мережковского «Лев Толстой и Достоевский» в течение целых двух лет (1900-го, когда был введен «литературный отдел» – не для Мережковского ли? – и 1901 года) печаталась на страницах журнала. Нет спора, книга Мережковского о Толстом и Достоевском, талантливо и блестяще написанная, была выдающимся событием в литературной жизни того времени, но загромождать страницы журнала печатанием целой книги и тем самым обеднять все остальное содержание литературного отдела… В 1902 году было напечатано «Заключение к статье „Л. Толстой и Достоевский“» Мережковского, и после этого Д. С. Мережковский сходит со страниц «Мира искусства» (в 1903 году была напечатана его небольшая статья «О гигантах и пигмеях»): в 1902 году был основан журнал «Новый путь», по своему направлению гораздо более близкий и Мережковскому и Философову, чем «Мир искусства», и Мережковский более не нуждался в услугах «Мира искусства»… «Новый путь» заставил и Философова, с одной стороны, охладеть к «Миру искусства» и, с другой стороны, обращаться к другим литераторам, – в 1902 году и появляются Валерий Брюсов и Андрей Белый…
Был в «Мире искусства» и другой Мережковский, но только без его яркого и бесспорного таланта – Н. М. Минский, автор «мэонической» идеи, всю жизнь развивавший свои же два стиха:
Нет двух путей добра и зла, —
Есть два пути добра.
Его «Философские разговоры», длиннейшие, бесконечные и часто тяжелые, давили собой в течение двух лет «Мир искусства».
Гораздо ближе стоял к редакции «Мира искусства» и более понимал характер журнала талантливейший В. В. Розанов.
В. В. Розанов гораздо более понимал природу журнала – этим, очевидно, и объясняется и то, что он избегал давать большие статьи с бесконечными продолжениями из номера в номер, и то, что он старался давать статьи наиболее разнообразного содержания; вследствие этого Розанов писал то «Заметку о Пушкине», то «О древнеегипетской красоте», то об «Афродите-Диане», то «Еще о смерти Пушкина», то о лекции Вл. Соловьева, то о «занимательном вечере», то об «успехах нашей скульптуры», то об «интересных размышлениях Скабичевского», то о «Пестуме» и «Помпее» и т. д. и т. д.
Следует отметить также постоянное участие в литературном отделе П. Перцова[33]33
Между прочим, в Советской России в 1933 году вышли его «Литературные воспоминания», восьмая глава которых представляет особенно большой интерес, так как она посвящена «Миру искусства».
[Закрыть].
Сценическое искусство: драма, опера и балет
Гораздо более живое отражение, чем поэзия, в «Мире искусства» нашла театральная жизнь – и драма, и опера, и, меньше всего (как это ни странно), балет.
Само собой разумеется, что «Мир искусства» не мог много писать о «казенной» драме, о драме императорских театров – там продолжала царить старая рутина, и уступки времени производились медленно и постепенно. Все же о новых постановках, о новых веяниях и в казенной драме мы читаем и у Гиппиус (о постановке «Царя Бориса» графа А. Толстого в Александрийском театре), и у Дягилева, и у Философова, и у Розанова, и у Бенуа, и у Мировича… Очень много внимания уделил «Мир искусства» новым постановкам Софокла и Еврипида в Александрийском театре – особый интерес «Мира искусства» к этим пьесам вызывался тем, что они шли в переводе Д. С. Мережковского. Для Дягилева были мало убедительны эти «случайные постановки» с уступками современности и «декадентству» – «все это лишь тепловатые и неубедительные потуги на современность, без ясного представления, в чем она действительно заключается и каковы ее требования. Современничать нетрудно, но разгадать, в чем состоят глубокие запросы современной культуры – дело сложное, а потому наши театральные культуртрегеры предпочли не углубляться и принять лишь современный наряд, оставаясь в глубине без всякой почвы, действуя au jour le jour[34]34
Изо дня в день (фр.).
[Закрыть], с единым убеждением, что та слава, которой они уже добились за введение на сцену так называемых „декадентских обстановок“ – достаточно значительна и тяжела…»
Основание «Мира искусства» совпало с основанием другой частной антрепризы – Московского Художественного театра, всколыхнувшего всю театральную жизнь и ставшего одним из самых крупных событий русской культуры на пороге XX века.
Масштаб и значение этого события сразу были оценены «Миром искусства», который все шесть лет непрестанно и с большим вниманием и интересом следил за развитием жизненного процесса Московского Художественного театра. Предоставив своим сотрудникам полную свободу высказывания и критики – внутренняя, настоящая свобода была не пустым словом в «Мире искусства», – указывая порой на опасности и подводные камни «чеховского театра», редакция все время считалась с Московским Художественным театром, как с крупнейшим событием, которое может оказать значительное влияние на все искусство.
Первая статья – П. Гнедича – о Художественном театре появилась в 1900 году и содержала в себе жесточайшую критику старого условного театра и восторженнейшие дифирамбы «театру будущего», как очень выразительно назвал статью П. Гнедич. «Каждому театру, идущему по новой дороге, – писал П. Гнедич, – предстоит разрешение трех задач: 1) отречься от прежней рутины навсегда, бесповоротно; 2) на смену рутине внести на сцену живую жизнь, реальную, неприкрашенную, полную того настроения, которого желает автор, и 3) суметь взять от реального искусства то, что действительно характерно, красочно и образно, – следовательно, и художественно». Все эти задачи, по мнению критика, разрешены Московским Художественным театром в чеховском репертуаре (и вообще в современных, но не в костюмных или исторических пьесах), и он, не обинуясь, произносит по тем временам (1900 год!) смелую фразу: «Постановка „Дяди Вани“ и „Чайки“ – эра в сценическом искусстве».
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?