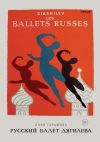Текст книги "Дягилев. С Дягилевым"

Автор книги: Сергей Лифарь
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Дягилев – чиновник особых поручений при директоре императорских театров. – Издание «Ежегодника императорских театров»
В июле 1899 года князь С. М. Волконский был назначен директором императорских театров, а 10 сентября губернский секретарь С. П. Дягилев стал его чиновником особых поручений. Они знали друг друга раньше – в самом начале 1899 года (в третьем и четвертом номере) князь Волконский поместил в «Мире искусства» свою статью «Искусство», которою началось и которою кончилось его сотрудничество в журнале Дягилева.
Появление в дирекции императорских театров Дягилева – молодого двадцатисемилетнего красавца с белой прядью в черных волосах (из-за этой седой пряди его прозвали «шеншеля») произвело большое впечатление на многих артисток, – в том числе и на самую яркую и могущественную звезду русского императорского балета.
Сейчас узнала я,
Что в ложе шеншеля,
И страшно я боюся,
Что в танце я собьюся.
Так напевала Матильда Кшесинская, танцуя свою вариацию в балете «Эсмеральда». Ее увлечение Дягилевым было очень заметно и никого не удивляло; многие танцовщицы императорского балета подпевали ей:
И страшно я боюся,
Что в танце я собьюся.
Кшесинская кланялась в сторону «шеншелей» Дягилева, Дягилев подчеркнуто ей аплодировал. Они очень дружили: Дягилеву льстило внимание прима-балерины, которую дарили своим вниманием государь и великие князья и о танцах которой говорила вся Россия, Кшесинская – дорожила одобрением известного своим художественным вкусом и авторитетом молодого красивого балетомана, редактора лучшего художественного журнала и устроителя выставок, пользовавшихся постоянно высочайшим вниманием.
Чиновников особых поручений при директоре императорских театров было много (в 1899 году – семь), и делать им, конечно, было нечего, но князь Волконский хотел использовать волю, энергию и художественную непогрешимость Дягилева и действительно давал ему «поручения»: Дягилев не только появлялся в директорской ложе со своим моноклем…
Первым «поручением» директора чиновнику особых поручений было редактирование «Ежегодника императорских театров». До этого «Ежегодник» казенно-банально редактировался Молчановым, мужем знаменитой артистки Савиной. «Когда Дягилев, – вспоминает князь С. М. Волконский, – поступил в дирекцию, Молчанов сам догадался отказаться от редактирования „Ежегодника“, предвидя, что он будет передан Дягилеву, и втайне надеясь, что этот „декадент“ на казенном издании сорвется. Все ждали появления первого номера. „Мир искусства“ раздражал рутинеров, чиновников от искусства. Его свежесть, юность клеймились как нахальство; группа молодых художников, в нем работавших, впоследствии приобретших такую громкую и почетную известность, как Александр Бенуа, Сомов, Бакст, Малютин, Серов, Малявин, Рерих и другие, высмеивались печатью с „Новым временем“[42]42
Нужно сказать, что Дягилев не оставался в долгу перед «Новым временем», и Философов, например, напечатал (за подписью Д. Бежаницкого – один из псевдонимов Д. В. Философова) в «Мире искусства» следующую поздравительную телеграмму:
«Выражая благодарность за приглашение принять участие в чествовании А. С. Суворина, приношу мои поздравления „Новому времени“. Желаю от души, чтобы, оглянувшись на пройденный путь, эта значительнейшая русская газета наконец осознала, что за всю четверть века ее деятельности, развитие русского искусства шло помимо и наперекор взглядам „Нового времени“.
Редактор журнала „Мир искусства“ Сергей Дягилев».
[Закрыть] во главе, а предводитель их Дягилев именовался прощелыгой, ничего в искусстве не понимающим. Можно себе представить, как было встречено вступление Дягилева в дирекцию… Песенка, готовившая публику к появлению первого номера „Ежегодника“ в обновленной редакции, была недоброжелательная, глумительная. Наконец, он вышел, этот первый номер. Он ошеломил тех, кто ждал провала, и превзошел ожидания тех, кто верил в его успех. Первый номер дягилевского „Ежегодника“ – это эра в русском книжном деле. Это было начало целого ряда последующих изданий, отметивших собой эпоху русской книги. „Аполлон“, „Старые годы“, „Новое искусство“, книги Лукомского, монографии Бенуа, издания „Сириуса“, – да можно ли перечислить все, что дало прекрасного искусство книги в России за последние двадцать лет перед революцией, – все это вышло из того источника, который открыл Дягилев своим „Ежегодником“».
Князь Волконский, несомненно, преувеличивает значение дягилевского «Ежегодника императорских театров». Его оценка была бы совершенно справедлива, если бы «Ежегодник» за 1899/900 год (с приложением отчета за сезон 1898/99) вышел не в конце 1900-го, а, скажем, в начале 1898 года, когда еще не существовал «Мир искусства»: Дягилев действительно создал эру в русском книжном деле, но не своим «Ежегодником», а своим «Миром искусства». «Эра» «Ежегодником» была создана, но эра гораздо более скромная – в истории «Ежегодников» после Дягилева, конечно, нельзя было издавать так, как издавал до него А. Е. Молчанов (один из преемников Дягилева, барон Дризен, и старался поддержать «Ежегодник» на дягилевской высоте).
«Ежегодник» Дягилева действительно был замечательным edition de luxe[43]43
Роскошным изданием (фр.).
[Закрыть] (и в этом отношении «зарезал» дирекцию, так как обошелся вдвое дороже, чем молчановские выпуски) и замечательным во всех отношениях: и по богатству и разнообразию содержания, и по количеству и качеству репродукций, и по техническому книжному совершенству издания.
Помимо обязательного «Обозрения деятельности императорских С.-Петербургских театров» (русская и французская драма, балет, опера), «Обозрения деятельности императорских театров», репертуара императорских театров, юбилеев, некрологов, всевозможного рода «списков» (список пьес, список артистов, список личного состава и т. д., и т. д.) и проч., в «Ежегоднике» было множество интересных статей и очерков, из которых на первое место надо поставить значительнейшую и прекрасную, большую статью (в 91 страницу) B. Светлова «Исторический очерк древней хореографии» и небольшой очерк Александра Бенуа «Александринский театр». Большее значение, чем другим многочисленным очеркам, я лично придаю прекрасно составленному справочнику – «Список балетов, данных на императорских C.-Петербургских театрах с 1828 года» – и неоднократно прибегал к нему, когда писал свою книгу о танце.
Но, конечно, наибольший интерес, наибольшее значение и наибольшую ценность представляет художественное оформление «Ежегодника». Книга была богато украшена виньетками, концовками, заставками, факсимильными воспроизведениями афиш и программ XVIII века, репродукциями в тексте и вне текста. Прекрасны репродукции hors texte[44]44
Вне текста (фр.)
[Закрыть] – портрета Г. X. Грота императрицы Елизаветы Петровны в маскарадном костюме, портретов А. Лосенко – Ф. Волкова и А. П. Сумарокова (гравюры Я. Уокера), В. Серова – портрета И. А. Всеволожского, Л. Бакста – портрета А. Е. Молчанова, И. Репина – портретов Ц. Кюи и Ге, Л. Бакста и К. Сомова – трех программ спектаклей в императорском Эрмитажном театре, Ленбаха – портрета Рихарда Вагнера, И. Браза – портрета М. Г. Савиной и прочее. Полно и интересно иллюстрированы шедшие в императорских театрах пьесы: «Отелло» Шекспира, «Эдип-царь» Софокла, «Накипь» П. Д. Боборыкина, «Cyrano de Bergerac»[45]45
«Сирано де Бержерак» (фр.).
[Закрыть] Ростана, «De la lune au Japon[46]46
«От Луны до Японии» (фр.).
[Закрыть]»H. Лопухина, «Испытание Дамиса» и «Времена года» А. К. Глазунова, «Арлекинада» Дриго, «Ученики Дюпре» М. Петипа, «Эсмеральда» Ц. Пуни, «Сарацин» Ц. Кюи, «Богема» Пуччини, «Тристан и Изольда» и «Тангейзер» Вагнера, «Троянцы в Карфагене» Г. Берлиоза, «Юдифь» Серова, «Эгмонт» Гёте и проч. Особенно интересно была иллюстрирована новая комедия Н. Борисова «Бирон» (барон Н. В. Дризен почему-то приписывает ее А. В. Половцову и переносит ее из эпохи Анны Иоанновны в эпоху Елизаветы Петровны): Дягилев воспроизвел параллельно действующих лиц этой пьесы – Бирона, князя А. М. Черкасского, В. К. Тредьяковского, графа Миниха, графа А. П. Бестужева-Рюмина – по старинным и редким портретам и по современным фотографиям артистов, исполнявших эти роли (частично этот интересный прием проведен Дягилевым и при иллюстрировании других пьес). Любопытны рисунки к балетам И. А. Всеволожского, предшественника князя С. М. Волконского… Интересно было также, благодаря сотрудничеству дягилевских художников, превращение простых и банальных фотографий артистов в художественные произведения: они рисовали на фотографиях декоративный фон, ретушировали фотографии и превращали их в постановочные фрагменты.
Князь С. М. Волконский, новый директор, приобретал себе ценного сотрудника: «Через Дягилева, – говорит он, – я заручился сотрудничеством многих художников в деле постановок. Аполлинарий Васнецов дал рисунки декораций и костюмов для „Садко“. Это вышло красиво и ново. В своей посмертной книге („Музыкальная летопись“) Римский-Корсаков удостаивает эту постановку добрым словом: это важно на страницах, которые переворачивать трудно, – так они колючи… Я завел сношения и с некоторыми другими художниками дягилевского кружка. Дело пошло весело (насколько вообще может что-нибудь идти весело на жгучей почве, а театральная дирекция была почва жгучая), когда вдруг произошло столкновение».
Вместо последних двух слов, хочется написать другие: когда вдруг… князь Волконский обнаружил безволие и слабодушие и не сберег Дягилева.
Поручая редактирование «Ежегодника» молодому чиновнику особых поручений – редактору «Мира искусства», князь Волконский, зная, что вызывает этим сильнейшее недовольство чиновничьей дирекции – все же дал эту работу и твердо, мужественно, несмотря на все протесты, выдержал до конца и дал возможность Дягилеву исполнить данное ему поручение. Но твердости князю Волконскому хватило только на один раз, и он сорвался на втором «поручении». Предоставим рассказывать об этом втором «поручении» и о «столкновении» самому виновнику «столкновения», попутно дополняя и исправляя его рассказ.
«Дягилев, – пишет в своих воспоминаниях князь Волконский, – имел талант восстановлять всех против себя. Начался тихий бунт в конторе, за кулисами, в костюмерных мастерских. Я не обращал на это внимание, ждал, что художественный результат работы заставит людей пройти мимо тех сторон его характера, которые они называли заносчивостью и бестактностью. Однажды я передал управляющему конторой письменное распоряжение о том, что постановка балета Делиба „Сильвия“ возлагается на Дягилева. Это должно было быть на другой день напечатано в журнале распоряжений. Вечером приходят ко мне два моих сослуживца из конторы и говорят, что распоряжение вызовет такое брожение, что они не ручаются за возможность выполнить работу. Я уступил, – распоряжение в журнале не появилось. Я сказал Дягилеву, что вынужден взять свое слово обратно».
Здесь необходимо сделать два исправления. Первое: всякий, кто знаком с русскими казенными учреждениями, да еще ведомства императорского двора, знает, что там могли происходить «тихие бунты», но чтобы дело могло доходить до такого «брожения», что «сослуживцы» князя Волконского (кстати сказать, князь Волконский был директором театров, у него в конторе могли быть «служащие», но никак не «сослуживцы») не ручались бы «за возможность выполнить работу»… Второе. Из слов князя Волконского можно заключить, что он решил дать постановку «Сильвии» Дягилеву и в тот же день вечером, «уступая» настояниям своих двух «сослуживцев», отменил свое решение. Может быть, официально так и было, но фактически князь Волконский переменил свое решение не тотчас же, а в процессе уже кипучей работы над «Сильвией». Так позволяет думать и заметка о «Руслане и Людмиле» Александра Бенуа, появившаяся в 1904 году в «Мире искусства». Говоря о предполагавшихся реформах князя Волконского, Александр Бенуа замечает, что «кратковременность его директорства не позволила ему провести всех намеченных реформ. Как на пример его стремления, можно указать на видоизменение постановки „Евгения Онегина“ и на новую постановку „Садко“, по рисункам Ап. Васнецова, при которой впервые была сделана попытка привлечь к постановкам не профессионалов сцены, а художников извне, настоящих художников. Полностью программа князя Волконского должна была проявиться в постановке балета „Сильвия“ Делиба. К ней была призвана целая группа художников, долженствовавших разработать сценариум этого гениального балета во всех подробностях, – однако вялость и трусливость дирекции положила крутой конец этой затее, и здание, которому был положен фундамент, так и осталось невыстроенным».
«На другое утро, – продолжает свой рассказ князь Волконский, – получаю от него письменное заявление, что он отказывается от заведования „Ежегодником“. Вслед за этим – пачка заявлений от художников, что они отказываются работать на дирекцию. Был ли я прав или не прав, отказавшись от своего слова, это другой вопрос, но допустить со стороны чиновника моего ведомства такую явную оппозицию я не мог. Я потребовал, чтобы он подал в отставку. Он отказался. Тогда я представил его к увольнению без прошения. Вот тут началась возня».
И тут опять не столько неточности, сколько недоговаривания. И прежде всего – такое ли большое преступление по службе совершил Дягилев, отказавшись от заведования «Ежегодником»? Ведь когда Молчанов отказался от этого заведования, князь Волконский, которому был только приятен этот отказ, не предложил ему уйти в отставку… И ответствен ли Дягилев-чиновник за то, что свободные неслужащие художники прислали дирекции «пачку заявлений» с отказом для нее работать? Но князь Волконский не договаривает двух более важных вещей: во-первых, что он приехал к Дягилеву и уговаривал его выйти в отставку, а не вызвал в свой директорский кабинет и потребовал выхода в отставку (это оказало большое влияние на дальнейший ход дела) и во-вторых, что он не раскрывает всего значения слов «увольнение без прошения». «Увольнение без прошения», увольнение по знаменитому «третьему пункту» означало в то время страшное для всех клеймо: чиновник, уволенный «по третьему пункту», лишался на всю жизнь права поступления на какую бы то ни было государственную службу и всю жизнь ходил с этим волчьим паспортом… Этого волчьего паспорта для Дягилева и стал добиваться князь Волконский, ценивший, по его словам, в Дягилеве «глубокого знатока искусства во всех его проявлениях».
Послушаем дальше князя Волконского: «Дягилев человек большой воли, способный перешагнуть через трупы, идя к своей цели. Все было пущено в ход: Кшесинская, великий князь Сергей Михайлович; дошли до государя. И вот что замечательно, – те самые люди, которые были против меня из-за Дягилева, теперь были за Дягилева и против меня. О, род людской! Война завязалась цепкая. Приходит ко мне генерал Рыдзевский, заменявший больного барона Фредерикса, министра двора, и показывает письмо государя, в котором он просит задержать увольнение Дягилева до разговора с ним».
Казалось, «цепкая война» могла окончиться миром: враги Дягилева, которым уступал слабовольный директор, стали на сторону Дягилева, государь просил задержать увольнение Дягилева… Но тут князь Волконский заупрямился и проявил большую не твердость, а капризную настойчивость в своем упрямстве. Он решил выиграть войну – и выиграл ее… весьма странными способами. Продолжаем его рассказ о визите генерала Рыдзевского и разговоре с ним:
«Я сейчас с разговора и добился согласия на увольнение. Хорошо, что вы дали мне копии с ваших писем Дягилеву, я их взял с собой и показал. Государь сказал: „Ну, если так, то печатайте приказ об увольнении“.
– Так что дело кончено?
– Разве можно поручиться! Приказ в „Правительственном вестнике“ может появиться только послезавтра. В течение завтрашнего дня может последовать новое распоряжение. Сергей Михайлович может забежать и испросить отмены… Но я намерен сказать дома, что если будет ко мне телефон, то чтобы отвечали, что меня дома нет и неизвестно где я.
На другой день ко мне неистово звонили, спрашивая, не у меня ли генерал Рыдзевский. На следующий день приказ об увольнении Дягилева был напечатан. После этого мы с Дягилевым не кланялись».
Князь С. М. Волконский значительно упрощает переговоры с отставкой Дягилева. И великий князь Сергей Михайлович, и генерал Рыдзевский не один раз, а несколько раз ездили в Царское Село к государю, и император Николай II несколько раз менял свою резолюцию: «простить», «уволить», «простить», «уволить», «простить», «уволить»… После первого же объяснения великого князя Сергея Михайловича, особенно после того как великий князь рассказал, что весь разговор князя Волконского с Дягилевым происходил на квартире последнего, государь встал всецело на сторону Дягилева и сказал:
– Я бы на месте Дягилева в отставку не подал бы.
Последнее решение самодержца было также в пользу Дягилева, но мы знаем, каким темным способом генерал Рыдзевский напечатал приказ об отставке Дягилева «по третьему пункту».
Чувствуя свою вину перед Дягилевым – он же поддерживал его в намерении не подавать в отставку (правда, Дягилев с его непреклонностью и не нуждался ни в какой поддержке), – государь решил загладить свою вину и просил государственного секретаря А. С. Танеева взять к себе на службу Дягилева. Когда вернувшийся в это время из-за границы министр высочайшего двора барон Фредерикс пытался государя убедить в том, что высочайшее желание невыполнимо, так как Дягилев уволен с волчьим паспортом и потому не имеет права нигде служить, государь воскликнул: «Какие глупые законы!» и… велел принять Дягилева на службу.
В своей книге «The Russian Ballet[47]47
«Русский балет» (англ.).
[Закрыть] 1921–1929» W. A. Propert [Проперт] напечатал интересное письмо Дягилева от 17 февраля 1926 года, отвечавшего ему на его два вопроса – о службе в дирекции императорских театров и об отношении его к Айседоре Дункан. На первый вопрос Дягилев отвечает:
«С 1899 года по 1901 год я был чиновником особых поручений при директоре императорских театров. Я был молод и полон идей. Я издавал в течение одного года „Ежегодник императорских театров“ (это было прекрасно). Я хотел направить театры на путь, по которому я следую и по сей день. Это не удалось! Разразился феноменальный скандал, вмешательство великих князей и просто князей, роковых женщин и старых министров, словом, чтобы меня уничтожить, различные влиятельные лица четырнадцать раз докладывали обо мне государю императору. В течение двух месяцев Петербург только и говорил об этом. Благодаря этому директор императорских театров, тотчас после меня, вылетел сам. К удивлению всей бюрократической России, через неделю после моего падения. Император дал приказ прикомандировать меня к собственной своей канцелярии. Вскоре после того я покинул Россию. Император меня не любил, он называл меня „хитрецом“ и однажды сказал моему кузену, министру торговли, что он боится, как бы я не сыграл с ним когда-нибудь скверной шутки. Бедный император, насколько его тревога была не по адресу! Было бы лучше, если бы он распознал людей, которые действительно сыграют с ним фатальную шутку»[48]48
Для истории Русского балета большой интерес представляет и продолжение письма Дягилева – его ответ на второй вопрос В. Проперта: «Я хорошо знал Айседору в Петербурге и присутствовал с Фокиным на ее первых выступлениях. Фокин был от них без ума, и влияние Дункан на него стало базой для всего его творчества. Я знал всю жизнь Айседоры, так же хорошо в Венеции, когда она хотела выйти замуж за Нижинского, как и в Монте-Карло, где она танцевала только с Мясиным и объясняла ему, что во всяком танце дело только в одном: „Ничего, кроме главных движений“. Айседора нанесла непоправимый удар классическому балету императорской России».
[Закрыть].
Недолго после увольнения Дягилева оставался на своем директорском посту князь С. М. Волконский – он споткнулся на тех же Кшесинской и великом князе Сергее Михайловиче. Сергей Михайлович настаивал на том, чтобы он снял наложенный на Кшесинскую штраф за неподчинение директорской воле – князь С. М. Волконский заупрямился, – и великий князь добился того, что в июле 1901 года князю Волконскому пришлось уйти в отставку.
Закончим рассказ князя Волконского об его отношениях с Дягилевым:
«…После этого мы с Дягилевым не кланялись. Но его громкие успехи радовали меня, не с одной только художественной точки зрения, но и потому, что они утирали нос хулителям его.
Когда через десять лет, после всех своих выставок, блистательных спектаклей он приехал со своим балетом в Рим, однажды в ресторане Умберто я подошел к столу, где он со многими своими сотрудниками обедал, и сказал: „Сергей Павлович, я всегда искренно восхищался вашей деятельностью, но искренность моя была бы не полная, если бы я не воспользовался случаем высказать вам ее лично“.
– Мы так давно с вами не видались, – ответил он, – я так рад пожать вашу руку.
Так кончился „дягилевский инцидент“».
Для тех, кто знает непримиримость в некоторых случаях Дягилева, может показаться странной такая мягкость и незлопамятность Дягилева, но объяснение ее заключается не только в разных настроениях Сергея Павловича, а и в том, что он мало дорожил своей службой, выше всего ценя независимость «неслужащего дворянина», и лишение службы в дирекции императорских театров не было для него ни в какой мере ударом. Но эта служба сыграла свою роль, сблизив Дягилева с артистами (к этому времени относится и его знакомство с М. М. Фокиным, с которым он много говорил о необходимости балетной реформы) и введя его в самый центр театра и театральных вопросов.
Последние годы «Мира искусства» и историко-художественная выставка русских портретовОтъезд Дягилева за границу и его статьи в «Мире искусства». – Охлаждение к современному и обращение к старому искусству
После своего выхода в отставку Дягилев полтора года не ходил в театр; правда, вскоре после этой истории, в конце весны 1901 года он уехал за границу и эти два года – 1901–1902 – больше провел в Западной Европе, чем в России. Сергей Павлович горячо переписывался с редакцией, давал свои указания, присылал материал, но больше возложил фактическое редактирование «Мира искусства» на Бенуа и Философова. Пока еще малозаметно, но Дягилев уже отходил от «Мира искусства».
В первое полугодие 1901 года Дягилев написал только одну большую статью – о выставках; в ней он, между прочим, утверждал, что Репин по существу гораздо ближе к своим «врагам» – к «Миру искусства», чем к своим друзьям – передвижникам.
Из-за границы Дягилев прислал всего две статьи – «Парижские выставки» и «Выставки в Германии», – но эти статьи, написанные немного тяжеловато, так длинны, что стоят своим объемом очень и очень многих… Впрочем, дело не в одном объеме их, а и в их значительности. Вместе со статьями Дягилев посылал и обширный художественный материал для репродукций – Аман-Жана, А. Бенара, Э. Англада, Ш. Котте, А. Доше, М. Дени, Симона, Цорна, Эдельфельта, Зулоаги, Кариэса, де ла Гандара, Лейбла, Лейстикова, Ольбриха и т. д.
Парижские выставки – и в салоне «Champs Еlуseés»[49]49
«Елисейские поля» (фр.).
[Закрыть] и даже в салоне «Champ de Mars[50]50
«Марсово поле» (фр.).
[Закрыть]» произвели на Дягилева скорее отрицательное впечатление, несколько разочаровали его в постаревшем и поседевшем молодом современном искусстве (это разочарование значительно повлияет на отход Дягилева от современной живописи и заставит его больше обратиться к старому искусству). «Главная отрицательная черта всех современных полупередовых выставок, – писал он, – заключается в том обильном количестве полупередового искусства, которое их заполняет. Кажется, что сделано крупное открытие – найден рецепт „модернизма“. За последние годы и особенно после всемирной выставки прибегание к этому рецепту сильно распространилось. Даже в самой зеленой молодежи искания как бы приостановились, все стали осторожны, разумны, осмотрительны, не слишком передовиты, но и не отсталы. Что-то не видно ошибающихся; кажется, Claud’ы из „Œuvre’a“[51]51
Claud из «Œuvre» – художник Клод Лантье из романа Э. Золя «Творчество». – Ред.
[Закрыть] более невозможны, что Коро, Моне и Бенар уже достаточно навоевали, а потому пора и отдохнуть немного. Бесчисленные картины „Champ de Mars’a“ тянутся длинными лентами по залам и точно их на аршины разрезать можно. Всё маленькие Уистлеры, Казены да Симоны, серые, „полные настроения“ пейзажи, портреты – всё „симфонии в сером и зеленом“, да суровые бретонцы, то ловящие, то едящие рыбу. Когда мне приходилось говорить с художниками в Париже о Салоне и бранить его за бесцветность, они удивлялись: „Разве он плох! нам кажется, что он как всегда!“ Вот в этом-то „как всегда“ и дело».
Зулоага, Гандара, Морис Дени и Англада привели его в настоящий восторг. В Зулоаге Дягилев сразу признал «огромного мастера, силача, каких мы давно не видали».
Не простое объективное констатирование падения живого интереса к современному искусству, а и личная нотка, перенесение на других собственных настроений, объективизация сквозь призму субъективного, чувствуется в заключительных словах этой большой парижской статьи, написанной в июне 1901 года:
«Пусть Бенар, Зулоага, Гандара хороши – этого, пожалуй, и достаточно за один год, хотя бы и для всего мира – нельзя же поминутно требовать гениальных произведений! – но дело теперь не в том: горе, что настоящего увлечения мало, трепещущий огонь не поддерживается, на многих жертвенниках он совсем погас, а сами жертвенники стоят остывшие, прекрасные, неизменные и ненужные».
Пробежим вкратце громаднейшее письмо из Германии – «Выставки в Германии». Оно состоит из трех частей: «Дармштадт», «Дрезден» и «Берлинский Сецессион». Дягилев полемизирует с авторитетнейшим историком живописи Р. Мутером и всячески защищает дармштадтскую «затею» – громко названную «ein Dokument Deutscher Kunst»[52]52
«Документ немецкого искусства» (нем.).
[Закрыть] – построить художественную колонию, как протест против того «бездонного уродства, в котором, не замечая этого, живет большая часть современного общества».
Письмо из Дрездена представляет сплошной дифирамб Дрезденской международной выставке. Не будем останавливаться на отдельных оценках Дягилева – речь идет о старых знакомцах по «Миру искусства».
Отметим только одно нововведение Дрезденской выставки, которое ответило мыслям и настроениям тогдашнего Дягилева и позволило ему с особенной рельефностью высказать свои постоянные любимые мысли – истинный источник его эклектизма:
«Прошлой весной, на собрании участников выставки „Мир искусства“ было сделано предложение, которое вызвало оживленные дебаты: выражено было желание на будущее время к произведениям современных художников прибавлять образцы старинного творчества крупных классических мастеров, и не в виде какого-нибудь отдела старинных картин, а тут же непосредственно рядом размещать произведения Левицкого, Серова, Буше, Сомова и т. д. Мысль эта мне лично тогда казалась значительной в том отношении, что о свободе и безграничности искусства много толкуют, о декадентстве спорят чуть не ежедневно, а здесь была бы ясная и очевидная параллель: если современное искусство действительно лишь упадок, то пусть оно и рассыплется в прах рядом с настоящим мастерством; если же, как мы осмеливаемся предполагать, в нем есть и сила и достаточно свежести, то ему не страшно побывать в таком почетном соседстве. Предложение было принято, и это любопытное состязание должно быть и состоится; но ни одна мысль в наши дни не может считаться новою, и я был немало удивлен, когда увидел в Дрездене подобный же проект, приведенный в исполнение. Должен констатировать, что зрелище получилось необыкновенно парадное. Современное творчество, бывшее в преобладающем количестве, как-то обогатилось, получило санкцию от великих творений классических мастеров. Явилась необычная полнота и закругленность в последовательном ряде Бенара, ван Дейка, Зулоаги, Лейбла, Веласкеса, Уотса и т. д. Никто из них не только не шокировал, но наоборот: они дополняли друг друга и представляли удивительно интересное сопоставление, доказывающее, что для истинного творчества нет ни определенной формы, ни определенных эпох».
В этом письме Дягилев мало говорит об отдельных художниках – одно из немногих исключений составляет незадолго до того умерший французский скульптор Кариэс, выставка которого еще в 1895 году произвела большое впечатление на Дягилева.
Для того чтобы сказать, что Берлинский Сецессион «очень мало значителен», конечно, не стоило писать большого письма; но Дягилев разбирает подробно весь модный «сецессионный» вопрос и доказывает ненужность и нежизненность этого модного увлечения маленькими выставочками в отдельных немецких городах и городках. Их единственный raison d’être[53]53
Смысл существования (фр.).
[Закрыть] Дягилев видит в местном значении (как имеет значение всякая местная газета); но с тех пор, как одни и те же немецкие художники кочуют по разным сецессионам и стараются попасть всюду, пропало и это единственное оправдание их.
Охлаждение к «Миру искусства» и новые планы Дягилева. – План реформы русского национального музея
Из-за границы Дягилев вернулся сильно изменившимся: он стал как-то менее взрывчато энтузиастическим, более скрытным в разговорах, менее оптимистом, менее бурным, а главное – это было совершенно ясно – значительно охладел и к современному искусству и, особенно, к своему «Миру искусства», которым он теперь мало занимается. Но так прочно был уже поставлен на рельсы поезд «Мира искусства» и такие уже опытные и знающие машинисты вели его, что он не только продолжал существовать, но как-то еще расширялся, обогащался новыми сотрудниками и понемногу изменялся.
Нельзя сказать, что Дягилев совсем отошел от «Мира искусства» в это время, но того живого отношения и той энергии, которую он обнаруживал в 1899–1900 годах, уже не было: Дягилев был поглощен другими грандиознейшими планами и идеями, а не «Миром искусства». Такова уж была его натура, что он не мог удовлетворяться одним и тем же, не мог «стать», не мог успокоиться в раз найденном. О своих новых планах он мало говорил – он вообще теперь начинает меньше говорить, но вскрыть их не так уж трудно. Первый план, первая мечта – создать всеобъемлющий русский национальный музей, который бы заключал в себе всю историю русской живописи в такой полноте, какою не обладает ни один народ в Европе; второй план, вторая мечта – написать полную и документированную историю русской живописи, начиная с XVIII века.
Эти планы не остаются отвлеченными, платоническими мечтами – Дягилев прежде всего человек дела, и со всею присущею ему энергиею и настойчивым упорством он принимается за реализацию своих планов. Нужно для этого засесть за кабинетную работу и зарыться в архивах? – Дягилев, не кабинетный человек, зароется в архивах и будет сидеть за письменным столом. Нужно для этого исколесить всю Россию? Дягилев исколесит всю Россию, и наши ужасные почтовые дороги – контраст с барской, а не европейской комфортабельностью железных дорог – не испугают его и не отвратят его от исполнения своего намерения.
О новых планах Дягилева, возникших в 1901 году, можно догадываться по большой статье «О русских музеях» и по маленькой заметке, помещенной в конце 1901 года в «Мире искусства».
Большая работа «О русских музеях» поражает прежде всего своей не журнальностью, не газетностью, а такой документальностью, которая говорит уже о большой предварительной кабинетной и архивной работе, проделанной Дягилевым. Дягилев говорит в ней о русских музеях: о Третьяковской галерее, о Музее Александра III, о Румянцевском музее, но его все время одушевляет одна настойчивая мечта, одна упорная мысль – создание громадного русского национального музея.
Сделав отвод Третьяковской галереи, как музея одной страницы, одного эпизода в истории русской живописи (преимущественно эпохи 1860–1890 годов), а не всей русской живописи, Дягилев переходит к тому музею, который его больше всего занимает и из которого он и хотел бы создать грандиозный русский национальный музей, вмещающий в себя «все русское искусство (живопись и скульптуру) от его начала, то есть от Петра и до наших дней» – Музей Александра III.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?