Текст книги "Человек бегущий"
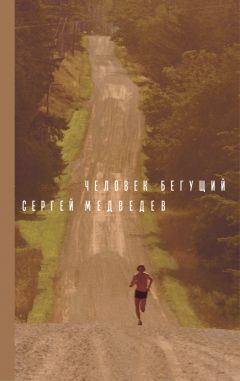
Автор книги: Сергей Медведев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
И наконец, природа – тоже вид допинга. На лыжных или кроссовых забегах в лесу я заключаю тайный союз с деревьями вдоль трассы, чаще всего с осинами и елями. На просмотре дистанции я выбираю самые статные и красивые деревья – обычно они растут группами, по соседству, в отмеченных природой местах – и прошу их дать сил во время гонки; впрочем, помощниками могут быть и камень, и ручей, и скамейка в поле. Не уверен, что они действительно прибавляют скорости, но точно дарят радость узнавания, словно по трассе стоят болеющие за тебя друзья.
А настоящий допинг не раз и не два проходил мимо меня – намеками назывались спортсмены и тренеры, у которых можно было купить «витаминки», я знал пару известных российских любителей, побеждавших на международных стартах, которые были пойманы на использовании кровяного допинга и дисквалифицированы. А остановившись однажды в гостинице с сильными лыжниками перед марафоном «Праздник Севера» в Мурманске, я стучался по номерам в поисках кипятильника – и во многих комнатах не открыли: как мне сказали потом, там гонщики лежали под капельницами. Это были, конечно, их частные амбиции – забежать в десятку, в призы – но сама культура допинга есть порождение советской, а позже российской, спортивной машины. И по большому счету, является одним из тупиков современной цивилизации с ее «биополитикой», по определению Мишеля Фуко, которая превратила спорт – и тело – в придаток больших механизмов государства, идеологии и рынка.
5
Новый ренессанс человеческого тела наступил в 1970-х. На Западе началась социальная революция, вызванная пришествием нового поколения: оно не знало тягот войны, выросло в относительном благополучии и взбунтовалось против прежнего дисциплинарного порядка, потребительского общества и традиционной морали. Хиппи и панки, рок-н-ролл и наркотики, движения против войны во Вьетнаме и за права женщин, цветных, сексуальных меньшинств и угнетенных народов слились в общий поток, пошатнувший патриархальные устои. И, как и первый, исторический, Ренессанс, этот переворот был эмансипацией телесности, в которую главный вклад внесла сексуальная революция: «отчеты Кинси» о сексуальном поведении человека, распространение надежной и доступной контрацепции и открытие женского оргазма радикально изменили наше представление о сексе. Отныне он был отделен от репродукции и становился делом удовольствия и индивидуального выбора каждого и в особенности каждой: женщины получали права на собственное тело. В коммунах хиппи и на фестивальном поле Вудстока, на антивоенных маршах и на баррикадах Сорбонны молодые тела требовали свободы – от призыва в армию и от семейной жизни, от диктата бюрократов и профессоров, от дисциплинирующей одежды и от стрижки волос.
Важной частью новой телесности стала аэробика: женщины, а за ними и мужчины разных возрастов и комплекций облеклись в лосины и трико веселых расцветок и вместе с секс-символом поколения Джейн Фонда стали делать перед телеэкраном свободные и порой двусмысленные телодвижения – на подмогу пришел только что изобретенный японцами видеомагнитофон, который отвязал человека от диктата телевидения и коллективного просмотра. Но, пожалуй, ни в чем американская страсть к свободе, индивидуализму и покорению пространства не проявилась так ярко, как в беговой революции 1970-х. Отсчет здесь обычно ведут от телевизионной трансляции марафона на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, который выиграл американец Фрэнк Шортер. Телезрителям запомнился драматичный финиш, когда перед Шортером выскочил на трассу и первым выбежал на стадион неизвестный человек в беговой форме, которого публика приняла за лидера забега, и комментатор на телеканале ABC, писатель Эрих Сегал (сам бегун-любитель), закричал в прямом эфире на всю Америку: „It’s a fraud, Frank!“55
Фрэнк, это обман!
[Закрыть] Этот эпизод познакомил миллионы американцев с понятием «марафон», который из состязания для суперменов превратился в понятную человеческую историю.
Вместе со Шортером на той Олимпиаде на дистанции 5000 метров бежала другая легенда американской легкой атлетики, молодой Стив Префонтейн, восходящая звезда, харизматик и любимец публики, бегавший отчаянно и бескомпромиссно, всегда на первой позиции от старта до финиша, и бивший один за другим все национальные рекорды. Ему прочили мировую славу, но он погиб в автокатастрофе в возрасте 24 лет, и сегодня по всей Америке ему поставлены памятники и проводятся беговые мемориалы в его честь.
Вслед за своими кумирами побежали десятки миллионов американцев, включая тогдашнего президента Джимми Картера (да и все последующие хозяева Белого дома занимались бегом за исключением, естественно, Дональда Трампа, который предпочитал гольф) – к концу десятилетия в США регулярно бегали 25 миллионов человек. Повинуясь императиву движения, заложенному еще пионерами на своих фургонах, что двигались на Запад в поисках земли обетованной, Соединенные Штаты стали первой в мире нацией, освоившей автомобиль, а затем и первой в мире бегущей нацией. Джоггинг сделался образом жизни, национальным хобби американцев, от колледжа до глубокой старости, евангелием, которое они несли в мир. Помню, как потрясло мое детское воображение зрелище пробежки по Садовому кольцу охранников из американского посольства. Для Москвы конца 1970-х это был культурный шок: машины притормаживали, люди оборачивались, когда вниз по Новинскому бульвару, тогда еще улице Чайковского, неторопливо, трусцой бежали четыре—пять морпехов, из них пара чернокожих – накачанные, сытые, в ослепительно-чистых майках и в шортах, всегда в шортах, в любую погоду; в их беге был вызов гранитной серости Москвы эпохи позднего социализма, недоступная простым смертным свобода. Это инопланетное зрелище, наверное, повлияло на то, что подростком я начал свои регулярные ночные пробежки.
Беговая революция в США запечатлена в главном американском эпосе конца ХХ века, фильме «Форрест Гамп»: спасаясь в детстве от злых мальчишек, Форрест чудесным образом избавляется от ортезов и костылей и начинает бежать под крик своей подружки Дженни: „Run, Forrest, run!“ Он бежит по полю американского футбола, получив роль «раннингбека», игрока, несущегося с мячом по направлению к задней линии противника, бежит во Вьетнаме, спасая в джунглях из-под огня бойцов своего взвода, а утратив смысл жизни, он встает с качалки на террасе своего дома в Алабаме и принимается бежать без видимой цели и причины. Он бежит через свой город, графство, штат, через всю Америку, добегает до Тихого океана, до пирса Санта-Моники, разворачивается и бежит обратно к Атлантике, до маяков штата Мэн. По дороге он обрастает поклонниками и учениками, случайно брошенные им фразы становятся мемами, от shit happens до have a nice day со смайлом; он бежит ровно три года, два месяца, 14 дней и 16 часов, пока вдруг не останавливается посреди легендарного американского пейзажа, у Долины монументов на границе Юты и Аризоны, обросший и значительный, как библейский пророк, и не произносит: «Я устал. Я пойду домой», оставив в растерянности бегущую за ним паству.
В своих странствиях по Америке я не мог проехать мимо этого места. В тот раз я решил пересечь страну от океана до океана – пока еще не бегом, хотя, быть может, когда-нибудь и дорасту до этого подвига медитации, а всего лишь на машине – но при этом пробегать по 10–15 километров на каждой остановке. Я взял машину по схеме drive away – хозяину автомобиля необходимо доставить его в другой город, часто на другой конец страны, а тебе надо туда попасть, и ты забираешь у него машину и в условленный день пригоняешь ее по указанному адресу. Я нашел по объявлению девушку из Ньютона, штат Массачусетс, пригорода Бостона, которой надо было перегнать Ford Explorer с вещами в родительский дом в Лос-Анджелесе. Мы созвонились, сговорились, я приехал на тихую улочку с белыми колониальными домами и аккуратными газонами. Она мельком взглянула на мой паспорт и вручила ключи от внедорожника, в котором были ящики с одеждой и книгами, торшер и телевизор.
На дорогу до Тихого океана у меня были щедрые девять дней, и я построил сложный маршрут, пробежавшись для начала по трассе Бостонского марафона, от знаменитого подъема Heartbreak Hill до финиша у реки Чарльз и дальше, через Чайнатаун и финансовый район до пирсов Бостонской гавани, с которой начиналась история американской независимости. На следующий день я уже бегал по бесконечным песчаным пляжам озера Эри, на третий – в глуши Миннесоты: там еловые леса, деревянные амбары, выкрашенные охрой, и боковые проезды, названные нордическими именами Олафссон, Петерссон и Йонссон, напоминали о милой моему сердцу Скандинавии. Пустынные перегоны Южной Дакоты и Вайоминга, где под бескрайним небом единственными ориентирами были ветряки и силосные башни, привели меня в Йеллоустоун, где на ночлегах в кемпинге надо было прятать в контейнеры еду, чтобы не пришли на запах медведи, а оттуда – в один из моих любимых штатов, Юту, которая для меня земля не мормонов, а каньонов, божественных фантазий на темы геологии и истории Земли. Я бегал по крутым тропинкам в парке Арчес, где скалы застыли в виде гигантских арок, заехал в национальный парк Каньонлендс, едва не наступив там на гремучую змею, которая предупредительно выставила свою погремушку, и заночевал в лихом молодежном Моабе, мекке маунтинбайкеров, днем осваивавших местные отполированные скалы, slickrock, а по ночам – бесчисленные пабы. На седьмой день своего путешествия я приехал в то самое место под Кайентой, на границе Юты и Аризоны, где остановился на дороге Форрест Гамп – бородатый, в бейсболке и зеленом плаще.
Был августовский полдень, жара перевалила за 100 по Фаренгейту или 38 по Цельсию, вокруг раскинулась выжженная красная земля, поросшая креозотовым кустарником, а впереди, словно мираж, виднелись в мареве скалы Долины монументов, над которыми, повторяя их контур, громоздились облака. Я остановил машину на пустой парковке, где стоял заброшенный мертвый киоск, надел кроссовки и снял майку. Жара почти не чувствовалась, бусинки пота моментально испарялись в горячем сухом воздухе, тело не отбрасывало тени. Дорога шла под уклон, и я побежал в сторону Долины, стараясь вдыхать неглубоко, чтобы не обжечь бронхи раскаленным воздухом от асфальта. Пробежав минут десять, я остановился. На шоссе ни спереди, ни сзади не виднелось ни одного автомобиля – я был один в пустыне. Скалы были все так же далеки и несбыточны, воздух дрожал, стояла вселенская тишина. И тогда снова, как на вершине Мон-Ванту или в водах Босфора, я ощутил себя, свое тело частью большой истории, в которой поколения людей преодолевали пространство и открывали пейзаж. Это движение бесконечно, этот сюжет вечен: стоим ли мы возле морских волн, подобно Байрону, или на вершине горы, подобно Петрарке, бежим ли без цели, подобно Форресту Гампу – мы воспроизводим весь цикл культуры Нового времени, архетип того фаустовского человека, который желает объять Вселенную, остановить мгновение и готов отдать за это свою бессмертную душу. В последние минуты жизни он переживает откровение и произносит заветную фразу, торжествующий Мефистофель собирается забрать его душу – но ее перехватывают ангелы и возносят на небо: искания и стремления Фауста становятся для него залогом спасения.
Вдалеке, со стороны Долины монументов и резервации навахо, показались огни автомобиля: они отражались от горячего асфальта, как ото льда. Я развернулся и побежал к своей машине. Позади были три тысячи миль от побережья Атлантики, леса, озера, прерии, Скалистые горы, впереди была еще тысяча миль: через Гранд-Каньон, на северном «риме», крае, исполинскую мощь которого я впервые увидел и понял, откуда берется американская гигантомания; через Вегас, самый вымышленный город на планете, к обманчивым огням которого я спустился на закате с гор; были солончаки и лунные пейзажи Долины Смерти, были сплетения хайвеев и плотный трафик по пути к побережью, были золотящиеся вдали башни даунтауна Лос-Анджелеса, хрестоматийные холмы Голливуда, и, наконец, тот самый пирс в Санта-Монике где я догнал убегающее на запад солнце и прикоснулся к нему перед тем, как оно погрузилось в океан.
Бегом до Вальхаллы
1
Если есть в мире место, где круглый год стоит хорошая погода, то это не Калифорния, а Норвегия. И неважно, идет ли снег, дождь или град, или все три вместе взятые (в Бергене, например, триста дней в году выпадают осадки), хорошая погода – это социальный договор, любовь к природе и умение всякой погоде радоваться. Норвежцы умеют получить удовольствие от любого состояния своего непростого климата и заняться подходящим видом спорта: бегом, лыжами, трекингом, каякингом, скандинавской ходьбой – каждый вечер и все выходные парки, леса и велосипедные дорожки вдоль шоссе заполнены движущимися людьми.
Норвежские города вписаны в пейзаж побережья: Осло, Трондхейм, Тромсё, тот же Берген удобно, как в амфитеатрах, расположились на берегах своих фьордов, наблюдая ежечасный спектакль смены погоды, циклоны, приходящие с Атлантики, и точно так же сами норвежцы быстро адаптируются к любому капризу северной природы. Если налетает дождевой или снежный заряд, то достаются из гардероба водонепроницаемые походные куртки, которые здесь не туристическая, а повседневная одежда; если светит летом солнце, то люди располагаются с пивом на открытых террасах ресторанов даже в Заполярье, наслаждаясь видом полуночного солнца при температурах, падающих к ночи почти до нуля, а детей на песчаных пляжах Лофотенских островов не вытащишь из 12-градусной воды.
И, конечно, только в Норвегии мог родиться экстремальный триатлон Norseman (по-русски, Норшеман), где классическая дистанция Ironman помещена в суровые природные условия. Участникам надо проплыть те же 3,8 километра, но в ледяной воде Хардангерфьорда, спрыгнув в нее с борта парома, проехать на велосипеде те же 180 километров, но по горному плато с сильными ветрами и резкими перепадами температуры, и в завершение пробежать тот же марафон 42 километра – но в гору, с финишем на заснеженной вершине Гаустатоппен на почти двухкилометровой высоте. Как говорил в 2003 году основатель Norseman Хорек Странхейм, «я хочу создать принципиально другую гонку, сделать ее путешествием по самым красивым норвежским пейзажам, чтобы впечатления от гонки были важнее места в протоколе, чтобы участники разделили эти впечатления со своими семьями и друзьями, которые составят команды поддержки. Пусть гонка финиширует на вершине горы, что сделает ее самым тяжелым соревнованием Ironman на планете».
Каждый год в августе сюда хотят попасть тысячи спортсменов, но в лотерею отбирают лишь триста: половина из них норвежцы, половина – иностранцы со всего мира. Число участников ограничивают по соображениям безопасности; и потом, это старт некоммерческий, его организуют энтузиасты из триатлонного клуба Хардангер при поддержке местных волонтеров, и многотысячные фестивали франшизы Ironman в этом тихом, удаленном уголке Норвегии были бы здесь не к месту. Из тех же соображений безопасности лишь 160 пускают к финишу на вершине горы, чтобы успеть туда засветло; остальных с 33-го километра бегового этапа отправляют на более легкую трассу с финишем у близлежащей гостиницы. Те, кто заканчивает дистанцию на горе, получают заветную черную майку финишера, ставшую важным знаком отличия в мире любительского триатлона, те, кто финиширует под горой, – белую. Когда мне достался от организаторов пресс-слот на Norseman, в мечтах, конечно, была черная майка, но я трезво понимал, что для первого раза хорошо будет хотя бы просто финишировать и испытать себя новым форматом, дистанцией и холодом. За моими плечами уже был классический Ironman за 11 часов – но здесь, с ледяным фьордом, снежной тундрой и горным марафоном, была территория неизведанного.
…Паром отплывает ровно в 4 утра. В половине четвертого в темноте на пристани царит безмолвная суета – сотни людей с фонариками на лбу тащат баулы и ящики с одеждой, расставляют в транзитной зоне велосипеды, подкачивают колеса, натягивают гидрокостюмы, обнимаются с близкими, которые останутся на берегу. Заложив вещи в транзитку, мы обговариваем последние детали нашего плана на гонку с моим помощником Мишей: одно из условий экстремальных триатлонов – обязательное наличие команды поддержки, на протяжении большей части велоэтапа гонщика должна сопровождать машина, а на заключительном, горном, отрезке бегового этапа с ним должен бежать (или чаще всего идти) сопровождающий. Затем я поднимаюсь на борт парома, на верхнюю палубу. Передо мной спящий поселок, за ним вздымаются мрачные километровые скалы. Единственное теплое пятно в этом суровом пейзаже – причал, где мигает море красных маячков: по требованию организаторов все велосипеды оборудованы задним огнем под седлом (нам предстоит ехать по темным тоннелям и в холодном тумане верхней тундры) и все они сейчас включены, дожидаясь хозяев. Позади меня – черная гладь Эйдфьорда, одного из рукавов 180-километрового Хардангерфьорда, второго по длине фьорда в Норвегии.
Спускаюсь в пассажирский салон и смотрю на лица попутчиков: типичная интернациональная группа любителей длинных дистанций – норвежцы, швейцарцы, французы, немцы, поляки, англичане, португальцы, четверо россиян, двести пятьдесят участников из 35 стран, из них тридцать женщин. Молодых мало, средний возраст под сорок и выше: сухие тела, проработанные мышцы, экономные движения, лица в сеточке морщин, закаленные солнцем, ветром и холодом, тысячами километров на велосипеде, лыжах и бегом – случайных людей на этом пароме нет. Кто-то слушает музыку в наушниках, кто-то медитирует, закрыв глаза, кто-то шутит с соседями, но все равно в салоне парома с мягкими диванами разлито нервное напряжение людей, которым предстоит один из самых тяжелых стартов в жизни.
Выхожу на автомобильную палубу, откуда мы будем прыгать в воду. Холодный металл чувствуется сквозь неопреновые носки, в которых разрешено тут плыть (гидрокостюмы обязательны, носки рекомендованы, перчатки запрещены – в них бывают перепонки между пальцами, превращающие их в гребные лопатки, которые дают большое преимущество в воде). Палуба заполняется атлетами, которые застегивают друг другу на спине «молнии» гидрокостюмов, разминают плечевые суставы, вращая руками. Организаторы раскатывают брандспойт с забортной водой, и многие обливаются ею, чтобы заранее привыкнуть к холодной воде фьорда. Подставляю и я лицо и голову под мощную струю, расстегиваю ворот и заливаю воду внутрь гидрокостюма, чтобы она осталась тонкой прослойкой между телом и неопреном и немного нагрелась. От холода меня пробивает первая дрожь.
Время 04:45. Мы медленно и словно нехотя выходим на корму с поднятой аппарелью, откуда нам предстоит прыгать во фьорд. В предрассветной тьме застыли черные скалы окрестных гор с пятнами ледников, с которых низвергаются вниз водопады, наполняя фьорд ледяной водой, на вершинах ворочаются низкие облака. Наступает тот самый миг, которого страшились и ради которого приехали сюда эти двести пятьдесят спортсменов, момент, описанный в сотнях отчетов и запечатленный на тысячах фото, многократно проигранный в голове, но от этого не менее волнующий: надо сказать себе «я готов» и шагнуть вперед, прыгнуть с пятиметровой высоты в темную воду фьорда.
2
Однажды я уже прыгал в воду с кормы судна, только высота была вдвое больше, около десяти метров, и подо мной была акватория торгового порта в Роттердаме. Это было 25 лет назад, в августе 1990 года: я возвращался морем из Нью-Йорка, где учился в магистратуре Колумбийского университета, в Ленинград, в СССР, не подозревая, что через полтора года ни этого города, ни этой страны на карте уже не будет. Такой классический вид путешествия я выбрал по семейной традиции. После Второй мировой у нас в Бразилии, словно в «Тетке Чарлея» Брэндона Томаса, оказалась родная тетя, сестра моей бабушки. В период оттепели она нашлась, в 1957 году приезжала в СССР на фестиваль молодежи и студентов, а в 1970-х, на фоне выездных послаблений, к ней стали ездить ее братья и сестра, моя бабушка. Перелет в Рио-де-Жанейро был дорог для наших финансов, но тут обнаружилось, что торговые суда Балтийского морского пароходства брали в рейс одного-двух пассажиров за сравнительно скромные деньги. Так моя бабушка стала заядлым мореходом и трижды плавала в Бразилию, в оба конца, исправно посылая открытки по пути следования: Гамбург, Киль, Лиссабон, Ресифи. Так была проторена «домашняя дорога» через Атлантику.
Летом 1990 года я возвращался в Советский Союз, где бушевала перестройка, бурлил Съезд народных депутатов и толпы собирались у стендов «Московских новостей» на Пушкинской площади. Я ехал, нагруженный новыми идеями и планами, ящиками полузапрещенных на родине книг – от Шаламова и Солженицына до Розанова и Бердяева, что я набрал в эмигрантских книжных лавках, с баулами удобной американской одежды – кроссовки, карго-штаны, толстовки с капюшоном, которые стали основой моего гардероба на много лет вперед, и с доброй тысячей компакт-дисков с классической музыкой, купленных на развалах Бродвея и Гринвич-Виллидж. Все эти дары Нового Света решительно не помещались в самолет, и я вспомнил про семейный способ путешествия морем. Нашлось подходящее судно – сухогруз «Анна Ульянова», – готовое взять одного пассажира, и в один солнечный майский день я прибыл в минивэне со всем своим добром на терминал «Ред Хук» в Бруклине и загрузился в пустующую каюту лоцмана на седьмой палубе.
Однако торговое судно – существо подневольное, грузовик, который пароходство гоняет по мировому океану в поисках выгодных заказов. Перед отплытием пришла телеграмма от диспетчера – идти не в Ленинград, а в порт Джексонвилл во Флориде, затем нас отправили в тропики через бурое от водорослей Саргассово море и через экватор в бразильский порт Сантуш, откуда я выбрался на пару дней к тете в Рио, затем в Паранагуа, райское место с идиллической лагуной с рекламы батончика «Баунти», где лианы можно было потрогать рукой и в сельве кричали обезьяны, и дальше, дальше на юг. Так двухнедельный круиз через Атлантику превратился в незапланированное трехмесячное путешествие, и я очутился на пляжах Копакабаны с их мальчишками-футболистами, продавцами кокосов и неземными красотками в мини-бикини, словно состоящими из упругих шаров на шарнирах, гулял вечерами в Бахо, портовом районе Буэнос-Айреса, знакомом по рассказам Борхеса, где в лавках пахло свежим мясом и выделанной кожей, в кабачках люди пили мате и танцевали милонгу, и женщины, в отличие от смуглых красавиц Бразилии, были все бледнолицы и худы. И затем через штормовые сороковые широты мы дошли до Пуэрто-Мадрина на юге Аргентины, недалеко от Огненной Земли, где возле судна на рейде плавали косатки, выныривали любопытствующие мордочки морских львов, а по длинным галечным косам разгуливали патагонские пингвины. Там запомнились гигантские восьмиметровые приливы, от одного из которых мне пришлось спасаться на скалах, рядом с возмущенным птичьим базаром – зато, когда наступил отлив, открылась идеально гладкая многокилометровая песчаная коса, в которой, как в зеркале, отражался горизонтальный месяц Южного полушария, словно тающая в небе улыбка Чеширского кота.
Обратно на север мы шли «в полном грузу» на черепашьей скорости 12 узлов, один градус широты в день – быстрее не позволяла машина, которую не охлаждала тридцатиградусная забортная вода. Дни тянулись мучительно медленно в расплавленном олове тропического солнца, от абсолютной влажности отказывали электроприборы, осадка была такой низкой, по самую ватерлинию, что летучие рыбы запросто перемахивали через судно, почти не шлепаясь на палубу, так что с утра коку и на сковородку не набиралось. Команда изнывала от скуки, всех охватила апатия – и тут я поссорился с капитаном. Не помню, что послужило причиной, раздражение ли от долгого перехода, неосторожное замечание или тот факт, что я несколько раз манкировал приглашением смотреть у него в каюте видео, то ли «Рокки», то ли «Рэмбо», в компании старпома, четвертого помощника и учительницы английского, единственной женщины, взятой в рейс, предпочитая взамен сидеть над своими книгами и диссертацией и часами слушать компакт-диски. Слово за слово, я что-то резко ответил, капитан смолчал, но затаил обиду.
Месть его была коварна. Когда после полуторамесячного перехода мы пришли, наконец, в Европу (помню свое ликование при виде белых скал мыса Финистерре в Португалии – впервые я буквально осознал, что Европа – моя родина), прошли через прозрачные волны Бискайского залива и стальные – Ла-Манша и прибыли в порт Антверпен, капитан перешепнулся с пограничниками Бенилюкса и торжественно объявил мне: «А вы на берег не сойдете». (Замечу, по умолчанию моряков и приравненных к ним пассажиров торговых судов везде выпускали в город.) «Сидите в каюте и читайте книжки», – с удовольствием добавил он.
Не смирившись с запретом, я просто сошел на берег и отправился в город: в музее Рубенса как раз был день бесплатных посещений – денег к этому моменту путешествия у меня уже давно не было, последний доллар я оставил в Рио-де-Жанейро. Капитан был взбешен и приказал в следующем порту, Роттердаме, останавливать меня силой при попытке выйти с судна – верхняя линия трапа является государственной границей. Был жаркий августовский день, мы были пришвартованы у причала, я стоял у борта и наблюдал, как с маленьких барж, которые принимали груз прямо с судов, прыгают в воду и купаются люди – после ряда экологических бедствий дельту Рейна уже тогда так хорошо почистили, что акватория крупнейшего торгового порта Европы была пригодна для купания. Пару раз я невзначай прошел мимо трапа, где за мной зорко следили двое вахтенных, с бортов моряки удили рыбу, безлюдна была только корма.
Решение созрело моментально. Я уже читал в самиздате книгу «Один в океане» Славы Курилова, невыездного советского океанографа, мечтавшего о побеге из СССР, про его легендарный прыжок с борта советского круизного лайнера в водах Филиппинского архипелага и трехдневный заплыв на 100 километров среди акул и течений до острова Сиаргао в декабре 1974 года. Чувство несвободы, несправедливости и желание бежать терзали мою душу. Я огляделся по сторонам, перелез через леера, разжал руки и полетел солдатиком вниз. Судно к тому моменту уже достаточно разгрузилось и поднялось, высота у кормы была метров десять, и я почувствовал удар о воду даже через подошвы кроссовок.
Самым неприятным в этом приключении был вид винта. Я помнил, как Курилов точно рассчитал траекторию прыжка, чтобы уйти от затягивающей силы лопастей и попасть в отбойную волну. У нас машина была остановлена и винт был неподвижен, но его размеры потрясали воображение – каждая лопасть была размером с два моих роста: ржавые, облепленные ракушками, в них таилась смертельная мощь и угроза, человеческому телу не место рядом с этим колоссом индустриального века. Подолгу проныривая, чтобы не привлечь внимания, я поплыл прочь от судна, мимо барж с купальщиками, в направлении противоположной швартовой стоянки, где заприметил выходящую из воды железную лестницу. Выбравшись на берег, я быстро обсох в шортах и майке, но оставалась проблема: выйти за охраняемую территорию порта, обнесенную сеткой с колючей проволокой. Я решил ее при помощи составленных друг на друга палет (позже их у нас назовут европоддоны) и разорванной картонной коробки, которую я набросил на колючку.
Неуклюже свалившись на землю, я вскочил и издал победный клич индейца, показав в сторону судна размашистый фак. Впереди был полный день свободы, хоть и без гроша в кармане, Роттердам с его тенистыми парками и телебашней «Евромачта», похожей на капитанский мостик, чудом сохранившийся от бомбежек исторический район Дельфсхафен – но главным было пьянящее чувство собственной незаконности и неуязвимости, словно я перешел запретную грань и приобрел волшебные силы, стал невидимкой. Я бродил по городу, глазел на витрины, пил из фонтанчиков, нюхал дым марихуаны из кофешопов, в забегаловке в районе красных фонарей вызвался помыть полы за тарелку еды и на рассвете снова вышел к гавани. Ворота порта были открыты, и я зашел, не таясь, никто меня не остановил. Дойдя до швартовой стоянки нашего судна, я затаился за контейнером. Вахтенные лениво ходили вдоль борта, трап был наполовину поднят, но под ним свисала страховочная сетка. Дождавшись, когда матросы свернули за судовую надстройку, я встал на швартовую тумбу, дотянулся до сетки, долез по ней до трапа и юркнул на борт. Дух перевел уже в своей каюте – у двери стояла накрытая тарелка с остывшим ужином, капитан считал, что я в обиде заперся у себя и не выхожу. В следующем порту захода, Бремене, он уже смилостивился и дал команду выпустить меня на берег, но ни одна душа так и не узнала о моем побеге на волю и незаконном посещении Роттердама.
3
И вот я снова стоял на корме, и хотя высота была всего пять метров, а я был надежно упакован в гидрокостюм и неопреновый шлем, я медлил. Подумалось, что, наверное, так умирают: надо сказать себе, что впереди лежит огромный, неведомый мир, новый опыт, – и сделать шаг в холодную воду. Я прыгнул вниз, придерживая рукой очки, чтобы их не сбило ударом о воду. Полет был до обидного короток, тело обожгло холодом, от шока перехватило дыхание. В том году из-за небывало холодного лета в Скандинавии и позднего таяния снега вода во фьорде была на 3–4 градуса холоднее обычного – на месте старта намерили всего лишь 10 градусов. Вынырнув, я быстро отплыл из зоны прыжка и оглянулся на паром. Он высился надо мной громадой, как ярко освещенный желтый замок на фоне синих снежных гор, а с кормы все летели и летели в воду черные фигурки, словно души грешников на фресках Микеланджело. Я доплыл до линии старта, обозначенной двумя байдарками, прочистил от воды очки, секундомер поймал сигнал GPS. Вода во фьорде была чистой и прозрачной даже в рассветном полумраке. По поверхности ходила легкая рябь, и где-то вдалеке, у финиша, на берегу поблескивал костер.
Ровно в 5 прозвучал гудок парома, и вода вскипела от пяти сотен рук. Мы быстро выстроились клином: впереди ловкими дельфинами скользили сильные пловцы, с каждым гребком увеличивая отрыв, а основная масса шла позади нестройным косяком, словно горбуша на нерест. Из-за нетипично холодной воды организаторы приняли решение сократить плавательный этап с четырех до двух километров, поскольку медленным пловцам нахождение в такой воде около двух часов было бы опасно для жизни. Моя задача как пловца-середняка заключалась в том, чтобы выдержать стартовую суету – не рвануть слишком резко, сбив дыхание, не хлебнуть воды, не получить пяткой по очкам, затем найти в толпе подходящие ноги и пристроиться за ними в комфортном для себя темпе. Через пару минут я нашел пловца себе по силам и вышел на рабочую скорость. Мы то плыли параллельно, то я вставал ему в ноги, то он за мной – драфтинг на плавательном этапе не запрещен. Светало, вода становилась все прозрачнее, и уже было видно дно фьорда – огромные каменные плиты с редкими прядями водорослей.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































