Текст книги "Петр I. Том 3"
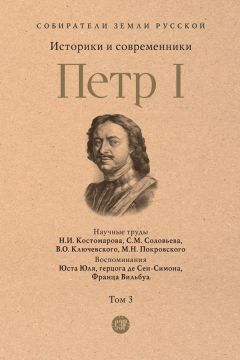
Автор книги: Сергей Соловьев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 40 (всего у книги 52 страниц)
Мы еще не исчерпали всех царских монополий, о которых говорят современники: торговля ревенем, например, тоже была сосредоточена в казне. Но сущность дела уже давно ясна читателю: концентрация в одних руках сотен тысяч по тогдашнему, миллионов рублей по теперешнему на золото, впервые повела к образованию в ремесленной России, знавшей до тех пор лишь мелкий торг, как и мелкое только производство, торгового капитала. Но мы очень ошиблись бы, если бы предположили, что капитал этот весь был в руках царя. Фактически им распоряжались гости, от царского имени ведшие торговлю и с Востоком и с Западом. «Гости – царские коммерции советники и факторы, они неограниченно правят торговлей во всем государстве. Эта своекорыстная и вредная коллегия, довольно многолюдная, имеет главу и старшину, и все они занимаются торговлей (sind alle Kaufleute), в числе их есть и несколько немцев… Они рассеяны по всему государству и во всех местах, по своему званию пользуются привилегией покупать первыми, хотя бы они действовали и не за царский счет. Так как они одни, однако же, не в состоянии справиться со столь широко раскинувшейся торговлей, то во всех больших городах у них есть подставные лица, в лице двух или трех из проживающих там виднейших купцов, которые в качестве царских факторов пользуются привилегиями гостей, хотя не носят этого имени, и ради своей частной корысти всюду причиняют различные стеснения торговле. Простые купцы замечают и знают это очень хорошо, говорят о гостях плохо, и можно опасаться, что, в случае восстания, чернь всем гостям свернет шею. Они (гости) производят оценку товаров в царской казне в Москве, распоряжаются ловлей соболей и сбором соболиной десятины в Сибири, точно так же, как и архангельским караваном, и подают царю советы и проекты по части учреждений царских монополий. День и ночь они стараются о том, чтобы совершенно подавить торговлю на Балтийском море и нигде не допускать свободной торговли, чтобы тем прочнее было их господство и тем легче они могли наполнять собственные кошельки». К этой характеристике Кильбургера, которая хорошо передает если не самые факты, то впечатление, которое эти факты производили на очень внимательного и очень осведомленного наблюдателя, превосходную иллюстрацию дает известный псковский эпизод. В Пскове, под тем предлогом, что мелкие торговцы являются орудием в руках заграничных капиталистов, которые, ссужая их деньгами, обращают их фактически в своих комиссионеров, гости монополизировали всю, без исключения, заграничную торговлю в своих руках, обратив все второстепенное псковское купечество в комиссионеров их, гостей. Ни один из местных купцов второго разряда («маломочные») не имел более права торговать за свой счет, все они были приписаны «по свойству и по знакомству» к крупным псковским капиталистам и, получая ссуды для своих операций из земской избы, должны были доставлять все закупленные товары туда же, к «лучшим людям, у кого они были в записке». А для удобства контроля вся торговля с иностранцами была приурочена хронологически к двум ярмаркам (9 января и 9 мая), а топографически – к трем гостиным дворам, двум для заграничных и одному для русских товаров, обмен товарами мог производиться только в это время и в этих местах. Как мера «покровительства» туземному торговому капиталу в борьбе с иноземными псковское постановление 1665 года является, для своего времени, чрезвычайно смелым шагом, свидетельствующим о большой сознательности его авторов, недаром оно связано с именем отца русского меркантилизма – Ордина-Нащокина. Но оно же указывает и оборотную сторону дела: мы видим, как трудно было русскому капитализму держаться в борьбе с Западом естественным путем, без подпорок.
Торговле ремесленного типа, а такой оставалась, в общем и целом, русская торговля XVII века, самые приемы капиталистического обмена внушали суеверный ужас. «Да немцы же, живя в Москве и городах, ездят через Новгород и Псков в свою землю на год по пяти, шести и десяти раз с вестями, что делается в Московском государстве, почем какие товары покупают, – плакались московские торговые люди в своей челобитной 1646 года, – и которые товары в Москве дорого покупают, те они станут готовить, и все делают по частым своим вестям и по грамоткам, сговорясь за одно». И тут же обиженные таким дьявольским ухищрением, как почта, русские люди приводят необычайно выразительный пример своей беспомощности перед коварными иноземцами: понадеявшись на высокую цену шелка-сырца в прошлых годах, русские торговцы скупили весь запас шелка из царской казны, в расчете выгодно перепродать его «немцам». Но на европейском рынке тем временем цены на шелк упали, и «немцы» не только не купили ни одного тюка по цене, которая казалась русским «справедливой», но еще посмеялись над ними. «Милостивый государь, – взывали обиженные русские коммерсанты, – помилуй нас, холопей и сирот твоих, всего государства торговых людей: воззри на нас бедных и не дай нам, природным своим государевым холопам и сиротам, от иноверцев быть в вечной нищете и скудости, не вели искони вечных наших промыслишков у нас бедных отнять».
Какую коммерческую роль уже в то время играла почта, видно из рассуждений и проектов де Родеса, писавшего меньше, чем через 10 лет после цитированной нами сейчас челобитной. Успешную конкуренцию голландцев со шведами он приписывает, главным образом, тому обстоятельству, что голландская корреспонденция через Ригу скорее доходила до Москвы, нежели шведская через Нарву. Он советует поэтому совершенно запретить пересылку писем прямым путем из Риги в Москву через Псков и сделать Нарву центральным почтамтом для всего Балтийского побережья – тогда вся корреспонденция, идущая с Запада на Москву Балтийским морем, будет в одинаковых условиях. Но русские правительственные круги и стоявшие близко к ним коммерсанты и в этом пункте были достаточно европейцами и почтовой монополии шведам не уступили. В 1663 году в Московском государстве появляется своя заграничная почта, сданная в эксплуатацию одному частному предпринимателю, Иоганну фон Шведену. Она отправлялась регулярно каждый вторник на Новгород, Псков и Ригу, а возвращалась обратно каждый четверг. Нарвская линия, напротив, была совершенно заброшена; шведы потерпели тут полное поражение. Письмо от Москвы до Риги шло не меньше 9–10 дней, и франкировка его обходилась, на наш современный взгляд, невероятно дорого: 1 золотник стоил до Новгорода 6, до Пскова 8 и до Риги 10 копеек (90 коп., 1 руб. 20 и 1 руб. 50 коп. на золото). Другая заграничная линия шла на Вильну и Кенигсберг: письма в Германию выигрывали, если их отправляли этим путем, два дня. До Берлина письмо шло 21 день и стоило по 25 коп. (3 руб. 75 коп.) за золотник. Приходившие из-за границы письма доставлялись сначала в Посольский приказ, и здесь с совершенной откровенностью вскрывались и прочитывались подьячими, дабы правительство раньше всех знало заграничные новости: понятие «тайны частной корреспонденции» было совершенно чуждо тогда не только московским людям, но и их иноземным учителям, – по крайней мере, Кильбургер сообщает об этой обязательной перлюстрации, как о самом нормальном факте. Для широких масс зато сама почта и долго потом продолжала оставаться фактом глубоко ненормальным. «Да пожаловали они, прорубили из нашего государства во все свои земли дыру, что все наши государственные и промышленные дела ясно зрят, – жаловался Посошков еще около 1701 года. – Дыра же есть сия: зделали почту, а что в ней великому государю прибыли, про то Бог весть, а колько гибели от той почты во все царство чинитца, того и исчислить невозможно. Что в нашел государстве ни зделается, то во все земли разнесетца; одни иноземцы от нее богатятся, а русские люди нищают. И почты ради иноземцы торгуют издеваючись, а русские люди жилы из себя изрываючи». Понятно, что Посошков советовал «ту дыру загородить накрепко» и почту «буде мочно – оставить вовсе», и даже частным лицам запретить возить с собою письма. При всей отсталости взглядов Посошкова (для данного пункта его интересно сравнить с другим прожектером петровского времени, Федором Салтыковым, который советовал, напротив, вдобавок к иногородней завести еще и городскую почту, с самым дешевым тарифом), одной отсталостью этой черты не объяснишь. Как всякое орудие торговой конкуренции, почта еще больше усиливала сильного и ослабляла слабого; а так как заграничный капитал был всегда гораздо сильнее русского, то выгоды от усовершенствованных сношений доставались именно ему. В 1670-х годах Кильбургер мог сообщить своему читателю удивительный факт, что вся архангельская торговля находится в руках нескольких голландцев, гамбургцев и бременцев, которые держат в Москве постоянных приказчиков и факторов, русские же в Архангельск не ездят. Он перечисляет при этом поименно целый ряд немецких купцов, которые специализировались на торговле между Архангельском и Москвой, и никогда сами не выезжали за границу. Мало того, иностранцы, по его словам, проникли и в коллегию гостей, и притом не только в качестве заграничных царских агентов, как Клинк Бернгард и Фагелер в Амстердаме, но и в самой Москве – как Томас Келлерман.
Для характеристики заграничной торговли остается прибавить, что не только вывоз, но и ввоз приобрел уже в XVII веке массовый характер. Давно прошло то время, когда в Россию ввозились из-за границы только предметы роскоши, как это было при Грозном, и отчасти даже в начале XVII века, когда в списке привозимых товаров мы находим позолоченные алебарды, аптекарские снадобья, органы, клавикорды и другие музыкальные инструменты, кармин, нитки, жемчуг, дорогую посуду, зеркала, люстры и т. п. Списки товаров, привезенных в 1670-х годах, дают такие, например, цифры: селедок привезено через Архангельск в 1671 году 2477 тонн, в 1672-м – 1251 тонну; иголок в первом году 683 000, во втором – 545 000 штук; краски всякого рода 5 тонн, и, кроме того, 809 бочонков индиго; бумаги 28 454 стопы. Особенно характерен для развивавшейся русской индустрии ввоз железа и железных изделий, причем нужно иметь в виду, что в то время, как увидим дальше, были железоделательные заводы и в самом Московском государстве, уже с очень крупным производством. Тем не менее, не считая железных изделий, в 1671 году через Архангельск было привезено 1 957 полос шведского железа: такой спрос на этот материал существовал в русских мастерских за 20 лет до Петра.
Торговый капитализм XVII века имел громадное влияние и на внешнюю, и на внутреннюю политику московского правительства. До завоевания Украины и отчасти даже до Петра, объектом первой был юг, – колонизация южной окраины, теперь безраздельно доставшаяся в московские руки, дала непосредственный повод и к походам в Крым кн. В. В. Голицына, и к Азовским походам Петра. Перемена в ориентировке этой политики, связанная с Северной войной, была вызвана, главным образом, интересами русской внешней торговли. Уже де Родес указывал, в 1650-х годах, что традиционное направление этой последней на Архангельск, по крайней мере, вдвое понижает барыши капиталистов, так как, по климатическим условиям, торговый капитал на Белом море успевает обернуться только один раз (он совершал этот оборот в пять месяцев), а на Балтийском два или даже три раза (если считать судоходную кампанию Риги или Либавы в 9 месяцев, а оборот при максимальной скорости в 3 месяца). Де Родес формально работал в пользу Швеции, но, по существу, едва ли не в пользу своего родного города Риги, торговля которой росла во второй половине XVII века чрезвычайно заметно. Вывоз льна с 1669 по 1686 год увеличился вдвое (с 67 570 до 137 550 пудов), конопли с лишком втрое (с 187 260 до 654 510 пудов, в 1699 году – 816 440 пудов), все прочее в такой же пропорции. Территорией, питавшей рижскую торговлю, были, во-первых, Литва, во-вторых, соседние области Московского государства. Экономически город, очевидно, теснее был связан с ними, нежели со своим юридическим «отечеством», Швецией, которой он тогда принадлежал. В таком же положении был и второй, после Риги, остзейский порт – Ревель. Шведское правительство, вообще одно из лучших бюрократических правительств тогдашней Европы, отлично сознавало это, как свидетельствует один любопытный указ королевы Христины (от 3 июня 1648 года). Им русская торговля в Ревеле ставилась в исключительно благоприятные условия, а, с другой стороны, делались все усилия привлечь сюда в возможно большем количестве заграничных купцов, чрезвычайно облегчив им доступ в среду ревельского гражданства, а, стало быть, и ко всем торговым привилегиям, какими обильно пользовалось местное население по сравнению с иноземными. Вскоре после Кардисского мира (1661) шведское правительство добилось «свободной торговли» между русскими и шведскими подданными. Несколько ранее, когда русские, под влиянием голландцев, всячески, между прочим и литературным путем, посредством карикатур и памфлетов, конкурировавших с англичанами, отняли у последних их привилегию, и английская фактория в Архангельске закрылась, Швеция пыталась перевести английский торг к себе в Нарву. Но все эти хлопоты, как можно видеть уже из приведенных примеров, больше шли на пользу Швеции, как политического целого, нежели ее остзейских подданных. Щедро даря бюргерские привилегии в остзейских городах иностранцам, шведские короли были очень скупы на те привилегии, которыми пользовались шведские купцы. Мы видели, какую роль в тогдашней торговле играли зундские пошлины, которые собирала в свою пользу Дания со всех входящих в Балтийское море и выходящих из него кораблей. Шведы добились их отмены, но только для себя: рижане и ревельцы продолжали их платить. Во вторую половину XVII века стал быстро расти лифляндский хлебный вывоз (с 2 380 «лофов» в 1669 году, до 6991 в 1686-м и 14 939 в 1695-м). Но Карл XI поспешил обложить его высокими вывозными пошлинами, чтобы создать преимущество для Швеции, которая тоже нуждалась в привозном хлебе. В то же самое время, когда это было им выгодно, шведы очень хлопотали о «свободной торговле». В половине столетия крупные рижские торговцы вздумали образовать компанию, которая должна была монополизировать в своих руках все коммерческие сношения с заграницей (упоминавшиеся выше псковские мероприятия 1665 года едва ли не были подражанием этому рижскому проекту). Но шведское правительство, в лице местного губернатора Бенгта Оксенширны, решительно воспротивилось этому, опираясь на «маломочных» рижских купцов, которым затея капиталистов, естественно, не могла нравиться. С полным нарушением прав городского совета, где командовал крупный капитал, Оксенширна наложил запретительные вывозные пошлины до тех пор, пока не будет восстановлена «свободная торговля». В результате всякая торговля остановилась вовсе. Война с Данией и опасение, что датчане используют этот конфликт, вынудили стокгольмское правительство отступиться от решительных шагов своего рижского представителя; но к тому времени компания была уже разорена и должна была ликвидироваться как раз в тот момент, когда ее представители одержали победу в Стокгольме.
Естественному тяготению остзейских портов на Восток соответствовало такое же естественное отталкивание их со стороны их скандинавского сюзерена. Когда Петр начал великую Северную войну походом на Нарву, воскрешая этим операционную линию Грозного, когда он, идя по следам царя Алексея, осаждал Ригу, он являлся, в сущности, освободителем плененного шведским засильем остзейского торгового капитала. Рига должна была стать русским портом, так как русская торговля уже выросла из Архангельска; с другой стороны, Риге нужно было освободиться от шведских пут, так как иначе ее убил бы Кенигсберг, который год от году отбивал у Риги ее клиентов, пользуясь тем, что кенигсбергские пошлины были в несколько раз ниже шведских. Собственно, на Петербург Петр был отброшен после того, как ему не удалось завладеть Нарвой, а его союзники, саксонцы, потерпели поражение под Ригой. А раз выяснившиеся стратегические удобства передового поста на Неве должны были обеспечить ему первенство и позже, когда дела пошли удачнее. С коммерческой же точки зрения, Петербург и долго после не мог конкурировать естественным путем не только с Ригой, но даже с Архангельском. Пришлось и для того и для другого порта создать целый ряд ограничений: запретить ввозить в Ригу и в Архангельск товары, торговлю которыми должен был монополизировать Петербург. Зато русское правительство всячески старалось облегчить Риге конкуренцию с Кенигсбергом, причем из одного относящегося сюда документа мы узнаем, что так заботившиеся о «свободной торговле» шведы отдали в 1690 году всю мануфактурную торговлю Риги на откуп четырем человекам, тогда как остальное купечество могло торговать мануфактурой только во время ярмарки (с 20 июня по 10 августа). Как видим, то, что обыкновенно выставляется, как ближайшая причина перехода остзейских провинций – главного объекта Северной войны – на русскую сторону, знаменитая «редукция», отобрание у лифляндского дворянства захваченных им в прошлые годы коронных имений, занимает в числе причин, обусловивших войну, далеко не первое место. Поскольку речь идет о завоевании Россией восточного побережья Балтики, «редукция» не играла даже никакой роли. Остзейское дворянство смотрело не на восток, а на юг, желало присоединения не к Московскому государству, а к Польше. Лидер дворянской оппозиции Паткуль был очень испуган, когда увидал, что фронт русского наступления поворачивает на запад, к Нарве: он бы предпочел видеть Петра в Финляндии. С другой стороны, рижское бюргерство не чувствовало, по-видимому, ни малейшего желания переходить из шведского подданства в польское, и в 1700 году от войск короля Августа город защищал не столько малолюдный шведский гарнизон, сколько вооруженные граждане, за что лифляндское дворянство, в договоре с тем же польским королем, проектировало лишить рижских бюргеров их исконных привилегий и передать управление городом окрестным помещикам. Союз остзейских баронов с русским правительством относится к гораздо более позднему времени, когда взяла верх дворянская реакция, временно уступившая при Петре союзу торгового капитала с новой феодальной знатью.
Торговыми интересами на Балтийском море определяется и та комбинация держав, при которой началась Северная война и которая держалась, с перерывами, до ее конца. Союз России с Польшей именно на этой почве был столь же естественным, как тяготение Риги к Московскому государству: обеим державам для их экспорта нужно было «свободное» Балтийское море, т. е. уничтожение шведской монополии. Дания была в этом с ними солидарна, хотя бы, прежде всего, во имя зундских пошлин, которых она не могла заставить платить шведов, не говоря уже о старинной конкуренции двух скандинавских народов на Балтике. Наоборот, голландцы, именно от этих зундских пошлин убежавшие на Белое море, должны были отнестись к русско-польскому предприятию весьма несочувственно. Взаимные отношения Петра и Нидерландской республики во время Северной войны и по ее поводу могут служить наилучшей иллюстрацией того, как всяческие «культурные» влияния пасуют перед экономическими в случае столкновения. Казалось бы, что могло быть сильнее голландского влияния на «саардамского плотника», даже в своей подписи рабски копировавшего ту страну, которая в его глазах была олицетворением европейской цивилизации? А между тем, начиная войну, он знал, что его друзья смотрят на это более, чем холодно. Даже обещание вдвое понизить таможенные пошлины, сравнительно с Архангельском, не заставило лед растаять. «Нынешняя война ваша со шведами Штатам очень неприятна, – писал из Гааги Петру его тамошний представитель, Матвеев, – и всей Голландии весьма непотребна, потому что намерение ваше – взять у шведа на Балтийском море пристань». А когда в Гаагу пришло известие о поражении русских под Нарвой, оно произвело там «несказанную радость». Друзья Петра, вместе с англичанами, не останавливались даже перед тем, чтобы разорвать союз Петра с Польшей, наладив отдельный мир короля Августа с Карлом XII. На Данию тоже оказывалось давление в том же направлении. Причем все заманчивые обещания Петра насчет тех коммерческих выгод, которые сулит балтийская торговля, сравнительно с беломорской, благодаря более быстрому обороту капитала (старый аргумент де Родеса) на англичан совершенно не действовали. Голландцы же формально заявили русскому представителю, что они «по старым договорам обязаны во всем помогать Швеции». Нужны были, с одной стороны, Полтавская победа, с другой – видимое упрочение русских на берегах Финского залива для того, чтобы в Лондоне и в Гааге решили несколько изменить свое отношение к внешней политике Петра.
Меркантилизм
Старый и новый тип меркантилизма. – Старый тип в России: Новоторговый устав. – Посошков. – «Медные рубли». – Бунт по их поводу и расправа с бунтовщиками. – Переход к новому типу: Посошков. – Люберас. – Салтыков. – Реальные основы русского кольбертизма: допетровские фабрики. – Дворцовые мануфактуры. – Заграничные предприниматели. – Характер производства и сбыта. – Зачатки пролетариата.
В основе этой политики лежал, таким образом, меркантилизм. О Петре, как одном из представителей этого именно течения экономической политики его времени, принято говорить уже давно. Меркантилизмом, как известно, называется такое направление этой политики, которое, исходя из отождествления богатства с деньгами или вообще с драгоценными металлами, видит в торговле, приносящей в страну драгоценные металлы, источник народного богатства. Первые зачатки меркантилизма в Западной Европе относятся к концу средних веков (XIII–XV), а его расцвет – к эпохе Людовика XIV. Но его теория не стояла все время на одном месте, и в то время как ранний меркантилизм опирался исключительно на торговлю ценным сырьем, особенно колониальным, в XVII веке стали сознавать всю выгодность сбыта фабрикатов, особенно когда в фабрикаты перерабатывалось местное сырье, которого не было или которого мало было у других. Эта вторая стадия меркантилизма, связанная с именем Кольбера, – почему иногда это направление и называют специально кольбертизмом – и характеризующаяся покровительством туземной обрабатывающей промышленности, дожила, как всем известно, до нашего времени и составляет интегральную часть государственной мудрости, проповедуемой всеми консервативными партиями. Петровской России были уже знакомы обе стадии. Первая нашла себе юридическое выражение уже в 1667 году, в знаменитом Новоторговом уставе, изданном по почину Ордина-Нащокина, вероятного вдохновителя известной нам псковской реформы. Устав начинается с характерно меркантилистского заявления. «Во всех окрестных государствах свободные и прибыльные торги считаются между первыми государственными делами; остерегают торги с великим бережением и в вольности держат для сбора пошлин и всенародных пожитков мирских». Фразы о «свободе» и «вольности» нас не должны смущать – речь тут идет не о «свободе торговли» в том смысле, какой придал этому термину XVIII век, а об отмене всякого рода феодальных стеснений и поборов узко фискального характера, стеснявших обмен ради непосредственной грошовой выгоды царского, а раньше княжеского казначейства. Множество мелких поборов, оставшихся от удельного времени (мыты, сотое, тридцатое, свальное, складки, повороты, статейное, мостовое, гостиное и т. д.), были уничтожены Новоторговым уставом и заменены однообразной таможенной пошлиной, которая имела в виду не столько непосредственную прибыль казны, сколько создание выгодного для Московского государства торгового баланса: была повышена пошлина с иностранных вин, зато совсем беспошлинно можно было привозить драгоценные металлы. А предметы роскоши, «узорочные вещи», были вовсе запрещены к привозу без особого разрешения. «В порубежных городах головам (таможенным) и целовальникам у иноземцев расспрашивать и пересматривать в сундуках, ларцах и ящиках жемчугу и каменья неотложно, чтобы узорочные вещи в утайке не были; от покупки таких вещей надобно беречься, как и в других государствах берегут серебро, а излишние такие вещи покупать запрещают, не позволяют носить их простым нечиновным людям, чтобы оттого не беднели; также низких чинов люди, чтоб не носили шелку и сукна. Надобно удерживать таких людей от покупки таких вещей накладною пошлиною большою и заповедью без пощады: берегут того во всех государствах и от напрасного убожества своих людей охраняют». Нет надобности говорить, что заботы о том, чтобы «нечиновные люди не беднели», представляют собой такое же чиновничье лицемерие, как и оправдание казенных кабаков интересами народной трезвости. По существу же, тенденции Новоторгового устава не представляют собою ничего нового: во Франции еще в конце XIII века, в заботах о том, чтобы «нечиновные люди не беднели», запрещено было лицам, имевшим менее 6000 ливров годового дохода, приобретать золотую и серебряную посуду, заказывать более, нежели 4 платья в год и т. п. В Германии бархат могли носить только рыцари, золотые украшения на шляпе тоже составляли дворянскую привилегию, и еще в 1699 году служанка, осмелившаяся надеть платье со шлейфом или отделанное кружевами, рисковала попасть с бала в участок. В литературе у нас выразителем взглядов этого раннего меркантилизма является Посошков, писавший при Петре, отчасти даже в конце царствования, но характерный, в сущности, для второй половины XVII века. По мнению Посошкова, «не худо бы расположить, чтобы всякий чин свое бы определение имел: посадские люди все купечество собственное платье носили, чтобы оно ничем ни военному, ни приказному согласно не было. А то ныне никоими делами по платью не можно познать, кто какого чина есть, посадский или приказный, или дворянин, или холоп чей, и не токмо с военными людьми, но и с царедворцем распознать не можно». Дальше идет проект обмундирования всех разрядов посадского населения, где предусматривается не только материал, из которого сделана одежда, но и ее фасон и окраска. У первой статьи купеческого чина кафтаны должны были быть «ниже подвязки, чтобы оно было служивого платья длиннее, а церковного чина покороче, а штаны бы имели суконные и триповые, а камчатных и парчовых отнюдь бы не было у них, а на ногах имели бы сапоги, а башмаков тот чин отнюдь не носил же бы». Тогда как «нижняя статья… те бы носили сукна русские крашеные лазоревые и иными цветами, хотя валеные, хотя не валеные, только бы были крашеные, а некрашеные носили бы работные люди и крестьяне». Параллельно с этим идут советы запретить ввоз шелковых носовых платков и иностранных вин: «Буде кто хочет прохладиться, то может и русскими питьи забавиться». Подобно русским купцам, державшим у себя шелк по пяти лет в наивной уверенности, что иностранцам все равно достать его негде, и они только из упрямства не хотят платить москвичам «справедливой» цены, Посошков тоже был твердо убежден, что русские без иностранных товаров могут прожить, «а они без наших товаров и десяти лет прожить не могут». И то, что однажды случилось в Архангельске, он готов обратить в систему, которую он, с обычной конкретностью своей фантазии, разрабатывает во всех деталях. «Пока иноземцы по наложенной цене товаров наших приймать не будут, до того времени отнюдь нималого числа таких товаров на иноземческие торги не возили бы»; и товаров, привезенных из-за границы, не позволять складывать в русских портах – не захотел покупать русский товар, вези и свой обратно. А на будущий год накинуть «на рубль по гривне или по четыре алтына» – «как бы купечеству в том слично было и деньги бы в том товаре даром не прогуляли». «И так колико годов ни проволочат они упрямством своим, то на каждый год по толико и те накладки на всякий рубль налагать, не уступая ни малым чем, чтоб в купечестве деньги в тех залежалых товарах не даром лежали, но проценты бы на всякий год умножились. И аще в тех процентах товарам нашим (цена) возвысится, что коему прежняя цена была рубль, а в упорстве иноземском возвысится в два рубля, то токову цену впредь за упрямство их держать, не уступая ни малым чем».
Рядом с этим глубоким убеждением автора «Скудости и богатства», что барыш в торговле определяется тем, кто кого переупрямит, можно поставить только его теорию денег – столь же вполне средневековую, как и его теория обмена. Посошкова очень возмущало, что иноземцы осмеливаются устанавливать курс на русские деньги: «Деньги нашего великого государя ценят, до чего было им ни малого дела не надлежало». «А наш великий император сам собою владеет, и в своем государстве аще и копейку повелит за гривну имать, то так и может правиться». На этот раз наш автор отстал не только от европейских взглядов на дело, но и от русской действительности: опыт назвать копейку гривенником был уже сделан в России приблизительно за три четверти столетия до того, как была написана книга «о скудости и богатстве». Так как этот опыт весьма характерен для раннего меркантилизма, то место упомянуть о нем именно здесь. Одновременная война с Польшей и Швецией поставила небогатую золотом и серебром казну царя Алексея в очень затруднительное положение. Надо иметь в виду, что в Московском государстве не было ни золотых россыпей, ни серебряных рудников, так что заграничная торговля была единственным источником драгоценных металлов. Сначала прибегли к обычной не только у нас, но и в Западной Европе, и не только в то время, но и гораздо позже, до Петра включительно, порче приходившей с Запада полноценной монеты: из «ефимка», принимавшегося у иностранных купцов по искусственно пониженному курсу (40–42 копейки вместо полтинника), чеканили 65–64 серебряные копейки. Затем перестали себя затруднять даже перечеканкой и просто клали на «ефимки» особые штемпеля, повышавшие их номинальную цену на 25 %. Относительный успех этих мер, не затрагивавших широкой массы, для которой копейка (равнявшаяся 15–17 копейкам XIX веке) была наиболее обычной монетой, навел довольно естественно на соблазн: выпустить деньги совершенно искусственной ценности, определенной исключительно царской печатью. Так появились в обращении медные полтинники и рубли с принудительным курсом. Их совершенно напрасно сравнивали иногда новейшие историки с ассигнациями: последние всегда могли быть раз-менены на золото или серебро, хотя бы и не рубль за рубль, а «медные рубли» царя Алексея менять или выкупать вовсе не предполагалось. Это были «искусственные деньги» в полном смысле этого слова – металлическое выражение той идеи, что царь может и копейку велеть за гривенник считать. Но пределы царской власти неожиданно оказались ограниченными, и на московском рынке разразился самый неприятный и затрагивавший самые широкие круги кризис: крестьяне перестали возить в город сено, дрова и съестные припасы, за которые им платили медью вместо привычного серебра (нужно иметь в виду, что и копейка была тогда серебряная). Цены на все предметы первой необходимости сразу поднялись вдвое. Так как недовольство охватило и служилых людей, то правительству пришлось пойти на уступку: были снова выпущены серебряные копейки, другими словами, казна поступилась своей монополией на серебро, которую она хотела было ввести, и они стали обмениваться на медные, копейка за копейку. Это успокоило массу, и она понемногу привыкла к новой, медной копейке, раз было очевидно, что та ничем не отличается от серебряной по своей покупной силе. Медные копейки стали теперь действительно чем-то вроде ассигнаций, но для правительства это была лишь временная мера, которой оно рассчитывало приучить народные массы к нововведению. Едва медная копейка вошла в обычай, как ее стали чеканить в огромном количестве, совершенно не соображаясь с возможностью размена. По отзывам современников (наиболее полный рассказ о монетной авантюре тех дней оставил нам Котошихин), сюда примешались и злоупотребления: московские гости, пользуясь своей близостью к государственным финансам, стали чеканить на царском монетном дворе деньги за свой частный счет, наживая при этом всю разницу, какая была в цене между серебром и медью. Как бы то ни было, количество медных денег в обращении настолько увеличилось, что курс их постепенно упал до 17 рублей медных за 1 серебряный. Кризис повторился, но уже в удесятеренных размерах, причем теперь правительство не могло так легко из него выпутаться, так как не имело никакой возможности выпустить серебряных денег хотя бы приблизительно в таком количестве, чтобы можно было менять на них медные. Тогда-то произошел тот знаменитый бунт, когда толпа пришедших в Коломенское гилевщиков держала царя Алексея «за пуговицы». Очевидно, кто-то уже и в те времена пытался объяснить волнение «иноземным подкупом», потому что Котошихин находит необходимым подчеркнуть, что среди бунтовщиков не было ни одного из многочисленных в Москве иностранцев. Зато он дает определенную социальную физиономию бунта: «Были в смятении люди торговые и их дети, и рейтары, и хлебники, и мясники, и пирожники, и деревенские, и гулящие, и боярские люди», – бунтовали мелкие торговцы, ремесленники и рабочие (как увидим ниже, категория наемных рабочих не была так незнакома Московской Руси, как часто думают). А направлено было восстание, наряду с администрацией, против крупного капитала: одним из наиболее заметных эпизодов является разгром двора одного из гостей, Шорина – крупнейшего из царских факторов того времени. Расправа «тишайшего» царя с бунтовщиками стоит того, чтобы ее отметить: началось с того, что безоружную толпу, пришедшую в Коломенское в простоте души «поговорить» с Алексеем Михайловичем, «начали бить и сечь и ловить, а им было противиться не уметь, потому что в руках у них не было ничего ни у кого, начали бегать и топиться в Москву-реку, и потопилося их в реке больше 100 человек, а пересечено и переловлено больше 7000 человек, а иные разбежались. И того же дня около того села повесили до 150 человек, а достальным всем был указ, пытали и жгли, и по сыску за вину отсекали руки и ноги и у рук пальцы, а иных били кнутьем, и клали на лице на правой стороне признаки, разжегши железо накрасно, а поставлено на том железе „буки“, то есть бунтовщик, чтобы был до веку признатен; и чиня им наказание разослали всех в дальние города, в Казань, и в Астрахань, и на Терки, и в Сибирь, на вечное житье и после по сказкам их, где кто жил, и чей кто ни был, и жен их и детей потому ж за ними разослали; а иным пущим ворам того же дня, в ночи, учинен указ, завязав руки назад, посадя в большие суда, потопили в Москве-реке». Всего за восстание было казнено, по словам Котошихина, более 7000 человек, а сослано более 15 000. «А те все, которые казнены и потоплены и разосланы, не все были воры, – прибавляет он, – прямых воров больше не было, что с 200 человек; и те невинные люди пошли за теми ворами смотреть, что они будут у царя в своем деле учинять, а ворам на такое множество людей надежно было говорить и чинить что хотели, и оттого все погинули, виноватый и правый». Прибавьте к этому выразительному повествованию не менее выразительный рассказ Коллинса о том «капитане», которого тишайший царь собственноручно уложил на месте железным посохом – не хуже Грозного! – за то, что несчастный не вовремя сунулся к нему с челобитной и напугал царя: и вам сразу станут понятны и стрелецкий розыск Петра, так же мало говорящий о его личной, исключительной жестокости, как казни Ивана Васильевича – о патологическом состоянии последнего, и та атмосфера, которой окружен был московский двор XVII века, где одним из тягчайших преступлений было появиться во дворце, или хотя бы перед дворцом с оружием в руках. Впечатления Смуты, с ее убитыми и низвергнутыми царями, забывались не так легко, а XVIII веку суждено было многое освежить в памяти.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































