Текст книги "Петр I. Том 3"
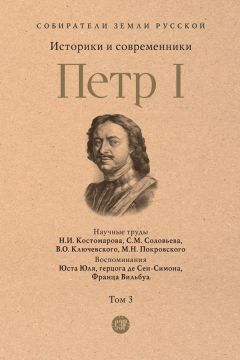
Автор книги: Сергей Соловьев
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 46 (всего у книги 52 страниц)
А в то же время Россия была накануне новой войны. Тот же торговый капитализм, который заставил Петра биться двадцать лет за Балтийское море, теперь гнал его на Каспийское. Ништадтский мир еще не был заключен, а у Петра была уже готова новая подробная карта этого моря, за которую Французская академия избрала царя своим членом. Составившие карту офицеры привезли, по словам иностранных дипломатов, важное известие, что те места, где главным образом сосредоточено производство шелка, находятся около самой границы царских владений. «Здесь все льстят себя надеждой, что, так как у персиян нет ни одного морского судна, можно будет большую часть шелковой торговли привлечь сюда и извлекать из этого большой доход», – писал прусскому королю его посланник. Открыл эту «Америку» только прусский дипломат: при русском дворе не могли, конечно, забыть «величайшей торговли в Европе», на которую в XVII веке было столько охотников. Персидский поход Петра был необходимым дополнением к насаждавшимся им шелковым мануфактурам. Год спустя об этом говорили уже вполне определенно. «Царь хочет иметь для безопасности своей торговли порт и крепость по ту сторону Каспийского моря и желает, чтобы шелки, которые посылались обыкновенно в Европу через Смирну, шли отныне на Астрахань и Петербург», – писал весной 1722 года другой дипломат, который скоро потом услыхал подобное же объяснение из уст самого Петра, только царь говорил, разумеется, не о захвате шелковой торговли русскими, а о «свободе» этой торговли. Едва кончились военные действия против шведов, как участвовавшие в них войска начали стягиваться к Москве, а оттуда далее – к берегам Дона и Волги. На этой последней быстро вырос военный и транспортный флот, для которого 5000 матросов было перевезено из Кронштадта через Москву в Нижний. В предлоге для войны, как водится, не оказалось недостатка. В Шемахе ограбили царских гостей не то на пятьдесят тысяч, не то на пятьсот, позже говорили уже о трех миллионах. Притом царский гость был так близок к правительственному чиновнику, что нельзя было не усмотреть здесь прямого неуважения к достоинству русского государя. Правда, ограбившие были мятежниками и против своего государя, персидского шаха, но тем меньше должен был сердиться последний на подавление русских войск в его владениях. Для него же, в конце концов, восстановляли порядок – он должен был это оценить, и при русском дворе надеялись даже, что шах, может быть, даром, из одной благодарности, предоставит шелковую монополию России. Все эти радужные надежды, однако, скоро должны были поблекнуть. Если не само персидское правительство (в это время было и нелегко его найти, так как за шахский престол боролось несколько претендентов), то его вассалы на берегах Каспийского моря в союзе с горцами Дагестана оказали русским отчаянное сопротивление. Каспийский флот вышел не лучше Балтийского и по большей части погиб от бурь. Бороться с климатом оказалось еще труднее, чем с бурями и неприятелем, болезни и конский падеж свирепствовали в русском лагере, и, отправившись в поход весною 1722 года, в январе следующего Петр уже возвращался в Москву, оставив на месте своих, весьма скромных, завоеваний «15 000 лошадей, более 4000 человек регулярного войска, не считая гораздо большего числа казаков, и миллиона рублей». Но непосредственные потери были еще ничто сравнительно с тем, что грозило в будущем. Конкурентка России в области шелковой торговли Турция поняла каспийскую экспедицию Петра как прямую угрозу себе: одна война тянула за собой другую, и притом несравненно более опасную. Прутского похода не могли забыть ни царь, ни его министры; ожидание турецкой войны отравило последние месяцы жизни Петра, а когда он умер, начавшие править от его имени «верховные господа» не могли говорить о ней без тоски и скорби. Персидские завоевания представляли собою одну из самых неприятных частей Петрова наследства, от которой не знали, как избавиться, и не чаяли, чтобы это когда-нибудь удалось. «Войско, которое наряжено регулярное, надлежит в Персию послать, – меланхолически писал год спустя после смерти «преобразователя» его канцлер граф Головкин, – для того, что авось либо они могут что будущим летом какие прогрессы учинить, и увидя то и силу нашу турки и персиане инаково с нами поступать станут». Но другой из «верховных господ», Толстой, находил, что «регулярных войск прибавить туда сверх определенного числа не токмо трудно, но кажется и невозможно», и всю надежду возлагал на какого-то «грузинского принца», о котором «просят тамошние армяне»… «Когда принц грузинский в те страны прибудет, то может быть тамошних христиан к нему не малое число соберутся, понеже его там любят», – мечтал Толстой, выдавая этим «может быть» всю глубину отчаяния русской дипломатии. Персидский поход не был такой позорной неудачей, как прутский, но это было, во всяком случае, лопнувшее предприятие, и его жалкие результаты не в меньшей степени объясняют нам настроение Петра в последний год его жизни, чем та пустота, в которой почувствовал себя император после бесплодной борьбы с «растаскивавшими» Россию верховниками. Быть может, даже, что и эта пустота стала ему заметной благодаря внешней неудаче, когда уже и триумфальными шествиями нельзя было закрасить дела и уверить себя, что все идет, как следует. «Могу, как мне кажется, уверить В. В., – писал Кампредон Людовику XV в апреле 1723 года, – что как бы русские ни храбрились и с какой бы твердостью ни пускали пыль в глаза, они не в силах выдержать войну против турок ни со стороны Персии, ни со стороны Азова. Русские финансы плохи, и голод дает себя чувствовать весьма сильно. Кавалерия без лошадей, ибо они погибли все в последнюю кампанию, а войскам за 17 месяцев не плачено жалованье, чего в прошлую войну не случалось ни разу». Невероятный, на первый взгляд, факт неплатежа жалованья войску вполне подтверждается и русскими документами: 13 февраля 1724 года сенат доносил государю, что «многие офицеры, а паче иноземцы, а такоже и русские беспоместные и малопоместные от невыдачи им на прошлый год жалованья пришли в такую скудость, что и экипаж свой проели». К концу царствования даже те, из-за кого голодала вся страна, были сами голодны… На склонных к пессимизму людей, каким был, например, саксонский посланник Лефорт, Петр производил в это время впечатление человека, который на все махнул рукою и запил с горя. «Я не могу понять положения этого государства, – писал Лефорт за шесть месяцев до смерти императора, – царь шестой день не выходит из комнаты и очень нездоров от кутежа, происходившего по случаю закладки церкви, которую окрестили 3000 бутылок вина… Уж близко маскарады, и здесь ни о чем другом не говорят, как об удовольствиях, тогда как народ плачет… Не платят ни войскам, ни флоту, ни коллегиям, ни кому бы то ни было; все ужасно ропщут».
Смерть преобразователя была достойным финалом этого пира во время чумы. Петр умер, как известно, от последствий сифилиса, полученного им, по всей вероятности, в Голландии и плохо вылеченного тогдашними врачами. При гомерическом пьянстве петровского двора и лучшие врачи, впрочем, едва ли сумели бы помочь. Смерть пришла совершенно неожиданно для царя, хотя посторонние наблюдатели давно уже готовились к катастрофе, и настроение, которое он при этом обнаружил, весьма способно поколебать легенду о «железных людях». «В течение болезни он сильно упал духом, страшно боялся смерти (le tout crainte de la mort), но в то же время выказывал искреннее раскаяние, – пишет в своей подробной реляции о последних днях Петра французский посланник. – По его нарочитому повелению освободили всех заключенных за долги, большую часть коих он приказал выплатить из своих личных средств. Прочих заключенных и всех каторжников, кроме убийц и государственных преступников (!), он также приказал освободить; повелел молиться о себе во всех церквах различных религий и причащался три раза в течение одной недели». Он хворал достаточно долго, чтобы успеть составить завещание, которое логически вытекало из им же изданного закона о престолонаследии. Но боязнь смерти была так велика, что у него не хватало духу за это взяться, а у окружающих – напомнить ему об этом. Спохватились, когда Петр был уже почти в агонии, но в каракулях, выведенных дрожащей рукой, смогли разобрать только два слова: «Отдайте все…» Кому – осталось неизвестным. Согласно комментировавшей закон о престолонаследии «Правде воли монаршей» Феофана Прокоповича, «народ» должен был теперь «угадывать» волю умершего государя. Проще говоря, на другой же день после смерти первого императора российский престол стал избирательным. Ни в теории, ни на практике тут не было так много нового, как может показаться нам. Первые цари дома Романовых обыкновенно «обирались» на царство Земским собором – по крайней мере, формальность избрания была соблюдена и при восшествии на престол Петра. Когда «св. синод и высокоправительствующий сенат и генералитет согласно приказали» русскому народу повиноваться вдове умершего, императрице Екатерине Алексеевне, это была не столько новая форма, сколько просто новые слова для обозначения собрания, в сущности, такого же состава, как и выбиравшее в 1682 году самого Петра, которое состояло из «освященного собора», «боярской думы» да «московских чинов». Новизна заключалась в том, что раньше, начиная с Алексея, избрание было, действительно, только формой, потому что наследник всем был известен и находился налицо; теперь же, хотя в наследнике тоже не было недостатка, в обход его избрали лицо, никаких прав на престол не имевшее.
И выбрали притом не те, кто мог это сделать по традиции, и от чьего лица был написан цитированный нами манифест, а опять-таки люди, формальным правом выбора не располагавшие. «Сенат, синод и генералитет» писали под диктовку гвардии, которая в этот момент всеобщего недовольства являлась самой недовольной и наиболее опасной силой.
Иностранные дипломаты весьма согласно в главных чертах передают события, происходившие во дворце в ночь с 27 на 28 января 1725 года. Когда гвардейские офицеры простились со своим полковником, уже терявшим сознание, старшие из них – согласно одним известиям, по собственному почину; согласно другой версии, предводимые рейхс-маршалом князем Меншиковым, – направились к Екатерине и «принесли» ей «присягу в верности». Что это не была верноподданническая присяга, ясно из того, что Петр был еще жив в ту минуту: «присяга», очевидно, заключалась в обещании гвардейцев не выдавать свою полковницу. Заручившись таким обещанием, последняя, как сейчас же обнаружилось, поступила вполне целесообразно, ибо даже после немедленно, конечно, огласившегося в придворной среде визита преображенцев к Екатерине находились смелые люди, утверждавшие, что законным наследником является сын казненного царевича Алексея и внук первого императора, будущий Петр II, и между этими людьми было большинство «верховных господ». Только Меншиков, Толстой и генерал-адмирал Апраксин были решительно против этой кандидатуры, и если позицию Толстого легко объяснить его мрачной ролью в деле Алексея Петровича, то поведение главы сухопутной армии и главного начальника русского флота едва ли можно свести только к личным мотивам. Их толкало в определенном направлении общественное мнение тех групп, во главе которых они стояли. Чего ждала от Екатерины армия, совершенно ясно становится, как скоро мы узнаем обещания, данные ею в обмен на «присягу в верности» гвардейцев. «Императрица объявила с самого начала, что жалованье им заплатит из собственной казны». Мало того, она «имела предусмотрительность заранее послать в крепость деньги для уплаты жалованья гарнизону, который не получал его уже шестнадцать месяцев, подобно прочим войскам… Чтобы еще более расположить их к себе, царица распорядилась раздачею всем полкам денег не в счет жалованья, солдатам же, занятым на различных работах, приказано было прекратить работы и отправиться к местам своей стоянки, будто бы молиться Богу за государя».
Ловкость, с которой повела себя Екатерина на этом своеобразном аукционе, в первую минуту привела в необыкновенный восторг иностранных наблюдателей и внушила им чрезвычайно преувеличенное представление о способностях новой государыни. Ее «по всей справедливости можно назвать северной Семирамидой и изумительным примером дивного счастья, – писал по поводу события 28 января Кампредон. – Без знатного происхождения, без всякой поддержки, кроме личных своих достоинств, не умея даже ни читать, ни писать, она в течение долгих лет пользовалась любовью и доверием величайшего монарха, человека, наименее из всех смертных поддававшегося чьему-либо прочному влиянию, а после его смерти сумела сделаться самодержавной государыней, к общему восторгу всех и без малейшей тени, по крайней мере, до сих пор – чьего-либо противодействия ее счастью». Противодействовать было бы очень рискованно, когда князь Меншиков прямо угрожал убить всякого, кто осмелится противиться провозглашению Екатерины царствующей императрицей, и «то же самое говорили и гвардейские офицеры, с намерением помещенные в углу дворцовой залы», где совещались синод, сенат и генералитет. Личная же роль государыни и самим восторгавшимся стала казаться менее значительной, когда они присмотрелись к ее управлению поближе. Из всех функций Петра его вдове всего больше подошли, как это ни странно, полковничьи. Тут она старалась заменить покойного императора с чрезвычайной энергией и не без успеха. Когда ее дочь Анна Петровна венчалась с герцогом голштинским (помолвлены они были еще при жизни Петра), Екатерина не была на свадьбе по случаю траура, но и траур не помешал ей явиться на военную часть торжества. Она пешком обошла ряды гвардейцев, выстроенных, по обыкновению, на Царицыном лугу, пила, конечно, водку за их здоровье и раздавала им жареную говядину. Солдаты «приветствовали ее восторженными кликами, бросая шапки вверх». И подобных военных сцен мы встретим не одну у современников. Но мало-помалу последние начали находить, что этой стороной своей задачи императрица увлекается чересчур. Уже спустя полгода после воцарения Екатерины так восторгавшийся ею Кампредон начал находить, что «и уважение, и преимущества, заслуженные ее великими дарованиями», императрица может утратить благодаря своим «развлечениям». Развлечения эти заключаются в почти ежедневных, продолжающихся всю ночь и добрую часть дня попойках в саду с лицами, которые, по обязанностям службы, должны всегда находиться при дворе. Екатерина редко ложилась ранее 4 часов утра, и состояние хронического винного угара, в котором она находилась, исключало всякую возможность с ее стороны занятия «государственными делами». Деловые иностранцы, которым приходилось наблюдать близко Петра во время его заграничных поездок, и насчет работоспособности самого преобразователя в этой области были невысокого мнения. Приставленный к Петру во время его путешествия в Париж французский чиновник никак не мог понять, когда же русский царь занимается политикой, и пришел, наконец, к заключению, что политические вопросы разрешаются у русских, вероятно, во время обеда, за бутылкой вина. В сущности, эти дела решались «верховными господами» совершенно самостоятельно. Петр, если дело не касалось армии и флота, вмешивался в них лишь спорадически, главным образом, в те минуты, когда машина уже очень начинала скрипеть и, видимо, грозила вовсе остановиться. От Екатерины ждать даже такого спорадического вмешательства было бы бессмыслицей. Необходимость фактического государя рядом с номинальным сознавалась знающими императрицу людьми, по-видимому, уже в сам момент ее воцарения: уже тогда шли какие-то глухие разговоры о каком-то «особенном совете, облеченном некоторою властью», который помешал бы Екатерине быть «вполне самодержавной». В ту минуту, однако, за нею стояли армия и флот, Меншиков и Апраксин – разговоры о «совете» не были никем энергично поддержаны. Но самодержавие Петра дало слишком отрицательные результаты, чтобы с простым продолжением его легко мирились, особенно, когда официальный его носитель явно неспособен был поддерживать даже внешний декорум. Оппозиция, и вовсе не во имя возврата к старине, как обыкновенно себе представляют, а напротив, во имя «европеизации» и политических форм, она, слабо тлевшая при Петре, в царствование Екатерины I вспыхнула довольно ярким пламенем. Если при жизни преобразователя дело не шло дальше дерзких речей, вроде заявления одного флотского капитана, что царь, собственно, не имеет права распоряжаться, не спросясь Земского собора, его преемнице пришлось иметь дело гораздо больше чем с простыми разговорами. Во время военных салютов, на которые в присутствии императрицы были так же щедры, как и при покойном императоре, начали свистеть пули, «нечаянно» вложенные в ружья, падали раненые и убитые, притом, как на грех, в двух шагах от Екатерины. В застенках постоянно кого-нибудь пытали – то гвардейских солдат, то каких-то «двух знатных дам, привезенных из Москвы в кандалах», то брата гувернера великого князя. Ромодановский, сын князя-кесаря, унаследовавший от отца должность начальника тайной политической полиции, рассказывал своим приятелям, что он более не в состоянии выносить ужасов, которые ему приходится видеть. Нельзя было безусловно положиться даже на свою главную опору – войско. Помимо отдельных офицеров и солдат, под подозрение подпали целые армии вроде малороссийской, командир которой, очень популярный среди своих подчиненных князь Михаил Михайлович Голицын, считался одним из самых ненадежных. В феврале 1726 года пришлось переменить гарнизон в Петропавловской крепости. Надо было примирить с собой хотя бы часть недовольных и постараться ослабить недовольство другой части. В такой обстановке возникает учреждение, значение которого до сих пор мало понятно русским историкам, хотя современники поняли его отлично и сразу – Верховный тайный совет.
Судьба Верховного тайного совета в нашей историографии лишний раз показывает, как рискованно перенесение новейших правовых норм на отношения, весьма далекие от буржуазного государства XIX–XX веков. Споря о «юридической природе» этого странного учреждения, созданного номинально для того, чтобы развязать руки носительнице верховной власти, а фактически связавшего эту носительницу по рукам и по ногам, наши исследователи чрезвычайно мало интересовались его политическим и социальным смыслом. В результате, принято говорить о «попытке ограничить самодержавие в 1730 году», тогда как оно было уже ограничено в феврале 1726-го, о «верховниках», как о некотором новом явлении, свойственном царствованиям Екатерины I и Петра II, тогда как в действительности членами Верховного совета стали именно те, кто управлял государством при Петре I. Смотревшие со стороны иностранцы, по обыкновению, видели лучше, чем позднейшие туземные историки. Неоднократно цитированный нами Кампредон очень определенно намечает и те мотивы, которые сознательно клались в основу возникавшего учреждения его организаторами, и то объективное значение, которое это учреждение должно было получить независимо от чьих бы то ни было мотивов. Самодержавие гвардии, олицетворяемой Меншиковым, начало, наконец, надоедать наверху так же сильно, как вызывало оно брожение внизу. Сама гвардия должна была остаться весьма мало удовлетворенной меншиковским режимом. Из одного документа, относящегося к марту 1726 года, мы узнаем, что еще тогда, год с лишним спустя после вступления на престол Екатерины, гвардия не получила «хлебной дачи» даже за последнюю треть 1724 года, «отчего те полки (Преображенский и Семеновский) претерпевают нужду». Для того чтобы достигнуть такого результата, не стоило «головы разбивать боярам», как с готовностью предлагали гвардейские офицеры в ночь с 27 на 28 января 1725 года. Но и та, в чье удовольствие делалось это предложение насчет боярских голов, должна была чувствовать себя удовлетворенной не более гвардейцев. Рассматривая политику с семейной точки зрения, Екатерина очень близко принимала к сердцу голштинские интересы своего зятя. Она находила вполне естественным если не начать войну, то, по крайней мере, угрожать войной Дании за некорректность этой последней к ее маленькому голштинскому соседу. А герцог-зять, конечно, как нельзя более был бы рад получить в свое полное распоряжение, в придачу к очень умеренному количеству голштинских штыков, совершенно неумеренное количество русских. Но со стороны Меншикова, к его на этот раз чести, не видно было никакого сочувствия к подобным проектам. Наконец, прочие «верховные господа», как мы видели, с самого начала были не только против Меншикова с Толстым и Апраксиным, но и против самой Екатерины. Мало-помалу они должны были, однако же, убедиться в относительной безобидности последней. Помимо того, что ей «некогда» было вмешиваться в государственные дела, все более и более очевидно становилось, что ее царствование не может быть продолжительно. По распространенному в тогдашних придворных и дипломатических кругах мнению, болезнь Петра была передана и императрице. При отсутствии всякого подобия профилактики в то время это вполне правдоподобно: от Петра случалось заражаться и его денщикам. «Получаемые со всех сторон известия утверждают положительно, что царица жить не может, ибо кровь у нее совершенно заражена», – писал французский министр иностранных дел своему агенту в Петербурге с лишком за полгода до смерти Екатерины. При дворе этой последней дело, конечно, должны были знать еще лучше, чем в Версале, – то, что не удалось 28 января, оказывалось только отложенным, а отнюдь не потерянным. Нужно было готовиться к новому бою на том же поле и заранее укрепить свои позиции. Когда герцог голштинский выдвинул в своих личных расчетах проект ограничения власти, фактически, Меншикова, Головкин и Голицын пошли на это с полной готовностью, справедливо рассуждая, что пустивший глубокие корни в русскую почву Алексашка бесконечно опаснее маленького и недалекого немецкого принца, которого ничего не стоило и прогнать, когда он будет использован. Так именно и изображает дело упоминавшийся нами иностранный дипломат: хлопоты «герцога голштинского и его министра» он ставит как исходную точку описываемого им «важного события», а «усиление власти русских вельмож» ему кажется неизбежным дальнейшим его последствием. Он заканчивает свою реляцию о новом учреждении такими словами: «Легко, впрочем, видеть, что он (совет) представляет собою первый шаг к перемене формы правления; что московиты хотят его сделать менее деспотическим, нежели оно было, и что многих удержало только малолетство великого князя, – что заставляло их, за отсутствием главы, способного их поддержать, взять всю ответственность за события на себя. Теперь, когда наступит благоприятный случай, они этому риску не подвергнутся более, так как постараются, без сомнения, утвердить свое влияние и незаметно ограничить самодержавную власть, заставляя ее жаловать такие привилегии, которые создадут возможность учредить и поддержать правление, подобное английскому».
Ссылка на «наиболее разумных людей», которые держатся того же мнения, показывает, что Кампредон не столько сам до него додумался, сколько был на него наведен разговорами самих русских «вельмож». «Пункты», предъявленные императрице Анне в 1730 году, уже определенно предчувствовались в феврале 1726-го. Известное «мнение не в указ», дающее конституцию Верховного тайного совета, ставит дело, в сущности, более обще и просто, нежели эти знаменитые «пункты». Вместо того чтобы перечислить казусы, в которых императрица не может действовать самостоятельно, «мнение» дает положение, обобщающее все возможные случаи: «Никаким указам прежде не выходить, пока оные в Тайном совете совершенно не состоялись». Екатерине, т. е. герцогу голштинскому, это, однако же, показалось слишком сильно. Зависеть от русского большинства совета он не пожелал, и обязательное согласие всего совета на распоряжения государыни было заменено обязательным контрасигнованием императорских указов одним или, в важных случаях, двумя его членами. Найти себе компаньона герцог, очевидно, считал более легким делом, нежели переубедить всех «верховников». Но им удалось одержать все же принципиальную победу и в этом пункте. Указы должны были выходить с формулой: «Дан в Нашем Верховном тайном совете», равно как и всякого рода «рапорты, доношения или представления» должны были надписываться: «к поданию в Верховном тайном совете». В глазах подданных власть, таким образом, была уже заключена в весьма прочный футляр, и общество должно было мало-помалу привыкнуть к тому, что государь не управляет непосредственно, и что его распоряжение имеет силу только тогда, когда оно облечено в известную конституционную форму.
С самого начала, однако же, было совершенно ясно, что эта форма сама по себе никого удовлетворить не может, и что те, кого Ромодановскому приходилось пытать в застенках, всего меньше могли помириться на формальном равенстве между «верховными господами». Меншиков потому, кажется, и согласился без большого спора на образование совета, что гораздо больше ценил сущность власти, нежели ее парадные атрибуты. В качестве отступного он потребовал себе полной автономии у себя дома – в военной коллегии, где раньше ему докучал сенат своими попытками ревизии и контроля. Но именно потому, что дело не очень менялось сравнительно с предшествующей эпохой, такой перемены обществу было мало. Чтобы приучить его к аристократической конституции на английский лад, нужно было доказать ее практическую пользу. Иначе ее «английская» форма могла только ее скомпрометировать. Что совету придется отстаивать свое существование, это «верховники» должны были почувствовать с первого же, можно сказать, дня. 9 февраля совет официально возник, и об этом был послан указ в сенат. Сенат указа не принял и через своего экзекутора в самой обидной форме «подбросил» его, что называется, в канцелярию нового учреждения. Это был один из тех моментов, когда даже в сухой канцелярской переписке чувствуется трепет драмы, если угодно, впрочем, скорее комедии, ибо момент, когда секретарь совета, действительный статский советник Степанов, всовывал указ за пазуху сенатскому экзекутору, несомненно принадлежит к этому последнему жанру. Ближайшая к верховникам по своему официальному положению общественная группа, петровский «генералитет», явно не желал признавать «английской» конституции, делавшей несколько человек, еще вчера сидевших в ее среде, ее господами. К сенату были применены крутые меры: он был лишен титула «правительствующего» и остался только «высоким», что гораздо важнее и характернее, сенат был лишен самостоятельной военной силы под предлогом экономии (это был тогда универсальный предлог), была упразднена «сенатская рота», а при сенате оставлено 10 человек курьеров. Наконец, совершенно «по-английски», назначили ряд новых сенаторов, как в Англии назначают новых пэров для укрощения непослушной верхней палаты, притом совершенно не стесняясь чинами, «ранга генерал-майора и ниже действительных тайных советников двема рангами», так что посланный на ревизию сенатор, действительный тайный советник Матвеев, не знал, как ему, не унижая себя, рапортовать столь демократизованному учреждению. В официальной переписке сенат мало-помалу был сравнен с «прочими коллегиями», и за какую-нибудь неисправность у сенаторов удерживали жалованье, точно у мелкой канцелярской сошки. Словом, совет отвел душу в полное свое удовольствие. Но столкновение с сенатом было только симптомом общего положения. Ни «верховники», ни «генералитет» не представляли непосредственно никакого общественного класса: значение Верховного тайного совета и его судьба станут нам ясны, только когда мы вскроем классовую подкладку его политики. Тогда мы увидим, что режим «верховников» был финалом петровской реформы. В управление Россией Дмитрия Голицына – ибо фактически он был главой Тайного совета в двухлетний промежуток между ссылкой Меншикова и смертью Петра II – волна буржуазной политики дала свой последний всплеск. С момента падения верховников начинается ничем уже непрерываемый отлив, и своими конституционными проектами Голицын сам засвидетельствовал падение той системы, которой ему суждено было стать последним представителем.
О буржуазной политике Верховного тайного совета можно говорить, начиная еще с меншиковского периода его существования. Уже 20 декабря 1726 года по представлению Меншикова, Остермана и Макарова решено было организовать комиссию, «которой рассмотреть генерально все купечество Государства российского, каким образом оное к пользе государственной лучше и порядочнее исправлено быть может». А в виде задатка к великим и богатым милостям, которые имели место излиться на купечество от этой комиссии, императрица, по докладу тех же лиц, «указать соизволила: для распространения купечества к городу Архангельскому с будущего 1727 году торговать всем позволить невозбранно». Мера была подробно мотивирована в «мнении», поданном в сенат камер– и коммерц-коллегиями и главным магистратом. Это «мнение» – один из самых толковых документов русского меркантилизма начала XVIII века. В нем весьма обстоятельно доказывается, что петровская дубина в области экономики ни к чему, кроме лишних непроизводительных расходов, не приводила и, стало быть, ничем, кроме задержки в накоплении капиталов, не служила. «Коммерции надлежит быть во всякой вольности; которые купцы к которому порту и за рубеж торговать имеют способность, в том им запрещать не надлежит»: кому выгодно возить в Петербург, тот и впредь свои товары туда повезет, и если уж можно создать в пользу столицы какое-нибудь искусственное преимущество, то разве понизив тамошние вывозные пошлины сравнительно с «городом» (как весьма характерно именуется в документе Архангельск – для допетровской буржуазии город по преимуществу). Запрещать же возить товары в «город», как это делал Петр, есть сущая нелепость. Официальный документ, само собою разумеется, не выражается так определенно, но мысль его именно эта. Стоит отметить одну его деталь: в числе товаров, которые войдут в Архангельск, «мнение» имеет в виду и хлеб. «За такой отпускной хлеб из чужих краев входил великой капитал в Российское государство от самой крестьянской работы», с запрещением хлебного вывоза Петром, этого «капитала» лишились «крестьяне, которые в поморских некоторых городах и на Вятке большею частью продавая хлеб подати оплачивали». Так рано появляется предчувствие аграрного капитализма, и притом – что всего характернее – в тех местах, где не было крепостного права. Превращаясь в фабрику для производства хлеба на вывоз, помещичьи имения второй половины XVIII века только шли по следам «черносошного», государственного крестьянства.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































