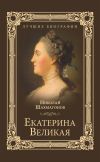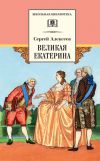Текст книги "Екатерина Великая. Владычица Тавриды"
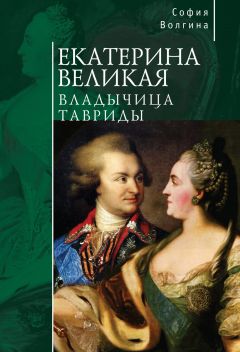
Автор книги: София Волгина
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Слушатели обратили свои взоры на императрицу, сидящей рядом с Потемкиным. Екатерина, при этом, поклонилась всем и обратилась к графу:
– Лев Александрович, мне так понравились те слова, кои, были начертаны под вензелем. Конечно, я сей час не скажу точно. Сделай милость, воспроизведи их для графа Потемкина!
– Извольте, Государыня! С легкостью и превеликим удовольствием!
Моложавый и, как в молодости, все ее худощавый Нарышкин, в щегольском камзоле, вскочил сместа и на одном дыхание произнес их:
«Сей из обретенного в Сибири мрамора сделанный и от все щедрой государыни Екатерины Второй в дар полученный столб, в незабвенный знак к Ея Императорскому Величеству благодарности на сем месте поставил Лев Нарышкин в лето, в кое российский флот прибыл в Морею и истребил турецкие морские силы».
Потемкин, досель слушавший с меланхолическим вниманием, впечатленный последними словами, встрепенулся и, подав руку графу, даже обнял и похлопал его по плечу, говоря при том весьма громко, дабы все слышли:
– Зришь в корень, Лев Александрович! Таковые праздники долженствуют остаться в памяти людской на века! Погоди, и мы с Ея Величеством устроим таковой праздник в честь нашего победного оружия – всем праздникам праздник!
Он кинул быстрый взгляд на императрицу, коя благосклонно улыбнувшись, едва заметно кивнула ему.
* * *
После завтрака императрица со свитой, где всегда присутствовала Мария Саввишна, Екатерина, вернувшись в спальню, успела с утра написать цыдульку Потемкину:
«Миленький, здравствуй. Я встала тому полчаса и удивляюсь, как ты уже проснулся. За письмецо и за ласку спасиба тебе, душенька. Я сама тебя очень, очень люблю. При сем к Вам гостинца посылаю. Вели Параше приехать обедать к Бетскому».
Начиная с осени, граф Потемкин и сама Екатерина довольно часто страдали недомоганиями так, что ее, желавшей видеть Григория Александровича постоянно перед своими глазами, весьма огорчало. Порой, его отсутствие становилось ей настолько невыносимо, что она почти ежедневно и на дню не один раз, писала ему.
Однако, когда болела Екатерина, он пенял, что она выдумывает причины не видеться с ним, на что она, оправдываясь, отвечала:
«Вздор, душенька, несешь. Я тебя люблю и буду любить вечно противу воли твоей».
Болея, оставаясь один, Потемкин думал о себе и Екатерине, дивясь ее сумасшедшей к нему любви. В ней толико было неистраченного заряда нежности, страсти, что можно было подумать, что ее, так нуждавшейся в любви, никогда не любили. Однако, не любил ее токмо ее собственный муж. И Салтыков, и Понятовский, и Орлов, и Васильчиков по-разному, но любили ее. Она твердит, что токмо он – тот, кого она ждала всю жизнь. Хотелось бы поверить… Ему и до сих пор не верится, что Господь сподобил дать ему такую жену, кою он чувствует, как самого себя. Она его половина. Он видит ее насквозь и знает, что она скажет в следующую минуту. Едино, чему он иногда поражался – ее доброте, часто неожиданной для него. Она была готова для него на все, и он пользовался оным, третировал ее, как обычный русский мужик, начисто забывая, что пред ним державная государыня Российская.
Лежа в постели, почти выздоровевший, он с удовольствием перебирал записки своей жены, которых набралось у него около сотни. Читая их, он как будто разговаривал с ней.
«Батинька, сударушка, здравствуй. Ты мне мил наравне с душою. Что б ни говорил противное, знай, что лжешь, и для того не верь бредне подобной».
«Так уж милая ты знаешь мою душу, – думал он, – когда я сам ее не знаю… Впрочем, можливо статься, она знает ее лучше меня, и не так она, стало быть, моя душа плоха».
«Голубчик мой, я здорова и к обедне выйду, но очень слаба и не знаю, обедню снесу ли я. Сударушка милой, целую тебя мысленно».
«Ну, слава Богу, – вздыхал он, – а я еще поболею. Что-то на душе не так».
Вот записка, писанная, когда она выздоравливала, а он не проявлял инициативы к встрече, находясь в плохом настроении. Тогда она призывала его:
«Батинька, мой милой друг. Прийди ко мне, чтоб я могла успокоить тебя безконечной лаской моей».
Но граф, намеренно капризничая, не шел. Екатерина терпеливо писала:
«Батинька, здоров ли ты и каков опочивал? Дай знать, душа милая».
Оказывалось, что он болен, и императрица паки слала записки:
«Бог видит, голубчик, я не пеняю, что не выйдешь, а токмо сожалею о том, что недомогаешь и, что тебя не увижу. Останься дома, милуша, и будь уверен, что я тебя очень, очень люблю».
«Милуша, что ты мне ни слово не скажешь и не пишешь? Сей час услышала я, что не можешь и не выйдешь. Разве вы сердитесь на меня и почему?»
Опять заболела она и он, недовольный писал ей, спрашивая о здоровье, на что она отвечала:
«Батинька, душа, окроме слабости, теперь ничего не чувствую».
Уже выздоровев по всем статьям, Потемкин злился, что она никак не появится, не приласкает его, не покажет к нему своей любви. На его обвинения в письме она отвечала:
«Лжешь, душенька, не я спесива, не я неласкова, а токмо очень была упражнена своим прожектом. А впрочем, очень тебя люблю».
«Bonjour, mon coeur. Comment Vous portes Vous.Моей голове есть лехче, и я Вас чрезвычайно люблю».
Наконец, после двухнедельной разлуки, они встретились, и она, после расставанья, не замедлила отписать ему:
«Лучий подарок в свете ты мне зделал сегодни. Тем же отдариваюсь, милой мой и прелюбезной друг».
И следом – другая:
«Естьли ошибки нету в ортографии, то возврати, и я запечатаю. А естьли есть, прошу поправить и прислать сказать запросто, могу ли я прийти к Вам или нельзя? А Вас прошу по холодным сеням отнюдь после бани не отваживаться. Adieu, mon bijou».
Он попросился поехать в свой Семеновский полк, и она отпустила его:
«Поезжай, голубчик, и будь весел».
По возвращению ему в тот день подали несколько ее записок:
«Душенька, разчванист ты очень. Изволишь ли быть сегодни и играть на бильярды? Прошу прислать сказать на словах – да или нет, для того, что письма в комедьи без очков прочесть нельзя. Мррр, разчванист ты, душенька».
Потемкин усмехнулся: «Да, бедная моя, я в самом деле, замучил тебя своими выходками».
Прочитав следующую записку, он подумал, что пора бы ему уж и смягчиться.
«Гришенок, не гневен ли ты? А хотя и гневен, я надеюсь, ты сам велел не единожды, что гнев твой перестанет. А я перестала же ворчать на Панина и на его Короля, а не отроду не на тебя».
«Царица не ворчит на Панина и на короля Фридриха, а тебе все не так!» – ругнул себя Потемкин.
«Здравствуй, душа. Я здорова, каков-то ты миленький? Изволь водить в Эрмитаж весь причет церковный и знай, что тебя люблю, как душу».
Потемкин улыбнулся, вспоминая, как по их просьбе, с разрешения Екатерины, он привел в Эрмитаж весь причет, и как духовные братья рассматривали там картины на библейскую тему, как потом благодарили его и просили передать благодарность императрице.
«Душа моя милая, я все сие кровью подпишу. Трактат таковой важный и милый инако подписан бы не должен».
Григорий с грустью улыбнулся. «И в самом деле, она может и кровью подписать, соглашаясь со всеми его прожектами».
«Здравствуй, милой друг. Я устала так, как нельзя более. Я убирала бумаги да еще не окончила. Два часа целые».
«Здравствуй, душенька. Я спала до девятого часа и теперь токмо встала. Каков ты опочивал, пришли сказать, буде писать поленишься. Рано, а ужо В. К. будет. Люблю тебя, как душу, душа, душатка милая».
Потемкин скривил губы, упоминание существования «В. К.» – Великого князя, было ему вовсе не по душе. Из-за него по вторникам и пятницам Потемкин носа не показывал в утреннее время.
Следующие признательные записки Потемкин читал, слюнявя палец и медленно перелистывая, особливо внимательно:
«Хоть тебе, душечка, до меня и нужды нету, но мне весьма есть до тебя. Каков ты в своем здоровье и в опале ли я или нету? А тебе объявляю всякую милость от Бога да и от Государыни».
«Я очень и без перевода поняла, что все сие написано было, и мой ответ точно значил, что я тебя чрезвычайно люблю и тобою весьма довольна и счастлива. Желаю, чтоб ты в том же находился положении».
«Гришенька, знаешь ли ты, вить тебе цены нету. Токмо, пожалуй, пришли сказать, каков ты после мыленки».
«Здравствуй, голубчик. Все ли в добром здоровье. Я здорова и тебя чрезвычайно люблю».
«Мамурка, здоров ли ты? Я здорова и очень, очень тебя люблю».
«Гришенька, здравствуй. Хотя, что ни говори, но люблю тебя чрезвычайно».
«Батинька, не смею приходить, что подзно, а люблю тебя, как душу».
«Милой друг, я не знаю почему, но мне кажется, будто я у тебя сегодни под гневом. Буде нету и я ошибаюсь, tant mieux. И в доказательство сбеги ко мне. Я тебя жду в спальне, душа моя желает жадно тебя видеть».
«Батинька милой, я здорова, но спала худо и мало, а Вас люблю много».
Потемкин, утомившись, прервал чтение и аккуратно сложив все записки, перехватил бечевкой.
Посидел, подумал. Улегся на кровати, вытянул ноги. Не нравилось ему, что Екатерина желала видеть его всегда и везде и не переносила его отсутствие, с трудом уступая его просьбам куда-то отлучиться.
«Однако, любит тебя царица, добрый молодец, Григорий, изрядно любит. Весьма изрядно! – подумал он с удовлетворением. – Надобно встретиться сегодни непременно. С другой стороны, ни к чему мне находиться у нее на побегушках, и зависеть от ее монарших прихотей. Надобно честь свою мужскую блюсти!»
Полежав еще немного и поразмыслив, вдруг подумал: «О каких побегушках ты, Григорий Александрович, упоминаешь, бессовестный и неблагодарный?»
Встав, он крикнул камердинера и, написав ласковую записку Екатерине, засобирался к ней с визитом.
* * *
В начале июля государыня Екатерина Алексеевна получила донесение, что на центральной площади Саранска был зачитан указ Пугачева о вольности для крестьян. Жителям были розданы запасы соли и хлеба, а городскую казну разбрасывали черни, ездя по городовой крепости и по улицам. К сообщению был приложен его Манифест. Екатерина пробежала по нему глазами и отбросила его. Позвонила и послала за графом Григорием Потемкиным. Паки взялась за чтение злостной бумаги. Сей манифест произвел на нее изрядное впечатление и воодушевил бы такожде на присоединение к войску Пугачева. Людьми движет надежда на лучшую жизнь, как говорится, «или пан или пропал». А таковых людей не один мильон…
Вошел Григорий Потемкин. Екатерина подала ему бумагу.
– Изволь Григорий Александрович, посмотреть сей манифест, прочитай его вслух, послушаю его.
Потемкин, повертев его в руках, принялся медленно и членораздельно вычитывать:
«Объявляется во всенародное известие
Жалуем сим имянным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием всех, находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собственной нашей короне; и награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностию и свободою и вечно казаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и протчих денежных податей, владением землями, лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и соляными озёрами без покупки и без оброку; и свобождаем всех от прежде чинимых от злодеев дворян и градцких мздоимцов-судей крестьяном и всему народу налагаемых податей и отягощениев. И желаем вам спасения душ и спокойной в свете жизни, для которой мы вкусили и претерпели от прописанных злодеев-дворян странствие и немалыя бедствии.
А как ныне имя наше властию всевышней десницы в России процветает, того ради повелеваем сим нашим имянным указом: кои прежде были дворяне в своих поместиях и водчинах, – оных противников нашей власти и возмутителей империи и раззорителей крестьян, ловить, казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами. По истреблении которых противников и злодеев-дворян, всякой может возчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до века продолжатца будет.
Дан июля 31 дня 1774 году.Божиею милостию, мы, Пётр Третий,император и самодержец Всероссийский и протчая,и протчая, и протчая».
Потемкин дочитал и, паки повертев бумагу, бросил ее на стол. Упершись руками о спинку стула, он склонил голову в раздумье. На Екатерину он не смотрел: знал, она крайне раздражена и раздосадована.
– Опять, небось, их грамотей, Иван Почиталин, писал, – заметила с иронией Екатерина. – Оному казачку всего-то двадцать лет, сказывают, его отец послал к Пугачеву служить.
Потемкин, подняв голову и выпрямившись, молвил с усмешкой:
– А ты думала, государыня – матушка, так быстро можно покончить с чернью? Поди теперь, успокой их отцов, сыновей… Не хотят они жить по – старому, по-скотски…
Потемкин мрачно уставился на карту. Екатерина нервно прохаживалась по кабинету.
– Ведаю, что ты хочешь сказать. Понимаю, надобно улучшить их жизнь. Ужели я противу оного?
Как улучшить? Вот в чем вопрос?
Потемкин побарабанил пальцами по столу:
– Как? Надобно сериозно об том думать нам всем и, особливо, правительству.
Обсудив сей вопрос с некоторых сторон, Екатерина устало откинулась в кресле. Прикрыла глаза.
– Откуда сей разбойник берет толико народу? – возмущенно вырвалось у нее. – Двадцать пять тысяч! А ведь совсем недавно, после последних боев, у него оставалось в десять раз меньше народу!
– Слава Богу, количество не всегда решает исход битвы, – мрачно заметил граф, – Михельсон действовал верно, он ударил по основному пугачевскому ядру – Яицкому.
– Надобно, как следует вознаградить его.
Потемкин молчал. Екатерина не спускала с него глаз:
– Но, что же, Гришенька, следует далее учинить нам? – спросила она дрогнувшим голосом. – Должон же быть выход… Он призывает убивать дворян, он их уже уничтожил несколько тысяч…
– И еще немало падут от него и его помощника, сего башкирца, Салавата Юлаева, – бесстрастно заявил Потемкин. – А что учинить ты спрашиваешь? Так все в его манифесте прописано! Им не нравится мздоимство, рекрутство, судьи, подушные подати и много чего другого.
Потемкин замолчал, разминая сцепленные пальцы рук. Екатерина, чувствуя себя разбитой, перебирала оборки своего платья, огромный брильянт на ее пальце то вспыхивал, то затухал. Потемкин морщил лоб, хмурил брови.
– Как улучшить? Вот в чем вопрос? – паки, в задумчивости, медленно проговорил граф. – Стало быть, что надобно учинить? – наконец собрался он с мыслями. – Надобно много чего поменять в управлении государством, выяснить каковые меры надобно предпринять, дабы не допустить впредь такие бедствия в нашем многострадальном отечестве.
Он обратил к Екатерине свой единственный глаз.
– Что-то я не припомню в истории чужестранных соседей таких страшных бунтов. Может статься, ты знаешь о подобных крестьянских восстаниях?
Она отрицательно качнула головой:
– В нынешнем веке не припомню такового… – ответствовала она. – Соседи наши умудряются жить поспокойнее.
– Вот и надобно понять, отчего жизнь их проистекает в спокойствии. Не идут друг супротив друга, брат противу брата в страшной сечи.
Екатерина сжала виски. Глаза ее отяжелели, потускнели.
Потемкин подошел, сел рядом, положил ее голову себе на грудь.
– Ну, вот, опять тяжелые мысли портят тебе здоровье, – он крепко притянул ее к себе. – Все будет ладно. Осталось немного времени у босяка Емельки. Успокойся!
– Непонятно мне, Гришенька, – вдруг поделилась Екатерина своими сомнениями, – отчего по смерти Бибикова, генерал-майор князь Голицын так долго сидел в Оренбурге, дав тем самым передышку Пугачеву, коий сумел за то время собрать на Урале новые войска?
Потемкин сделал неопределенную гримасу:
– Меня тоже занимает сей вопос… Есть ли бы не оная задержка, не ускользнул бы Емелька от Михельсона. Мне такожде не понятно, как сей самозванец – оборванец осмелился в третий раз штурмовать город Казань, и на сей раз учинить таковой страшный пожар, что сам чуть было не сгорел со своими разбойниками. Едва мой брат, Павел, спрятавшийся с солдатами в Кремле, сумел с ними спастись от оного пожарища!
Оба помолчали, размышляя над сим фактом.
– Но что же Голицын? Как ты мыслишь, отчего он медлил? – прервала молчание Екатерина.
Потемкин собрал брови на переносице. Вздохнув, сказал:
– Не могу утверждать, матушка, но после смерти Бибикова, полагаю, князь, сумевший первым побить супостата, ожидал назначение на его место, но, понеже Ваше Величество поручили командование генерал-поручику Федору Шербатову, князь Голицын оскорбился и стал выжидать, что и как пойдет…
Екатерина ужаснулась:
– Неужто, зависть так на него подействовала? Не можно поверить!
– Может статься – не моя правда… Все прознаем. Дай время, голубушка, Екатерина Алексеевна!
* * *
На одном из приемов при императрице, обер-шталмейстер Лев Нарышкин познакомился с новым французским поверенным в делах Мари-Даниэлем Корбероном, молодым человеком приятной внешности, лет двадцати пяти. Нарышкин не очень-то обращал на него внимания, тем паче, что знал: императрица не жалует французов. Однако, государыня Екатерина Алексеевна намекнула ему, что не худо было бы проследить незаметно, не шпионит ли сей молодой французский красавец в пользу своего молодого короля Людовика.
Императрица знала, что Левушке будет не трудно выполнить оное пожелание с его веселым характером, тем паче, что сведения можно было бы черпать от своих юных старших детей – Александра и Натальи, кои токмо стали выезжать в свет. Екатерина полагала, что агенты агентами, а умный вельможа, многолетний друг, тем паче, преданный, – совсем другое дело. По счастью, помощник посланника оказался весьма общительным, что было весьма по душе балагуру – шталмейстеру. Не успев познакомиться с моложавым и остроумным Нарышкиным, француз охотно рассказывал свои первые впечатления о России, первое мнение о своем дипломатическом сопернике, прусском дипломате графе Сольмсе, как с виду холодном и простодушном, а на самом деле – весьма хитром человеке, что вполне соответствовало мнению самого Льва Александровича.
– Да, оного пруссака на мякине не проведешь! Он добьется своего «не мытьем так катаньем»! – согласился Нарышкин.
Мари-Даниэль попросил повторить поговорку и записал карандашом в свою маленькую книжицу. Затем попросил уточнить ее значение. Узнав перевод ее, заулыбался, закивал головой.
– Так знаете, монсеньор Конберон, – заметил ему Лев Александрович, – сей пруссак не прост, он кавалер прусского Черного Орла и русского – Александра Невского.
– Бог с ним, с кавалером! Есть и другие интересные кавалеры. Мне нравится, к примеру, господин Браницкий. Он так любезен, много говорит о женщинах, как настоящий француз!
– М-да… Сей шляхтич еще тот прожигатель жизни. Такие люди всегда успешны в делах, потому как их все любят не знамо за что.
Корберон улыбался и внимательно слушал.
– А знаете, господин посланник, – предложил Нарышкин, – давайте встретимся послезавтра на ученьях гусарского полка, под командой графа Потемкина.
Лицо Корберона просияло. Он искренне радостно воскликнул:
– С превеликим удовольствием, граф. Я приеду с графом Лясси, гишпанским посланником, естьли вы не против.
– С гишпанским дипломатом? Конечно, императрица его весьма любит.
Корберон весьма проникся к веселому Нарышкину, и бес-конца рассказывал о себе и своих друзьях. От него Лев Александрович узнал о некоторых секретах шевалье де Порталиса, влюбленного в жену Ивана Чернышева, с которой встретился еще во Франции, поелику, любя ее, он и последовал за ней в Россию. Граф узнал, что основной работой Корберона является дешифровка депеш министра графа де Вержена из Франции и шифровка их для маркиза Жюинье, коий возглавлял французское посольство в Петербурге. Еще он не забыл поведать, что, гуляя в Летнем саду, был повержен необычайной красотой девицы Корсаковой, хотя в сердце и мечтах его живет некая прекрасная Шаролотта. Признанья сии смешили Нарышкина, но и одновременно веселили.
Нарышкин видел Корберона и какого-то молодого человека около церкви в воскресный день. Государыня Екатерина Алексеевна возвращалась из церкви после обедни в честь орденского праздника Александра Невского вместе с вице-канцлером графом Остерманом, коий представил ей молодых посланников-французов. Галантные кавалеры, изрядно смущенные, как потом признался Корберон, величием, благородством и любезностью императрицы, почтительно склонились и подошли к протянутой руке.
В тот день праздничный обед был дан в Зимнем дворце, где Корберон и его коллеги из посольства были представлены Великому князю. Бывши в тягости, жена его, Наталья Алексеевна, чувствовала себя неважно и не появлялась в обществе.
После обеда, на балу, Корберон подошел к Нарышкину. Он был в восторге от вошедшего в бальный зал красавца – Федора Орлова и просил его представить ему, что Нарышкин без труда и учинил в пять минут, заодно представил Корберона братьям Ивану и Захару Чернышевым, и их женам, а такожде завоевателю Крыма, старику Василию Михайловичу Долгорукову-Крымскому. Вездесущий Корберон в тот вечер был представлен маркизом Жюинье старой восьмидесятилетней гордой, но веселой графине Румянцевой, матери фельдмаршала, победителя турок.
Корберон с видимым удовольствием знакомился и часто подходил к Нарышкину, удивляя его в сей вечер своими познаниями: француз поведал, что фрейлины русской царицы получают две тысячи в год, а выходя замуж им дают двадцать тысяч приданного, что замужние статс-дамы носят на груди портрет государыни, а фрейлины – шифр, и что сии знаки достоинства даются им на всю жизнь. Промеж тем, Даниэль Корберон хитро поинтересовался, кто такая Нелединская и поделился тайной: в нее, дескать, до сумасшествия, влюблен граф Андрей Разумовский.
Окроме того, француза волновало творчество соотечественника Фальконе, коий, трудясь над конной скульптурой Великого Петра, никак не может вылить головы Петра и лошади.
– Да, – говорил удрученно Нарышкин, – а ведь императрица, двор, да и народ заждался. Все хотят видеть скульптуру царя Петра. Однако, не скоро еще увидим сие творение, не до того теперь.
– Отчего же? – спросил Корберон.
– Известно отчего! Императрица упражнена Емелькой Пугачевым и его лихой армией.
* * *
Война с турками вдруг и неожиданно, завершилась. Освободившиеся на турецких границах войска – всего двадцать кавалерийских и пехотных полков – были отозваны из армий для действий против Пугачёва, который после триумфального вхождения в Саранск и Пензу, метил на Москву, где ещё были свежи воспоминания о Чумном бунте, имевшем место три года назад. Генерал-аншеф Петр Панин, беспощадно карая пугачевцев по ходу движения своих войск, вызвал с бывшего театра войны с турками генерала Александра Суворова, и стянул под свое командование в Первопрестольную семь полков.
Изрядно напуганный страшным крестьянским движением, московский генерал-губернатор князь Михаил Никитич Волконский распорядился поставить рядом со своим домом артиллерию. Полиция усилила надзор и рассылала в людные места осведомителей с тем, чтобы хватать всех сочувствующих Пугачёву.
Императрица получила депешу, что премьер-майор Иван Иванович Михельсон повернул к Арзамасу, дабы перекрыть дорогу к Москве. Генерал Мансуров выступил из Яицкого городка к Сызрани, генерал Голицын – к Саранску. Повсюду Пугачев оставлял бунтующие села и деревни, которые с трудом усмиряли отряды, отличившихся при штурме Татищевской крепости, премьер-майора Карла Муфеля и секунд-майора Густава Меллина.
– Господи, Гриша, – беспокойно сетовала Екатерина, – теперь супротив Пугачева толико наряжено войска, что таковая армия и соседям была бы страшна…
– Не знаю, как соседей, но злодея Пугачева она должна устрашить и изловить, – незамедлительно ответствовал тот. – Тем паче, что сюда, из придунайских княжеств, отозван такожде и Александр Суворов. Он весьма смелый и умелый генерал. Генерал-аншеф Петр Панин поручил ему командование войсками, кои учинят все, дабы разбить основную пугачёвскую армию в Поволжье. Поверь, остались считанные дни до поимки злодея, понеже за дело взялся генерал Суворов!
Екатерина не стала противуречить, но лицо ее выказывало сумление.
Однако, вскорости, слова графа Потемкина подтвердились: последнюю неудачу лже-царь Петр Третий потерпел при штурме Царицина в конце лета. Получив известие о настигающем его корпусе Ивана Михельсона, Пугачёв поспешил снять осаду с Царицына и двинулся к Чёрному Яру. В Астрахани началась паника. В это время, прибывший туда генерал Суворов, действуя, как всегда, быстро и целенаправленно, посадил пехоту на лошадей, отбитых у Пугачева, взял в одной из бунтовавших деревень полсотни пар волов и двинулся в степь, где скрывался мнимый царь Петр Федорович. По пути его отряд рассеял бунтующих казахов и прибыл в Яицкий городок. Напуганные одним именем генерала Суворова, зная, что будут в скорости разбиты, близкое окружение Пугачева, решилось на предательство, тем паче, что за голову Емельяна Пугачева полагалась государева награда. Суворову оставалось токмо поместить, арестованного его же соратниками, главного бунтаря – самозванца в деревянную клетку на двухколесную телегу. Окружив телегу сильным отрядом, генерал Суворов доставил Пугачева в Синбирск и сдал его своему начальнику, генерал-аншефу Петру Панину.
Новость сия чуть ли не мгновенно достигла столицы и стала известна вице-президенту Военной Коллегии Григорию Потемкину, коий сразу же сообщил ее императрице.
После объятий и радостных восклицаний, Екатерина задумчиво молвила:
– А ведь в сей победе, немалую подмогу учинил комендант Царицына – Иван Ефремович Цыплетев, сорока восьми лет. Несгибаемой воли человек! Впрочем, не мудрено: он ведь родственник русских царей…
– Цыплетев? Первый раз я услышал его фамилию, когда отсылал циркуляр укрепить царицынский гарнизон от Емельки.
– И ведь укрепил тщедушный городишко так, что Пугачев не мог взять его! – заметила гордо Екатерина. – Следует наградить оного коменданта. А лучше, призвать его сюда, услышать истину из его уст о том, как сумел остановить ворога.
– Всенепременно, матушка, наградим истинного патриота отечества – Ивана Цыплетева! – охотно согласился Потемкин.
* * *
Кучук-Кайнарджийский мирный договор между Россией и Османской империей завершил русско-турецкую войну. В условиях мира, русские торговые корабли в турецких водах уже полгода пользовались теми же привилегиями, что и французские, и английские, Россия получила право иметь свой флот на Черном море и право прохода через проливы Босфор и Дарданеллы.
Торжества по случаю заключения Кайнарджийского мира решено было провести не в Санкт-Петербурге, а в Белокаменной. Екатерина Алексеевна тщилась возвысить блеск своего двора, дав запоминающийся яркий праздник, дабы воздать должное силе русского оружия и предать забвению пережитое страной в тяжелое время Пугачевского восстания.
В конце своей любимой, на редкость мягкой в том году, осени, сорокапятилетняя Российская императрица Екатерина Алексеевна вдруг почувствовала, что она паки в тягости. В сорок пять-то лет! Вестимо, сия новость весьма обрадовала графа Потемкина. У него даже появились некие новые планы, кои он не все пока доверял Екатерине.
Влюбленные без меры друг в друга Екатерина и Григорий искали уединение. Она была на третьем месяце, когда они поехали в Москву, дабы там отпраздновать новогодние и рождественские праздники, позже торжественно отметить ее день рождения, и, наконец, летом принять участие в праздновании Кучук-Кайнарджийского мира с Турцией. Опричь того, императрица желала самолично говорить с нарушителем покоя целой империи – Пугачевым, казнь коего должна была иметь место в Первопрестольной на лобном месте.
Естественно, с ними отправилась свита, в которой состояли статс-дама графиня Брюс, ее брат, фельдмаршал Румянцев, камер-фрейлина Протасова, фрейлины Полянская, Шкурина, графиня Бутурлина, княжны Белосельская, Волконская и Сенявина, граф Брюс, графы Чернышев, Нарышкин, гофмаршал Орлов, секретари Козьмин и Ребиндер, камергеры князья Несвицкий, Нелединский, граф Чертков, Будлянский, Обухов, Бибиков, Талызин, Лопухин, камер-юнкеры Михаил Потемкин, Загряжский, Спиридов, Васильчиков, Дивов, граф Головкин, а такожде и Великокняжеский двор с обер-гофмейстериной Марией Румянцевой, генерал-аншефом Николаем Салтыковым, камер-юнкерами князем Александром Куракиным и графом Андреем Разумовским, коего государыня вызвала для инструкций перед отправкой с дипломатической миссией в Неаполь. Опричь того, естественно, в Москву отправился и почти весь посольский корпус. Любимая подруга императрицы, Брюсша, находясь почти все время при ней была не в настроении: паки она не смогла выносить ребенка… Екатерина успокаивала ее всю дорогу.
* * *
В Москву привезли восемьдесят пять наиболее близких к Пугачеву сподвижников. Перед запланированной встречей с самим самозванцем императрица вызвала на беседу генерал-прокурора князя Вяземского. Принимала его вместе с князем Потемкиным. Генерал-прокурор прибыл со своими помощниками и соратниками.
На вопрос, каков приговор суда, Александр Вяземский твердо ответил:
– Четвертование.
– Но это бесчеловечно, – запротестовала императрица.
– А сей Пугачев и не человек, Ваше Величество, – возразил генерал-прокурор. Ужели мог нормальный человек методично истреблять свой народ, главным образом дворянство, среди них беззащитных стариков, женщин? И естьли б Емельку не предали его же люди, не стоял бы я перед вами… И мое семейство, включая моих внуков, тоже бы погибло! – убежденно воскликнул генерал – прокурор.
– Но, ведь можно просто человека обезглавить. Сразу предать смерти. К чему оные мучения? Можете себе вообразить, что сначала отрубают руку, человек истекает кровью, потом ногу, а он еще жив и так дальше, пока не отрубят голову? Зачем делать его мучеником перед народом. Разве вы не понимаете, что сие может пуще настроить народ против нас.
Вяземский явно не разделял позицию императрицы. Склонившись, он сказал:
– Стало быть, Ваше Императорское Величество, мое мнение неизменно. Опричь того, я думаю, его поддержат мои единомышленники, которые ожидают вашего приглашения за дверью.
Екатерина встала, прошлась по кабинету.
– Хорошо, пригласите их.
Получасовой разговор с ними, не убедил ни Чернышевых, ни Паниных, ни Репниных об замене четвертования. Императрица отпустила их в подавленном настроении.
Посему, решение Екатерины самой поговорить с Пугачевым, появилось не вдруг. Она хотела посмотреть на человека, коего ей, государыне, тем паче, находящейся в тягости, не хотелось предавать мучительной смерти. Такожде ее беспокоил вопрос, как могло случиться, что в империи, которую она нахваливала перед всем миром, которая покрыла себя славой военными завоеваниями, где так хорошо, как ей казалось, налажено управление, могло иметь место таковое кровавое крестьянское восстание.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!