Текст книги "Религия и мифология"
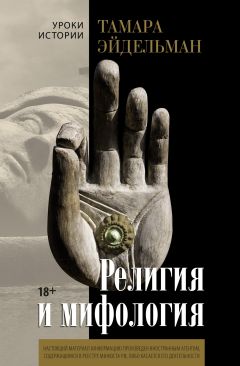
Автор книги: Тамара Эйдельман
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
Конечно, многие народы любят, чтобы помощником оказывался конь, и это понятно: конь связан с древнейшими представлениями о царстве мертвых, с загробным миром, с культом солнца и так далее. И неслучайно очень частый мотив, когда отец из могилы дарит герою коня. И неслучайно, что этот волшебный конь будет или белый, или Сивка – сивый. Настоящие знатоки лошадей говорят, что по-настоящему белых коней нет, есть сивые, просто для невооруженного глаза именно этот цвет и выглядит белым. А что такое белый? Это же бестелесный, как привидение, как призрак. Конь-помощник может быть и рыжий, то есть огненный, или золотой, скажем так (в лекции о загробном мире уже говорилось, что конь – это своего рода солнечное божество, а золото связано с солнцем). Очень часто помощником оказывается птица. Птицы как тотемы были распространены везде (о птицах мы также говорили в лекции о загробном мире, но еще больше о них – в лекции о драконах). Следы культа орла мы обнаруживаем очень часто, и орел то и дело помогает героям сказок, принося им что-то необходимое или перенося их куда-то, когда спасения уже, кажется нет. Известный мотив, например, герой спас птенцов орла от змея, который готовился их пожрать, а за это орел уносит героя куда-то далеко-далеко. И всему этому есть многочисленные параллели в обрядах поклонения тем или иным животным, птицам, растениям, – все это, конечно, представления, уходящие в глубокую-глубокую древность, в тотемизм, в верования древних охотников (подробнее мы останавливаемся на этом в лекции о древнейших формах религии).
Связь с миром духов
Пропп считает – и доказывает это совершенно неопровержимо, – что все эти странные существа, в том или ином виде являющиеся герою, с одной стороны, это представители животного и растительного мира или, может быть, какая-то персонификация сил природы, как тот же самый Морозко. Но это все существа из иного мира, это все духи, могущественные, порой опасные и благожелательные предки. Так, птицы всегда считались посредниками между нашим миром и миром мертвых, и не случайно в таком количестве более поздних культур душу человеческую изображают в виде птички, которая, покидая бренное тело, куда-то улетает. Этот образ мы обнаруживаем вплоть до фильма «Зеркало» Андрея Тарковского, где в финале улетает птичка – разжимается рука героя, птичка выпархивает, он умирает. В сущности, и все эти странные существа, от ежика до Бабы-яги, – это все представители того мира предков, который окружал людей со всех сторон. Потому что, конечно, в их предоставлениях они не уходили никуда далеко, они оставались здесь (см. об этом также в лекции о праздниках).
И с этой точки зрения уже неудивительно, что, куда бы ни лежал путь героя, откуда бы он ни начинался, он ведет через лес. Выходит ли герой из деревни или из дворца, посланный царским или иным велением, он всегда попадает в лес. Это можно объяснить чисто историческими обстоятельствами: понятно, что в те времена, когда складывались сказки, большая часть нашей планеты была покрыта лесами. Я даже не говорю о каких-нибудь первобытных временах, но и в эпоху Древней Руси леса стоят практически повсюду. В северной или центральной Руси размер деревни мог быть один–три двора, а дальше вокруг лес стоял стеною. В раннем Средневековье так было практически по всей Европе, люди действительно жили в мире, окруженном лесом, и лишь постепенно с развитием городов лес вокруг них начал понемногу отступать, причем процесс этот будет очень долгим.
Лес – это место, где живут животные. Индейского слова «тотем» не было, естественно, на Руси, или во Франции, или в Китае, но представления о волшебных предках и об их связи с животным и растительным миром были всегда. Может быть, сказители уже забыли о волшебных предках, эти религиозные представления могли размываться, но в сказках это осталось, и вот этот самый мир волшебных предков помогает герою. Пропп выявляет разные временные слои в сказках, и где-то явно проступает этот наиболее архаичный пласт представлений древних охотников, где-то существует уже какое-то более развитое общество, и там уже появляются совсем другие помощники, но в любом случае это будут вот эти вот представители предков. Не случайно один из сюжетов, распространенных по всему миру, – сюжет про благодарного мертвеца. Это в данном случае будет не предок, не отец или мать, которые помогают герою каким-то образом, но вот герой идет и видит какую-то странную сцену обращения с покойным – скажем, ему отказывают в погребении, или бьют его бесчувственное тело. Почему? Потому что он остался кому-то должен, перед кем-то виноват, он что-то обещал и не выполнил. И герой совершенно не обязан это делать, но он платит долг, что-то делает за этого мертвеца, и потом тот ему помогает, возвращаясь из царства мертвых. Это показывает ощущение близости и связи с предками, всегда существовавшее в народной стихии: духи предков всегда рядом, они не отделены от нас непроницаемой границей, они наши представители и заступники перед лицом вечности, можно воззвать к их помощи. Они совсем рядом, среди нас, в особые дни праздников, связанных с равноденствием или солнцестоянием (например, ирландский Самайн, или Святки, или русский день Ивана Купалы). Вот здесь граница между мирами совсем истончается, и контакт происходит. Но мир сказки, – если мы следуем предположению о том, что сказка в какой-то мере отражает обряд инициации, – это же тоже необычная ситуация. Это, может быть, не праздник в нашем понимании, но это слом повседневности, особые дни, когда обычные законы не действуют. И вот герой отправляется в этот свой смертельный путь, и духи предков сопутствуют и помогают ему, если он правильно себя с ними ведет. Это тоже важнейшее фольклорное представление о том, что нельзя обижать предков, их следует определенным образом почитать, в определенное время кормить, или греть, или оставлять им дары. И тогда, если герой правильно себя ведет, они его пропускают в тот мир. При встрече с Бабой-ягой герой должен, с одной стороны, правильно себя вести, с другой стороны, показать, что он свой. Именно для этого в избушке у Бабы-яги он требует, чтобы она его накормила, напоила, в баньке попарила: он приобщается к еде того мира. Когда Иван-царевич (или Иванушка-дурачок) появляется поблизости, Баба-яга говорит: «Фу-фу, русским духом пахнет». А в английских сказках великан говорит: «Фи-фай-фо-фам, дух британца чую там». При чем тут британец, почему тут русский дух? Понятно, что речь не идет об этничности, Баба-яга чувствует живого человека, который пахнет не так, как в ее мире. Это тоже очень развитое представление о том, что в загробном мире все вроде как у нас, но со знаком минус. Вот как на Святках, изображая духов, выворачивали тулуп наизнанку, или у лешего правый лапоть надет на левой ноге, левый – на правой, и так далее. Нам кажется, что покойники плохо пахнут, а покойникам кажется, что живые пахнут скверно. Поэтому Баба-яга сразу ощущает что-то не то, а Ивану чужд запах ее избушки: это встреча двух миров, каждый из которых другому предельно странен. А дальше они идут навстречу друг другу. Иван ест угощение Бабы-яги или приходит к морскому царю (еще одному стражу на границе двух миров) и начинает пировать, таким образом причащаясь этому чуждому для смертных миру. И герой ест не как обычный человек, а, по замечательному выражению, – «как не в себя»[76]76
Ср.: сказка 355 у Афанасьева, где колдун ел и не наедался: «Развязал и начал жрать все, что попало: сперва ел кушанья, а там принялся глотать ложки, ножи, бутыли и самую скатерть. Живо все обработал и кричит во всю глотку:
– Есть хочу! Голоден!.. Ну, внучек, теперь за тебя примусь!»
(Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: в 3 т. / подгот. Л. Г. Бараг, Н. В. Новиков. – Москва: Наука, 1984–1985).
[Закрыть]. Так иногда изображали мертвецов, которые едят и не могут насытиться. Они могут съесть сколько угодно, а у них еда проваливается, потому что они же бестелесны. Пропп пишет об этом: «Пища в них не остается, а проходит сквозь них». И когда Иван-царевич (или другой герой) на таком пиру, уже на грани загробного мира, съедает десять быков и сто двадцать хлебов[77]77
Или «двенадцать быков жареных да двенадцать кулей печеного хлеба» (у Афанасьева – сказка 144 «Летучий корабль»).
[Закрыть], он тем самым показывает, что он тоже свой, он как мертвец. У Ольги Михайловны Фрейденберг, великого филолога, была идея, что герой ест так много, потому что «прожорлива и ненасытима смерть»[78]78
Фрейденберг О. М. Сюжет Тристана и Исольды в мифологемах эгейского отрезка Средиземноморья // Труды Института языка и мышления АН СССР. II: Тристан и Исольда: от героини любви феодальной Европы до богини матриархальной Афревразии: коллективный труд Сектора семантики мифа и фольклора / Акад. наук СССР; под ред. акад. Н. Я. Марра. – Ленинград: АН СССР, 1932. С. 99.
[Закрыть]. Лишь после такого пира и приобщившись к его потусторонним яствам, герой получает возможность попасть в другое царство.

И. Я. Билибин. «Баба-Яга». Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная». 1900 г.
Конечный пункт путешествия, награда, борьба за награду
В сказочном мире система координат, время и пространство, их законы совершенно не соответствуют нашему миру, да и не должны соответствовать. Долго ли, коротко ли – это сколько? В тридевятом царстве, в тридесятом государстве – это где? Герой проходит через лес (место инициации) и оказывается… где-то в ином мире. Там уже нет ни знакомых избушек, ни сараюшек, ни деревни. Там дворец, или сказочно роскошный город, или крепость, окруженная стенами. И, скорее всего, там все золотое. А может быть, герой сначала попадает в медное царство, потом в серебряное, но главное, куда он идет – это царство золотое: там дворец из золота, там едят на золоте, там сияющая золотом Жар-птица. У царевны этого царства будут золотые волосы. И можно сказать, что это, наверное, примета того времени, когда стали ценить деньги, а возможно, дело в том, что золото в архаическом сознании прямо ассоциируется с солнцем.
В этом царстве герой выполняет какие-то невероятно сложные задания, невыполнимые без помощника, а в награду обретает невесту. Или же падчерица в лесу, пройдя через все испытания, получает какую-то невероятную награду или способность: сундук с драгоценностями или же такое свойство, что, когда она открывает рот, с каждым ее словом у нее изо рта сыплются драгоценные камни. Во всяком случае дальше герой возвращается торжественно домой, и тут сказочный сюжет делает такую остановочку, которая в детстве вызывает ужасное раздражение: ну все уже, все, мы все преодолели, добро победило и должно быть вознаграждено, – так нет! Почему-то герой, скажем, засыпает богатырским сном, а его братья похищают Василису Прекрасную, и кто-то из них собирается сам на ней жениться, или антагонист присваивает себе подвиг героя: это он убил дракона, он победил змея, выполнил задание, добыл царю волшебный артефакт… Или царевна не знает, кто ее спаситель, и узнает правду лишь потом, по какому-то наитию, по какой-то меточке, которую она оставила, – например, отрезала прядь своему спасителю. Но во всяком случае такая отложенная развязка, когда герой еще раз должен доказывать что-то, совершить какой-то дополнительный подвиг, чтобы разоблачить лжегероя. Или он показывает вот эти свои знаки. И уж тогда-то, конечно, для героя все в идеале завершается свадьбой, – что вновь напоминает нам о смысле обряда инициации, после которого молодой человек, уже в статусе взрослого мужчины, может создавать семью, – или, во всяком случае, изобилием, пиром на весь мир, невероятным богатством – одним словом, наградой.
Таким образом, сказка вообще, фольклорная сказка практически всегда заканчивается хорошо. Вкратце ее фабула такова: сначала все было хорошо, потом происходит нечто, возникает некоторый дефицит – вдруг похитили невесту, детей украла Баба-яга, умерла мать, умер отец, появилась мачеха, злые сестры сживают со света. И герою надо уйти в царство мертвых, там выполнить невероятные тяжелые поручения, с помощью предков и соблюдая протокол поведения с ними, вернуться, получить награду. По этому поводу есть важнейшее замечание Мелетинского: «В волшебной сказке вообще человек в принципе все время находится в теснейшем контакте с нечеловеческим», – и в данном случае, конечно, слово «нечеловеческий» не несет никакой отрицательной окраски, это просто обозначение принадлежности к другому миру, – «но в отношении не вражды, а помощи, дружбы и т. п. Все чудесные помощники происходят из нечеловеческого мира. …в типе сюжетов о борьбе человеческого против нечеловеческого основная задача героя в некотором смысле – это нахождение в мире нечеловеческого (к которому принадлежит и вредитель) таких посредников, медиаторов, которые помогли бы ему нейтрализовать отрицательные моменты в нечеловеческом и актуализировать положительные стороны»[79]79
Мелетинский Е. М., Неклюдов С. Ю., Новик Е. С., Сегал Д. М. Проблемы структурного описания волшебной сказки // Структура волшебной сказки. Москва: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2001. С. 45–46.
[Закрыть].

Л. А. Серяков (по рисунку В. М. Васнецова). «Иван-царевич». Иллюстрация к сказке «Жар-птица». Альбом русских народных сказок и былин. 1875 г.
То есть, если перевести это на наш язык, герой попадает в какой-то особый страшный волшебный мир, там он находит помощников, с которыми устанавливает дружеские отношения, человеческие отношения, добрые отношения. И они помогают ему в этом мире найти некий баланс, установить некое равновесие, которое потом он принесет с собой в мир человеческий, и там тоже справедливость будет восстановлена, злая мачеха наказана, царевна вернется, а герой получит некую награду – из крестьянского сына станет царем, унаследует царство, падчерица найдет жениха, Золушка перестанет быть Золушкой и станет принцессой. То есть справедливость восторжествует. Мы очень любим говорить о жестокости сказок братьев Гримм, но в действительности братья Гримм просто записали, мало обработав, существующие веками жуткие сказки. Да и сказка «Колобок», если подумать, тоже ужасно жестокая. А с другой стороны, эти сказки все время говорят о гармонии, которую можно установить. В большинстве сказок все получают по справедливости. Вот это, конечно, всегда приятно в сказках: они нам обещают хороший конец, что все будет правильно. И, наверное, не случайно в таком огромном количестве, в тысячах и тысячах сказок об этом говорилось, и люди в это верили.
Не будем забывать также о связи сказок с мифами. Там, очевидно, в какой-то мере демонстрируется тот же механизм, который помогает достичь справедливости с помощью предков, постоянно о нас заботящихся. И такой же мир, где есть изначальный смысл и порядок, который, несмотря на все ужасы, можно восстановить, если человек ведет себя правильно.
Письменная фиксация сказок
Сказки существовали в этой сложной роли – полуритуала, полумифа, полуразвлечения – в течение многих, многих тысячелетий. Но когда появилась письменность, их стали записывать. Их записывали уже в Древнем Египте, их записывали в Античности, их записывали в Древней Индии.
У нас есть (доводившая меня в детстве до исступления своей незавершенностью) египетская сказка об обреченном принце, или «Повесть о зачарованном царевиче», она записана на папирусе, который сохранился лишь частично. И эта сказка отчетливо напоминает прекрасно известную нам сказку, скажем, о спящей царевне. Царевичу с рождения предсказано, что он погибнет или от собаки, или от змеи, или от крокодила. И его отец, фараон, строит для его защиты неприступный дом посреди пустыни. Сколько мы знаем таких сказок, где царевну помещают в башню, пытаясь таким образом уберечь от проклятья, – а потом что-то происходит.
В египетской сказке царевич, повзрослев, уговаривает отца, чтобы тот его выпустил – все равно, мол, от судьбы не уйдешь, заводит себе собаку, отправляется в странствия, с ним происходят всякие приключения, он женится, и однажды ночью в его спальню приползает змея, но жена убивает змею – таким образом, одно проклятье нейтрализовано. А дальше он идет гулять с собакой, и собака вроде как кусает его – его собака, о которой ему говорили, что ее надо убить, а он отказывался, потому что он ее любит. Принц бежит к реке, а там крокодил… и на этом все обрывается. Вот с этим я не могу смириться с детства, и серьезные ученые тоже не могут смириться. Египтологи высказывают разные предположения; был, скажем, специалист по древнеегипетской культуре, который говорил, что, раз предсказано, значит, принц погибнет. Либо его загрызет любимая собака, либо крокодил. Потому что от судьбы не уйдешь. И всегда на третий раз что-то происходит. Один раз не получилось, второй, а на третий вышло. С другой стороны, многочисленные сказки дают нам примеры чудесного спасения: царевна должна была умереть, а появилась фея, которая сказала, что она только уснет. Дальше, как мы знаем, она поспала 100 лет, но потом пришел принц и ее разбудил. Может быть, – мне очень хочется надеяться, – и у египтян было так же, и, например, собака, наоборот, спасла принца или что-нибудь в этом роде. Может быть, когда-нибудь найдется еще окончание этой истории. Но, во всяком случае, мы знаем, что записывали сказки уже в глубокой-глубокой древности.
И дальше, очевидно, веками были ученые, мудрецы где-нибудь в Александрии или в Риме, которые записывали что-то, но в целом сказки все-таки существовали в устной форме. Если в глубокой древности сказка отделилась от мифа, то в Средние века, по-видимому, из героического эпоса и сказки вырос рыцарский роман, где событийно тоже все очень похоже. Какой-нибудь рыцарь круглого стола отправляется свершать свои подвиги, конечно, попадает в лес, там ему тоже встречаются разные волшебные существа, а может быть, и помощники, он совершает разные подвиги, убивает дракона – ближайшего родственника тех страшных крылатых и многоголовых змеев, с которыми сражаются, скажем, герои русских сказок. Он убивает дракона, он спасает девицу, он женится на ней – там очень много схожего со сказками, хотя, конечно, это не сказка, это что-то другое. И все-таки довольно долго сказки существовали на каком-то фольклорном, устном уровне, время от времени прорываясь в этот наш письменный, книжный мир.
Появление литературных сказок
В XVII веке делались первые попытки сочинять авторские сказки. Так возникло знаменитое прециозное направление во французской литературе, очень изысканное, может быть, даже жеманное, где женщины-писательницы стали создавать сказки. Возможно, они в какой-то мере опирались на фольклорные мотивы, но это было своего рода домашнее сочинительство, для своих, для узкого круга тех, кто читал эти книги.
В конце XVII века появляется всем нам известный Шарль Перро, который вообще-то был совершенно не сказочником всю свою жизнь, а помощником знаменитого финансиста Кольбера, министра финансов при Людовике XIV, но писал и стихи, и разные критические произведения. И только после смерти Кольбера, выйдя в отставку, вдруг издал ставшие известными на весь мир «Сказки Матушки Гусыни», причем под именем своего 19-летнего сына. Вопрос авторства остался не до конца понятным, в XX веке высказывались предположения, что, может быть, сказки и в самом деле написал сын, но все же более убедительной кажется версия, что он просто стеснялся такого несерьезного занятия, как записывать какие-то сказки, и потому немножечко от этого дистанцировался. Так или иначе, Перро записал всем нам известные сказки про Золушку, про спящую царевну, про Красную Шапочку, про Мальчика-с-пальчика и так далее. В первой книге было восемь классических сказок, каждую из которых мы знаем с детства, – но совершено не в том варианте, в котором ее написал Перро. И многие из нас прошли через это потрясение, когда обнаруживали взрослое издание сказок Перро. Для меня это была книга издательства Academia 1936 года. Эти сказки были совсем не похожи на то, что мы читали в своих детских пересказах: там был совершенно другой язык, в конце какая-то не слишком понятная в детстве мораль – скажем, «Красная Шапочка» заканчивается вовсе не тем, что пришли охотники и спасли девочку и ее бабушку, она заканчивается назиданием юным девицам о том, что не следует доверять каждому волку (читай – каждому кавалеру), которого ты встретишь на своем пути, потому что он может оказаться на поверку таким же коварным, как серый волк.
То есть изначально это тоже было своего рода светское чтение – немножечко жеманное, немножечко с эротическим подтекстом, – в сущности, совершенно не детское. Это можно объяснить тем, что самой концепции детства в сегодняшнем виде тогда не существовало. Детей не стремились развлекать и развивать – их следовало поскорей обтесать и сделать приличными взрослыми. XVIII век с его культом разума и идеями просвещения, конечно, с подозрением относился к иррациональному, хтоническому и таинственному миру сказок: это все какие-то бабьи глупости или развлечения грубых, необразованных людей. Главный перелом в отношении к сказкам происходит на рубеже XVIII–XIX веков. Мировая культура открыла для себя мир чувств, национальную идентичность, национальный дух, все стали искать в культурах своих стран какие-то национальные корни. До этого представлялось, что все культуры выросли из Греции и Рима, а вдруг оказалось, что немецкое выросло из немецкого Средневековья, русское – из русского, французское из французского и так далее, и на этом фоне всем стал очень интересен национальный фольклор. В тот момент, конечно, совершенно никто не обращал внимания на схожесть сюжетов по всему миру, – напротив, все видели в фольклоре незамутненное народное начало: вот у нас в городах культура уже совершенно другая, книжная, скорее космополитическая, а в деревне, где люди еще не испорчены этими веяниями и болезнями века, там рассказывают древние сказки, и в них живет дух народа. Немецкие романтики положили этому начало и стали собирать песни народные, и тут-то как раз братья Гримм приложили огромные усилия к тому, чтобы записать немецкие сказки. Пройдет несколько десятилетий, и в России такой же подвиг сохранения устных сюжетов совершит Афанасьев. Эти собиратели народного творчества – стихов, песен, сказок – и записывали, и сами начинали сочинять что-то похожее или вдохновляли других. Так появляется литературная сказка, которая напоминает народную. Мы все знаем «Мороза Ивановича» русского романтика Владимира Одоевского (1871), «Аленький цветочек» Сергея Аксакова (1858), – они брали народные сюжеты и писали свою литературную сказку.
Тысяча и одна ночь
И неслучайно, что XIX век – это век невероятной популярности сказок «1000 и 1 ночи» и замечательная история того, как культура книжная впитывает фольклор. «1000 и 1 ночь» – это потрясающий сборник фольклорных произведений, существовавший во множестве списков, при этом надо сказать, что те, кто пытались подготовить многотомное академическое издание «1000 и 1 ночи», наверное, уснули на середине первого тома, а может быть, и не дойдя до него. Потому что это очень тяжкое чтение. Мы все в детстве читали сказки «1000 и 1 ночи» в замечательном пересказе востоковеда Михаила Салье, который сделал и академический перевод этого грандиозного собрания сказок (1929–1939). Так же, как и с другими народными сказками, здесь разница изначальной и детской версии огромна, и даже куда нагляднее, чем в случае с Перро, потому что Салье, в сущности, совершил два подвига: когда он досконально перевел всю эту грандиозную книгу и когда затем он вычленил из нее самые интересные сказки и пересказал их очень увлекательно для детей.
А вообще очень много кто переводил это собрание сказок, и об этом лучше всего сказал Хорхе Луиса Борхес в своем очерке «Переводчики 1001 ночи»:
«Начну с основателя династии. Жан Антуан Галлан – французский арабист, который привез из Стамбула скромную коллекцию монет, монографию о приготовлении кофе, арабский экземпляр “Ночей” и (в качестве приложения) некого маронита, отличающегося памятью не менее вдохновенной, чем Шахерезада. Этому таинственному помощнику, – чьего имени я даже вспоминать не хочу, а говорят, что его звали Ханна, – мы обязаны некоторыми важными сказками, неизвестными оригиналу: об Ала-ад-дине, о Сорока разбойниках, о принце Ахмаде и джиннии Пери-Бану, об Абу-л-Хасане, спящем наяву, о ночном приключении Харуна ар-Рашида, о двух сестрах-завистницах и их младшей сестре. Достаточно простого перечисления этих названий, чтоб стало ясно: введя истории, которые со временем стали незаменимыми и которые последующие переводчики – его противники – опустить не решились, Галлан утвердил канон».
Дальше Борхес со своей замечательной иронической элегантностью анализирует эти варианты, а затем переходит к другим переводчикам. 90 лет спустя, после смерти Антуана Галлана (Галлан жил в начале XVIII века, а мы переносимся уже в XIX), рождается новый переводчик ночей, Эдвард Лейн.
Лейн сделал очень забавный перевод «1000 и 1 ночи», лишний раз доказывающий, что эти сказки совсем не детские – это одновременно огромный, довольно скучный и довольно неприличный текст, и чопорного Лейна это очень шокировало. Борхес пишет: «Преднамеренных глупостей в оригинале нет. Галлан выправляет случайные нелепости, кажущиеся ему следствием дурного вкуса. Но Лейн выискивает их и преследует, словно инквизитор. Его порядочность молчать не может; он предпочитает ряд перепуганных пояснений, набранных петитом, сбивчиво поясняющих: “Здесь я выпускаю один предосудительный эпизод. В этом месте опущено омерзительное объяснение. Здесь слишком грубая и не поддающаяся переводу строка. По необходимости опускаю еще одну историю. От этого места и далее – ряд купюр. Бездарная история о рабе Бухайте не заслуживает перевода”». Дальше Борхес замечает: «Лейн – виртуоз изворотливости, несомненный предвестник удивительной голливудской стыдливости»[80]80
Борхес Х. Л. Письмена Бога / сост., вступит. статья и прим. И. М. Петровского. Москва: Республика, 1992. С. 119–122.
[Закрыть].
Уже во 2-й половине XIX века появился совершенно другой перевод «1000 и 1 ночи», ставший невероятно важным событием для всего англоязычного мира и сделанный совсем другим человеком – сэром Ричардом Френсисом Бертоном, чья жизнь сама напоминает какую-то волшебную сказку. Изгнанный за невыносимый характер из университета, он отправляется в армию служить Британской империи на востоке. Там он тоже, с одной стороны, всех раздражал своим характером, а с другой стороны, поражал окружающих своей эксцентричностью: он одевался в восточную одежду, изучил восточные языки; дальше он путешествовал по невероятным местам в Азии, странствовал в Африке, искал истоки Нила, на него напало какое-то дикое племя сомалийцев и копьем пронзило ему щеку, и он всю жизнь носил этот шрам, потом он был дипломатом и очень скучал, загнанный делами службы в провинциальный Триест… После его смерти жена сделала ему гробницу в виде бедуинского шатра, потому что, очевидно, только в таком месте он и мог упокоиться. И посреди этой своей головоломной, полной безумных авантюр жизни он написал очень много книг, он написал «Книгу мечей», он написал книгу о Камасутре и, наконец, он перевел сказки «1000 и 1 ночи», превратив их в такую Камасутру XIX века. Борхес пишет о Бертоне: «Более всего он ненавидел евреев, демократию, министерство иностранных дел и христианство; особо почитал лорда Байрона и ислам. Одинокий труд сочинительства он возвысил и разнообразил: с рассветом он садился в просторной зале, уставленной одиннадцатью столами, на каждом из которых лежал подготовительный материал для книги, а на одном – цветок жасмина в стакане с водой»[81]81
Борхес Х. Л. Письмена Бога / сост., вступит. статья и прим. И. М. Петровского. Москва: Республика, 1992. С. 126.
[Закрыть]. Эстет и авантюрист, Бертон уже просто смаковал все непристойные детали «1000 и 1 ночи», и, очевидно, даже их раздувал. Изначально перевод Бертона распространяли только по закрытой подписке, но затем он стал классическим и оказал огромное влияние и на восприятие «1000 и 1 ночи» в английском мире, и на английский язык, и на английскую литературу, мышление и общество, надолго заразив Запад влюбленностью в Восток.
На рубеже XX века на волне уже вошедшего в моду ориентализма будет сделан новый перевод «1000 и 1 ночи» – перевод на французский язык, который совершил человек по имени Жозеф-Шарль Мардрюс, приехавший в Париж из Ливана. Он называл себя мусульманином по рождению и парижанином по случайности и перевел «1000 и 1 ночь» в совершенно декадентском стиле, который лучше всего демонстрирует опять Борхес: «Шахразада-Мардрюс рассказывает: “По четырем каналам с восхитительными изгибами, проведенными в полу залы, текли потоки, и русло каждого из них окрашено было в особый цвет: русло первого канала – в порфирно-розовый; второго – под цвет топаза; третьего – под цвет изумруда; а четвертого – под цвет бирюзы; вода таким образом окрашивалась в зависимости от цвета русла и, освещенная мягким светом, проникающим сквозь высокие шелковые занавеси, играла на окружающих предметах и мраморных стенах прелестью морского пейзажа”». Дав вдоволь налюбоваться разливом этой восточной роскоши, Борхес ядовито добавляет, что он сличил этот отрывок в нескольких других переводах: «Из них я узнал, что в оригинале десять строк Мардрюса звучат так: “Три потока сливались в мраморном разноцветном водоеме”. Все»[82]82
Борхес Х. Л. Письмена Бога / сост., вступит. статья и прим. И. М. Петровского. Москва: Республика, 1992. С. 132–133.
[Закрыть].

А. Летчфорд. Иллюстрация из «Книги тысячи ночей и одной ночи». 1901 г.
Так по-разному разные эпохи и страны впитывали фольклор. XIX век узнает фольклор, и собственный как источник национального духа, и восточный, распахнувший перед Европой целый мир чуждой и завораживающей экзотики. Неслучайно вторая половина XIX века – это время потрясающего расцвета этнографии. Сначала сказки принялись записывать, попросту говоря, недалеко от дома – те же братья Гримм, например, путешествовали по Германии, не более того. А этнографы второй половины XIX века уже зафиксируют африканские, австралийские, индейские, индийские мифы, сказки, – начинается этот сбор широчайшего полевого материала, этого огромного, невероятного богатства мирового фольклора.
Литературные сказки и мифология современности
А дальше уже литературная сказка будет все больше и больше, на первый взгляд, дистанцироваться от фольклорных сюжетов, а в действительности во многом их воспроизводить. Так, «Хоббит» Джона Толкина (1937) – на мой взгляд, абсолютный идеал литературной сказки – выстроен вполне по пропповской схеме, хотя Толкин, конечно, Проппа не знал (первый перевод «Морфологии сказки» на английский язык вышел в 1958 году).
XX и XXI век – это время, когда литература, кинематограф, философия, культура в целом в основном интересуется фольклором уже не как возможностью прикоснуться к тому, как тот или иной народ веселится или молится богу, совершает обряды, а как возможностью осмыслить какие-то древнейшие архаические черты жизни всего человечества. Наверное, величайшим примером такой попытки осмысления стал роман Томаса Манна «Иосиф и его братья» (1926–1943), основанный на библейском сюжете и постоянно использующий разнообразные мифологические образы, представления о фольклоре, но написанный для людей XX века и о проблемах людей XX века. То же можно сказать и о поэзии Томаса Стренза Элиота, который, как и все интеллектуалы первой половины XX века, испытал огромное влияние книги Фрэзера «Золотая ветвь» и представлений о фольклоре как о питательном субстрате всей мировой культуры. Подтверждения этой идеи мы находим во множестве как в безоговорочно высокой, так и в массовой культуре. Массовый кинематограф не устает множить новые экранизации хорошо знакомых сказок. Высокая интеллектуальная культура всегда обращается к мифу и к сказке, чтобы ответить на острейшие вопросы современности. И это, мне кажется, невероятно важно, и, конечно, очень жаль, что устная культура, породившая эту волшебную сказку, уходит.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































