Текст книги "Превратности судьбы, или Полная самых фантастических приключений жизнь великолепного Пьера Огюстена Карона де Бомарше"
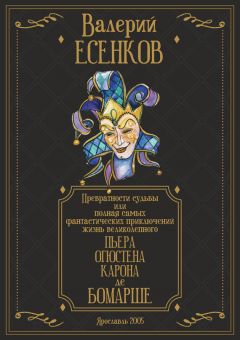
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Глава девятая
Прекрасная Франция
Предчувствия его не обманывают. Его возвращение довольно печально. Нет, не потому, что его испанские предприятия мало ему удались. Он все-таки кое-что сделал. Ещё долго он будет следить за своими испанскими начинаниями, что-то советовать, чем-то руководить. Его отношения с Шуазелем и Пари дю Верне, устроившими эту поездку в Мадрид, не только не ухудшаются, но становятся прочными, а Пари дю Верне, в знак окончательного признания его коммерческой и политической хватки, предоставляет неограниченный кредит его новым деловым предприятиям.
Дела, сколько бы он ими ни занимался, не дают ему ощущения прочности и понемногу отступают на второй план. Да, он довольно богат, может быть, очень богат, установить точные размеры его достояния возможности нет, а всё же богатство не делает его независимым. Даже напротив, чем больше он богатеет, тем острее ощущается им, что он оплетен по рукам и ногам, поскольку никакой закон не защищает его, разбогатевшего сына часовщика, и какая бы беда на него ни свалилась, защиты придется искать у тех же безвольных, бесстыдных, бесчестных сиятельных грандов, только грандов французских, как две капли воды похожих на тех, на которых он вдоволь нагляделся в Испании. Он чувствует себя без опоры и пытается эту опору найти.
И первая мысль этого будто бы до мозга костей развратного человека о браке. Он обращается к креолке Полин де Бретон, теперь бесприданнице, потерявшей все надежды на возвращение миллионов, неудачно вложенных в плантации родных островов. Он напоминает девушке их взаимные обещания. Он готов жениться на ней. Он пишет взволнованное, растерянное письмо:
«Если Вы не возвращаете мне свободу, только напишите, что Вы прежняя Полин, ласковая и нежная на всю жизнь, что Вы считаете для себя счастьем принадлежать мне, – я тотчас порву со всем, что не Вы. Прошу Вас об одном – держать всё в секрете ровно три дня, но от всех без исключения; остальное я беру на себя. Если Вы согласны, сохраните это письмо и пришлите мне ответ на него. Если Ваше сердце занято другим и безвозвратно от меня отвернулось, будьте хотя бы признательны мне за порядочность моего поведения. Вручите подателю сего Вашу декларацию, возвращающую мне свободу. Тогда я сохраню в глубине сердца уверенность, что выполнил свой долг, и не буду корить себя. Прощайте. Остаюсь, до получения Вашего ответа, для Вас тем, кем Вам будет угодно меня считать…»
Именно, стократно прав молодой Альмавива, которого когда-нибудь возвратившийся из долгого странствия путешественник изобретет: «Все охотятся за счастьем. Мое счастье заключено в сердце Розины», то есть в данном случае ему представляется так, что его счастье заключается в сердце Полин де Бретон.
Однако длительная разлука длительна для любви, в особенности тогда, когда отношения между влюбленными неопределенны и зыбки. Сердце Полин де Бретон давно уж остыло к нему и снова пылает, может быть, не так страстно и глубоко, но всё же пылает страстью к другому. Отныне ей нравится шевалье де Сегиран, тоже креол, как и она, прежде пылко влюбленный в насмешливую Жюли и, возможно, самой же Жюли подсунутый расчетливой, по натуре холодной и мелкой Полин, жаждущей властвовать над мужчинами, всегда и всюду владеть ситуацией, непременно играть только первую роль, пусть на этот случай мужчина окажется мелок и пошл.
На его запрос Полин де Бретон отвечает бестрепетно и банально, благодарит за любезность его возобновленного предложения, желает отыскать ту, которая составит счастье его, и даже берет на себя бессердечную смелость уверить, что известие о его свадьбе доставит ей громадное удовольствие, может быть, этим несвоевременным уверением желая поглубже его уколоть. И подписывает свою декларацию официально, чуть не презрительно, только фамилией:
«Де Бретон».
Он стискивает свое трепетное сердце в кулак. Он по-прежнему, как ни в чем не бывало, развлекает никчемных принцесс, исполняет необременительную должность королевского секретаря, потихоньку продав свою первую придворную должность, хранителя королевских жарких, стоит на страже закона, преследуя попавшихся браконьеров, потихоньку истребляющих дичь короля, почти ежедневно посещает Пари дю Верне, которого полушутливо, полулюбовно зовет «моя крошка» и который уже не может обойтись без него.
От Пари дю Верне так и веет пряным духом коммерции и тайнами закулисной политики, так что его предприятия следуют одно за другим, непрерывно обогащая его, но не улучшая его настроения. В том числе он приобретает у турского архиепископа, легкомысленно запутавшегося в долгах, девятьсот шестьдесят гектаров прекрасного Шинонского леса, не знаю, припомнив ли по этому случаю, что в окрестностях этого тихого городка когда-то рос и мужал мальчишка Рабле. Первый взнос в эту громадную сделку составляет пятьдесят тысяч экю, и он без затруднений выплачивает эту сумму наличными, возможно, прибегнув к кредиту, предложенному Пари дю Верне.
Правда, в последний момент выясняется, что королевский указ, видимо, нацеленный на истребление злоупотреблений со стороны должностных лиц, воспрещает чиновникам егермейстерства участвовать в торгах на леса, точно уплата наличными таких сумм может считаться злоупотреблением должностного лица. Дурацкий, бестолковый указ, эту истину понимает и самый набитый дурак, и по этой причине всякий желающий преспокойно обходит запрет, наложенный королем, приплачивая другим чиновникам короля, которым поручено исполнять королевский указ, тем самым усердно умножая именно то, что король самонадеянно жаждет одним росчерком пера искоренить на все времена.
Опять-таки Пьер Огюстен не становится в смешную позу отвлеченного моралиста. Он ничуть не стесняется и приобретает Шинонский лес на имя своего слуги Ле Сюера, чем и принуждает умолкнуть бесталанный королевский указ.
Ле Сюеру не идет на пользу такая доверительность со стороны доброго, нисколько не привередливого хозяина. Внезапно ощутив, какую власть приобретает над ним, Ле Сюер, уповая на полную безнаказанность, принимается не совсем честно обращаться с вещами и ценностями, которые плохо лежат на улице принца Конде, 26. Наивный слуга не учитывает того, что у его хозяина острый глаз и не по времени суровейшее представление о добродетели. Ле Сюер, однажды схваченный за руку, в этом доме не может рассчитывать на пощаду. Пьер Огюстен тотчас изгоняет его, не желая принимать во внимание, что Шинонский-то лес по бумагам составляет законную собственность подлеца.
Подлец, разумеется, незамедлительно использует эту ошибку. Ле Сюер завладевает Шинонским лесом и на законном основании принимается хозяйничать в нем, да так рьяно, что во все стороны щепки летят, ставя ни во что слово чести, данное им во время заключения сделки, при этом не совсем ясно, шантажирует ли он фактического владельца, требуя выкуп, или просто-напросто принимается сводить и распродавать в свою пользу чужое добро.
Любопытно, что Пьер Огюстен, знающий цену интриге, когда приходится ворочать делами государственной важности, в своем личном деле идет прямиком. Он встречается со своим непосредственным начальником герцогом де Лавальером и выкладывает ему всю историю с покупкой Шинонского леса, преувеличив, может быть, только сумму убытков, которые причиняются ему подлецом. Герцог нисколько не удивлен, что его помощник пускается в неблаговидные махинации, пресекаемые королевским указом, настолько это нынче дело обычное, и такие ли махинации плетутся вокруг, ему ли об этом не знать. Нет, генеральный егермейстер, пэр и великий сокольничий Франции тотчас диктует письмо, адресованное канцлеру, и с не совсем подходящим к случаю негодованием требует незамедлительно и строжайшим образом наказать негодяя, хотя, по правде сказать, наказания следовало бы требовать также и для одного из судей вверенного ему егермейстерства.
Ну, канцлер и граф, тоже нисколько не посердившись на государственного чиновника, с такой беззастенчивостью нарушившего указ короля, поскольку отлично знает и он, что в таких случаях так и принято поступать, выдает ордер на арест негодяя, негодяй в тот же миг приходит в себя и выпускает добычу из загребистых, но недостаточно натренированных рук, и законно отчужденная собственность благополучно возвращается к приобретшему её незаконно владельцу. В хорошенькие времена приходится жить, ваша светлость! А как ни воротить с души, где другие-то взять времена?
Пьер Огюстен сломя голову скачет в Турень, чтобы привести в порядок лихо запутанные Ле Сюером дела, и внезапно попадает в идиллию, в какой отроду ещё не бывал:
«Я живу в своей конторе, на прекрасной крестьянской ферме, между птичьим двором и огородом, вокруг живая изгородь, в моей комнате стены выбелены, а из мебели – только скверная кровать, в которой я сплю сном младенца, четыре соломенных стула, дубовый стол, огромный очаг без столешницы и всякой отделки; зато, когда я пишу тебе это письмо, передо мной за окном открываются все охотничьи угодья, луга по склонам холма, на котором я живу, и множество крепких и смуглых поселян, занятых косьбой и погрузкой сена на фуры, запряженные волами; женщины и девушки с граблями на плече или в руках работают, оглашая воздух пронзительными песнями, долетающими до моего стола; сквозь деревья, вдали, я вижу извилистое русло Эндры и старый замок с башнями по бокам, который принадлежит моей соседке мадам де Ронсе. Всё это увенчано вершинами, поросшими, сколько хватает глаз, лесом, он простирается до самого гребня горной гряды, окружающей нас со всех сторон, образуя на горизонте исполинскую круглую раму. Эта картина не лишена прелести. Добрый грубый хлеб, более чем скромная пища, отвратительное вино – вот из чего складываются мои трапезы…»
Здесь, в живописной долине извилистой Эндры, среди невысоких гор и великолепных лесов, предоставляется исключительная возможность осуществить всё то, что не удалось в испанской Сьераа-Морене, и он с энтузиазмом берется за дело. Он изучает климат, исследует почвы, источники, произрастающие растения, плоды земли, плоды ремесла, движение товаров по торговым путям, доходы и убытки своих новых, неожиданных земляков. Он с увлечением, как постоянно делает решительно всё, что попадается ему на пути, принимается познавать, и перед ним открывается его прекрасная Франция, как недавно открылась во всей своей наготе не менее прекрасная, но чужая Испания.
Начать с того, что эти крепкие смуглые поселяне, эти женщины и девушки с граблями на плече или в руках не владеют ничем, кроме этих собственных рук и граблей. У них ничтожно мало земли, приблизительно в пределах гектара, редко два или три, причем дело устроено так, что этот и без того скудный гектар отдельными лоскутками рассредоточен по многим местам, нередко до пятидесяти лоскутков самых малых размеров, иногда до семидесяти пяти, так что больше времени уходит на переходы и переезды от лоскутка к лоскутку, чем на обработку полей, на уход за растениями и на своевременный сбор урожая. Несчастный, стесненный со всех сторон земледелец с одного раздробленного гектара обязан отдать одну десятую часть урожая на церковь, четвертую часть, а также некоторую сумму деньгами сеньору, владельцу земли, поскольку всюду во Франции царствует несокрушимый закон, гласящий о том, что нет земли без сеньора, затем в пользу того же сеньора надлежит исполнить множество мелких повинностей на основании давно обветшавшего феодального права, затем любвеобильный король взимает налог, однако не своими руками, но продавши его на откуп откупщикам, которые норовят содрать с беззащитного пахаря вдвое, затем необходимо купить столько соли по немилосердно завышенным ценам, сколько невозможно употребить, и опять-таки право продажи соли получают на откуп откупщики, которые и на этой и без того греховной торговле весьма и весьма не забывают себя. Понятное дело, можно быть чудом, богатырем трудолюбия, но с одного гектара с семьей прокормиться нельзя и без этих бесстыдных поборов, а с поборами приходится голодать, а попусти Господь неурожай за грехи, так и вовсе хоть в землю ложись. Можно, конечно, у сеньора ещё земли принанять, однако за эту землю особый расчет, за эту землю придется половину урожая отдать. Большей частью лугов и лесов владеет тоже сеньор, и тут половину сена отдай, а в лесу сухой хворост запрещается брать под страхом суда, который тоже правит сеньор. Таким образом, после многих и неустанных трудов крепкие и смуглые поселяне живут в нищете. Само собой разумеется, эпидемии случаются страшные, и сеньоры недаром эпидемии именуют народной болезнью, оттого, что в эти несчастные годы неистово мрет и ложится в землю один только бедный народ.
Гражданских прав у этих крепких и смуглых поселян не имеется никаких. Где-то вверху далеко-далеко невидимый с этого плотно обложенного податями гектара крестьянской земли сияет король, который может принять, а может и отменить какой угодно закон, не справляясь с мнением не только крепкого и смуглого поселянина, но и сеньора, хлопоча исключительно об одном: о наполнении своей всечасно опустошаемой и всечасно опустошенной казны. Во главе каждой провинции поставлен королем интендант, которому король, дабы не обременять себя никакими трудами, поручает бесконтрольное исполнение королевских указов, и поставленные им интенданты устремляются королевские указы так исполнять, что образованные французы дают им нелестное прозвание персидских сатрапов, а неученые попросту зовут сволочами.
Впрочем, ни король, ни интендант не касаются земледельца. Земледелец весь во власти сеньора, который владеет землей. Сеньор и награждает, и судит его, причем в королевских законах такая неразбериха царит, что сеньор обыкновенно выносит решение в соответствии со своим настроением, то есть именно так, чтобы ни в коем случае не обидеть себя. Причем, при должном усердии, к тому же если немного учился или себе в управители приобрел отменную шельму, в анналах истории может открыть что-нибудь из ряду вон выходящее, к примеру, оригинальный закон, дающий полное право сеньору, воротившись с тяжелой охоты, убить не более двух поселян, чтобы теплой кровью омыть свои утружденные ноги, или, опять же к примеру, древнейший закон, отдающий сеньору любую невесту на первую ночь. Конечно, такого рода законами давно уже не пользуется никто, век просвещения, Вольтер, чего доброго, засмеет на весь свет, а всё же никогда нельзя угадать, чего сеньору на ум иной раз взбредет, да ещё, к примру, под пьяную руку. Парламенты, как в прекрасной Франции зовутся суды, пытаются кое-какие из этих обветшалых диких законов формально, то есть законодательно отменить. Однако разве пресветлый король позволит посягать на свое священное право одному собственной волей распоряжаться законами? Никогда не позволит такого кощунства даже самый пресветлый король, не только французский, но и всякий другой, и Людовик ХV является в парижский парламент, что делает только в самых экстренных случаях, и произносит с предупреждающим любые недоуменья апломбом:
– В своем дерзком безумии парламенты выдают себя за орган нации. В нации хотят видеть какое-то самостоятельное, особое от монарха начало, тогда как интересы и права нации – вот здесь, в моем кулаке.
И демонстрирует судьям свой пухлый, бессильный, а все-таки смертоносный кулак. Причем и парламент-то дрянь, недаром Дидро честит его на все корки за нетерпимость, ханжество и вандализм, каковые милы свойства Пьеру Огюстену очень скоро в полной мере испытать на себе.
Нет ничего удивительного, что Пьер Огюстен, наглядевшись на выразительные эти картины, пронзительным взором проникнув в глубины, на которых зиждется прекрасная Франция, как дерево на корнях, принимается размышлять. Именно с этого времени его начинают пленять серьезные драмы всё того же Дидро, вроде «Отца семейства» и «Побочного сына», писанные из принципа прозой, в отличие от высокой трагедии, которую так обожает несколько старомодный Вольтер, с простыми героями из бесправных сословий, с чувствительными сюжетами, введенными в обиход английским писателем Ричардсоном, в которых поруганная справедливость, невинная добродетель всегда торжествуют над злонравным самоуправством и бесстыдным пороком, торжествуют хотя бы морально.
Вполне понятно, что с особым усердием, с вниманием пристальным он берется и за трактаты философов, которые во множестве выпускает ненасытный печатный станок. Правда, в прекрасной Франции не за одно только издание, но и за чтение кое-каких особенно острых трактатов можно значительно пострадать, поскольку пресветлый король не намерен поощрять вольномыслия, угрожающего ему, однако многие трактаты на свет божий являются в республиканской Голландии, где в этих случаях имени крамольного автора вовсе не принято упоминать, так что многие из самых острых трактатов с большим успехом продаются из-под полы и с большим интересом прочитываются за опущенными плотными шторами и за дверьми, предварительно замкнутыми на железный засов.
Берется он за это чрезвычайно полезное дело в самое время, поскольку для него наступает пора осмыслить яркие свои наблюдения, фундамент которых был заложен сперва при пышном дворе французского короля, а затем при ещё более пышном и ещё более продажном и вороватом испанском дворе. С другой стороны, вся прекрасная Франция, вся Европа зачитываются творениями французских философов и публицистов, у каждого образованного европейца на языке французские идеи, французские афоризмы, французский способ выражения собственных мыслей, даже нередко французский стиль, не говоря уж о том, что многие образованные европейцы предпочитают изъясняться изустно и в переписке исключительно по-французски, а в среде аристократической молодежи прямо вспыхивает веселая мода «вкушать и выгоды патрициата, и прелести плебейской философии», то есть с приятностью болтать об опасных перспективах и дерзких прогнозах о торжестве демократии, по наивности полагая, что и прогнозы и перспективы так и останутся пустой болтовней, а они, как и прежде, будут жировать да жировать на трехжильном крестьянском хребте.
Если с определенным вниманием вглядеться в прославленные сочинения моего ныне пребывающего на лоне природы героя, то трудно не согласиться, что в обязательный круг его серьезного чтения вошел замечательный философ Шарль Луи Монтескьё, скончавшийся перед тем лет за десять и с каждым годом приобретающий всё новую и новую славу, пока его поразительная идея о непременном и четком разделении исполнительной, законодательной и судебной властей не превращается в краеугольный камень требований и вожделений неудержимо нарастающей оппозиции бесправных сословий.
Дело в том, что Шарль Луи Монтескьё первым задумывается о самой сущности, о самом духе законов, как он очень удачно выразил свою кардинальную мысль. Благодаря такому подходу к важнейшей проблеме государственного устройства он отбрасывает бытующие суждения разного рода о роли случайности или счастья в деле законодательства. Напротив, Шарль Луи говорит: «Не счастье управляет миром. Существуют общие причины, нравственные и физические, которые действуют в каждом государстве, то поддерживая, то разрушая его. Все события истории находятся в зависимости от этих причин, и если какое-нибудь частное событие приводит государство к гибели, то это значит, что за ним, за этим частным поводом, скрывалась более общая причина, вследствие которой государство должно было погибнуть». И в другом месте настойчиво повторяет: «Основной ход истории влечет за собой все частные случаи».
Вообще, в основание духа законов, которые существовали в прошедшем, существуют в настоящем и будут устроены в будущем, Шарль Луи кладет быт и нравы народов, с которыми имеет дело законодатель. Он утверждает:
«Вообще законы должны настолько соответствовать характеру народа, для которого они созданы, что следует считать величайшей случайностью, если законы одной нации могут оказаться пригодными для другой».
Что означает, конечно, что никакие законы не в состоянии изменить быт и нравы народов, тогда как всякое изменение в быте и нраве народов неизбежно ведут к перемене законов, и что не может быть выработано никакого идеального, умозрительного законодательства, равно пригодного для всех времен и народов, что тот, кто верит в возможность такого рода законодательства, не кто иной, как законченный утопист, то есть дурак.
Впрочем, именно этих основополагающих суждений проницательного философа в его смятенном и взбудораженном веке почти никто не приметил. Без исключения все образованные европейцы набрасываются на единственный раздел его историко-политического трактата, на раздел, трактующий о достаточных условиях для торжества политической свободы, достижение которой представляется важнейшей, чуть не единственной задачей для всех тех, кто видит в единовластии исключительный тормоз подспудно напирающего прогресса.
Чем Шарль Луи Монтескьё в особенности поражает умы своих современников? Прежде всего разъяснением, что есть политическая свобода сама по себе. Он тут заявляет, что политическая свобода вовсе не означает того плачевного состояния, когда каждый освободившийся гражданин вытворяет всё, что захочет, что в каждый данный момент внезапно взбредет в его пустую башку, напротив, политическая свобода состоит в том, чтобы делать лишь то, что позволяют делать законы. Для исполнения этой приятной возможности делать лишь то, что позволяют делать законы, необходимо такое государственное устройство, при котором никто бы не оказывался вынужденным делать то, чего не позволяют делать законы, и никто не встречал бы препятствий делать то, что законы делать ему разрешают или велят.
Понятно, что для создания столь замечательной ситуации в жизнь нации должны быть введены начала законности. А как вести в жизнь нации эти начала законности? В сущности говоря, ввести начала законности в жизнь нации очень просто. Для этого необходимо непременнейше развести в разные стороны, разделить три вида властей, которые существуют в любом государстве: власть законодательную, власть исполнительную и власть судебную. Когда же в одном учреждении или в одном лице, как это впоследствии мой герой представит в одном из своих персонажей, власть законодательная соединяется с властью исполнительной и судебной, там свободы не существует и никогда не может существовать, потому законодатель издаст тиранический, выгодный исключительно для него одного закон, а затем станет тиранически этот закон исполнять, опять-таки исключительно с выгодой для себя одного, нисколько не заботясь об интересах и выгодах нации, и, само собой разумеется, станет судить за неисполнение тиранического закона по своему произволу, опять-таки помышляя о соблюдении исключительно собственных интересов и выгод.
По этим причинам, рассуждает далее Шарль Луи Монтескьё, судебная власть может принадлежать только лицам, избираемым из недр нации на определенное время, законодательная власть может принадлежать только нации, поскольку каждый свободный гражданин должен управлять собой сам, тогда как исполнительная власть всегда должна сосредоточиваться в руках одного лица, всего лучше в руках наследственного монарха, поскольку исполнение законов всегда требует решительного и быстрого действия.
В заключение нужно прибавить, что близкой к идеалу Шарль Луи Монтескьё находит тогдашнюю английскую конституцию, то есть конституцию той страны, которую воинственный французский король считает своим главнейшим, важнейшим и чуть ли не смертельным врагом, и что особенно в данном случае замечательно, со своим королем на этот счет соглашаются все без исключения французские торговцы, предприниматели и финансисты.
Эти идеи о духе законов и разделении властей глубоко проникают в сознание и для Пьера Огюстена становятся руководящими. Однако, к счастью, сам Пьер Огюстен не склонен к непрерывному философствованию. Человек энергичный и дерзкий, он предпочитает идеи воплощать в реальное, зримое дело. Вот почему, не дожидаясь общих решений о правильном устройстве благоденствующего гражданского общества, путем разведения в разные стороны законодательной, исполнительной и судебной властей, он осеняется мыслью преобразовать быт и нравы целого края, власть над которым на основании приобретения в частную собственность Шинонского леса достается ему.
Правильно понимает находчивый Пьер Огюстен, что фундамент всякого процветания таится в беспрепятственном и скором движении товаров и денег, то есть в торговле прежде всего, которая, в свою очередь, приводит в движение хлебопашество, ремесла, а затем и большие мануфактуры, на которых разумное разделение производственных операций между работниками приводит к десятикратному и даже к стократному росту производства товаров. С тем, чтобы значительно двинуть товары и деньги, он опять-таки берется за главное, без чего никуда двинуться не способна ни одна телега и баржа. Он начинает с путей сообщения, прокладывает удобные и прямые дороги, в иных местах спрямляет русло прихотливо-извилистой Эндры, в других сооружаются шлюзы, чтобы река в любое время года была судоходной. Он закупает фуры и речные суда. Мало того, с фур и судов он налаживает регулярную доставку грузов в тур, Нант, Сомюр и Анжер. Вот как действует человек, наделенный энергией, одушевленный разумной идеей!
Приятно отметить, что он решительно изменяется и в роли судьи. В действительности никакого разделения властей в прекрасной Франции, конечно, не существует, что и приведет неповоротливое Французское королевство к скорой и неминуемой гибели, однако ему некогда ждать, когда это болезненное, однако приятное событие совершится и осчастливит пока что бесправных, подневольных французов. Он принимается вести судебные дела так, будто он вполне независим от исполнительной и законодательной власти, то есть от французского короля, и руководствуется только законом, независимо от того, какая персона обвиняется в браконьерстве. В течение нескольких месяцев он выносит один за другим приговоры, которые защищают крестьян, проживающих на территории Луврского егермейстерства, от злоупотреблений со стороны лесных сторожей, назначенных королем. Глядя, как – всегда, широко, он не ограничивается одними справедливыми приговорами. Он принимается воспитывать в массе населения вверенных ему территорий правовое сознание, то есть прежде всего внушает им веру в достаточность и справедливость закона. С этой целью он обращается к местным священникам с настоятельной просьбой, чтобы духовные пастыри, ближе всех поставленные к простому народу, не уставали убеждать поселян, что тот же суд, который выносит им обвинительный приговор, когда они нарушают закон, обеспечивает им гарантии против мести со стороны лесных сторожей и наказывает самих лесных сторожей, уличенных в злоупотреблении властью. Больше того, он сам отправляется по приходам и устраивает публичные заседания, чтобы любой и каждый мог убедиться, что судья Луврского егермейстерства Пьер Огюстен Карон де Бомарше в своих решениях руководствуется только законом и что закон одинаков для всех.
Нужно особенно подчеркнуть, что он не только думает так, подобно большинству честных людей, но и придерживается этого сурового принципа в практической жизни, чего большинство честных людей не исполняет из подлого страха иметь вагон неприятностей, причем в применении закона его не останавливают и самые звучные имена. Так, его высочество Луи Франсуа де Бурбон принц де Конти повелевает снести ограду какого-то нищего земледельца, которая, вы только представьте себе, имеет наглость мешать его сиятельным развлечениям, то есть препятствует очередным безобразиям, на что принцы, как известно, весьма горазды во все времена. Жалоба нищего земледельца, которому, как видите, в храбрости и чувстве собственного достоинства никак не откажешь, приносится в суд егермейстерства. Приближается день разбирательства, которое, как предполагается, может повестись беспристрастно, и тут разного ходатаи, якобы из самых возвышенных чувств, чуть не из заоблачной дружбы, а также, разумеется, из самой пылкой любви предостерегают судью от поспешных решений, как в таких случаях принято изъясняться на фигуральном языке прохвостов и жуликов, поседевших в безобразиях и воровстве, намекая на то очевидное обстоятельство, что гнев принца стоит гораздо дороже забора. Справедливо предполагая, что намеки делаются по предписанию принца, придя от этого в праведный гнев, Пьер Огюстен бросается к принцу Конти и самым непочтительным тоном разъясняет титулованному болвану, что закон одинаков для всех и что принц будет наказан в полном соответствии со своим преступлением, без алейшей поблажки, ваша светлость, иначе нельзя. По счастью, именно данный принц не был окончательно глуп и находился в довольно приятном расположении духа, что может приключиться и с принцем. По этой причине Луи Франсуа де бурбон принц де Конти вскочил со своего золоченого кресла и заключил добродетельного судью в свои высоческие объятия. Нельзя не прибавить, что с этого дня принц де Конти относится к Пьеру Огюстену по-дружески и при случае вызволяет его из беды, за что данному принцу почет и большое спасибо.
Исходя из этого, нетрудно понять, в какое бешенство приходит Пьер Огюстен, когда беда разражается над его собственным камердинером, пришедшим на смену жулику Ле Сюеру. Грязная история разыгрывается из-за того, что нанятый на службу Амбруаз Люка является негром. То ли какому-то прохвосту не нравится, что Пьера Огюстена обслуживает цветной, то ли кем-то овладевает сладостное желание насолить, то ли негр действительно беглый, только некий Шайон подает в суд и суд выносит решение, согласно которому Пьер Огюстен обязывается возвратить своего чернокожего камердинера его истинному владельцу, а владелец свою возвращенную собственность без промедления заточает в тюрьму. В негодовании Пьер Огюстен строчит громадное письмо директору департамента колоний и обрушивает на его лысую голову весь свой праведный гнев:
«Бедный малый по имени Амбруаз Люка, всё преступление которого в том, что он чуть смуглее большинства свободных жителей Андалусии, что у него черные волосы, от природы курчавые, большие темные глаза и великолепные зубы – качества вполне извинительные – посажен в тюрьму по требованию человека, чуть более светлокожего, чем он, которого зовут мсье Шайон и права собственности которого на смуглого ничуть не более законны, чем были права на юного Иосифа у израильских купцов, уплативших за него тем, кто не имел ни малейшего права его продавать. Наша вера, однако, зиждется на высоких принципах, которые замечательно согласуются с нашей колониальной политикой. Все люди, будь они брюнеты, блондины или шатены, – братья во Христе. В Париже, Лондоне, Мадриде никого не запрягают, но на Антильских островах и на всем Западе всякому, кто имеет честь быть белым, дозволено запрягать своего темнокожего брата в плуг, чтобы научить его христианской вере, и всё это к вящей славе Божией. Если всё прекрасно в этом мире, то, как мне кажется, только для белого, который понукает черного бичом…»
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































