Текст книги "Превратности судьбы, или Полная самых фантастических приключений жизнь великолепного Пьера Огюстена Карона де Бомарше"
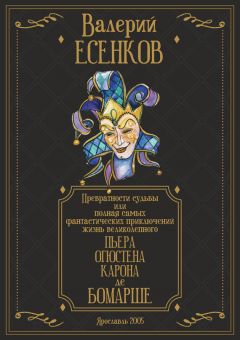
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Разумеется, этому сукину сыну Шайону можно предложить хорошие деньги, и Пьеру Огюстену денег не жалко, однако волнует его в этой истории правосудие, справедливость, нравственная обязанность христианина по отношению к своему безвинно пострадавшему чернокожему брату, и он обращается с не менее пылкими, довольно риторичными и сумбурными проповедями к своему начальнику герцогу де Лавальеру, к Шуазелю, ко всё ещё не забытым принцессам, пока не добивается своего и тем, может быть, искупает свое предложение испанским властям торговать в колониях такими же чернокожими братьями, которого он защитил.
Таким образом, выясняется, что у братьев меньших в прекрасной Франции появляется ещё один страстный защитник, готовый за него постоять, рискуя своим положением, а в ряде случаев и головой.
Глава десятая
Провальный дебют
А все-таки недаром этот искренний, глубоко настоявшийся пафос в личном письме, обращенном к директору департамента по поводу судьбы одного частного человека. В этом пафосе слышится черная меланхолия, беспокойно-томительная тоска, которая давно клубится в душе. В сущности, ему противно до мозга костей жить в этом легкомысленном, беспечном, развращенном до последних пределов обществе принцев, герцогов, маркизов и простых шевалье, которые не понимают, не способны и не хотят понимать, что развратничают и веселятся они на вулкане, что бестолковые головы многих из них четверть века спустя пожрет ненасытный механизм гильотины. Он чужой в этом обществе, лишенном нравственности, лишенном благородства души, позабывшем Христа, не отягченном никакими духовными интересами, если не принимать всерьез бесплодной, пустой болтовни о последнем остроумном памфлете или модном трактате философа, как-никак получившего европейское имя. Временами он так одинок, что хоть криком кричи. Сам частица вулкана, который низвергнет в пропасть это прогнившее общество, он не чувствует почвы у себя под ногами. Он всё ещё, несмотря на большие успехи в коммерческих предприятиях, мученически, страдальчески не уверен в себе.
Может быть, потому, что так долго не слышит едва зародившийся, пока что до крайности робкий голос призвания.
В самом деле, его дарование, впоследствии сделавшее его заемное имя бессмертным, пробуждается и созревает медлительно, неторопливо, каким-то неторопливым черепашьим шажком, точно вслепую. Отчасти оттого, что этому по природе своей могучему дарованию приходится продираться, сквозь лихорадку и толщу его бесчисленных коммерческих дел. Отчасти и оттого, что наша вечная заступница жизнь ещё не припекла его хорошенько каленым железом, не припекла так, чтобы он взвыл от боли и заорал благим матом от безысходности, от бессилия перед ней, от терпкой горечи своих поражений. Только таким неизлечимо-болезненным способом и набирает свою непобедимую силу всякий действительно достойный талант, а того, кто не испытал такого рода испепеляющих потрясений, за углом поджидает безвестность, в лучшем случае временный, мимолетный, бесславно-преходящий успех.
Другими словами, его могучее дарование созревает естественно, как можно мало у кого наблюдать. Никакие внешние силы не торопят его, не соблазняют никакие посторонние цели, вроде жестокой необходимости во что бы то ни стало заработать на хлеб или жажда огненной прижизненной славы. В кругу его близких не водится нашумевших поэтов и драматургов. Его кошелек достаточно полон, чтобы утруждать себя ради тех жалких крох, какие достаются бедному автору даже тогда, когда его вещи имеют несомненный успех, и бедный Дидро так мало зарабатывает на своем знаменитом «Энциклопедическом словаре», что оказывается принужденным продать свою бесценную библиотеку, главнейший фундамент его литературных и философских трудов, российской императрице Екатерине11. Нет, слава Богу, Пьер Огюстен избавлен от этих посторонних искусству забот.
Единственно внутренняя потребность понуждает его наконец потянуться к перу. Однако эта внутренняя потребность пока что довольно слаба. Одиночество. Томящая зыбкость его положения. Неустроенность человека, мечтающего о нормальной, глубоко одухотворенной, крепкой семье. Неисполненная мечта о потомстве. Недаром же из души его однажды вырывается точно само собой:
«Становитесь отцами – это необходимо, таков случайный закон природы, благотворность которого проверена опытом; тогда как к старости все иные связи постепенно ослабевают, одни лишь связи отцовства упрочиваются и крепнут. Становитесь отцами – это необходимо. Эту бесценную и великую истину никогда нелишне повторять людям…»
Недаром он так хлопочет об устройстве ближних своих. Его усилиями наконец обретает семью Шарль Андре, его престарелый отец, все-таки взявший в жены свою давнюю приятельницу мадам Анри. Его же усилиями выходит замуж сестра, мадам де Буагарнье. А ему самому уже тридцать три года, тридцать четыре. Он давно вдов и всё ещё не женат.
Видимо, тоска по супружеству, тоска по отцовству, по крепкой семье поощряет его. В течение нескольких лет, втихомолку, укромно, он трудится над драматическим сочинением, то оставляет его, то возвращается вновь, то испещряет множеством самых разнообразных поправок, то заново переписывает весь текст целиком, верное показание, до какой степени он всё ещё мало уверен в себе.
К тому же с самого начала он совершает ошибку, вызванную как раз неуверенностью, робостью ещё не созревшего дарования. Человек, прославивший свое смертное имя, может быть, самой заразительной, самой задорной веселостью, какую когда-либо имела всемирная сцена, поначалу берется скорее за проповедь нравственности, чем за искусство, которое отторгает от себя сухих моралистов, и в качестве моралиста не шутя вооружается именно против веселости, чего-то ради убеждая себя и других:
«Хотя смешное и тешит ум на мгновение веселым зрелищем, мы знаем по опыту, что смех, вызываемый остротой, умирает вместе со своей жертвой, никогда не отражаясь в нашем сердце…»
Конечно, он заблуждается добросовестно. К тому же очарование, произведенное английским писателем Ричардсоном, всё ещё не прошло, и уже едва ли может пройти. Ещё и проклятая робость не успевшего в суете коммерческих сделок созреть дарования побуждает искать образцов, тогда как ему полагается с полным вниманием слушать только себя самого, как это делает истинно созревший талант, идущий всегда напролом, как раздробляющий крепостные стены таран, оттого истинный талант и топчет ногами любые авторитеты и бесстрашно устремляется по собственному пути.
По-прежнему образом ему служат романы английского писателя Ричардсона и мещанская драма, которую ещё именуют слезливой комедией, введенная в моду довольно далеким от сцены, наделенным разносторонним талантом Дидро. Одинокому сердцу, отвернувшемуся с отвращением от бесстыдного общества, так хочется чистых, чувствительных сцен! Ему близки слезы невинных жертв чужого расчета или бесчувственной подлости, как близка идея возмездия за порок и конечного торжества справедливости. Ему хочется наказать безнравственность хотя бы на сцене, ему хочется наказать беспутство хотя бы в мечте.
К этой внутренней, непобедимой потребности приплетаются и другие причины. Прежде всего он не испытывает восторга от заполонившей все сцены трагедии классицизма, в которой выступают помпезные герои античности, к тому же облаченные а камзолы и парики восемнадцатого столетия, что не только идет им, как корове седло, но и делает их совершенно искусственными. Он ничего искусственного не в силах терпеть, в том числе не в силах терпеть александринский размеренный стих, каким непременно должны изъясняться напыщенные герои трагедий. Он, может быть, потому не любит и не ценит его, что не прошел в свое время через обычную французскую школу, основанную на латинизме и на этом самом александринском стихе, когда-то новаторском, а теперь устарелом. Это неприятие для него настолько принципиально, что оно ляжет в основу его «Опыта о серьезном драматическом жанре», который он приложит к изданию первого опыта своего драматического пера. Вот что он там изречет:
«Какое мне – мирному подданному монархического государства ХV111 столетия – дело до революций в Афинах или в Риме? Могу ли я испытывать подлинный интерес к смерти пелопонесского тирана? Или к закланию юной принцессы в Авлиде? Во всем этом нет ничего нужного мне, никакой морали, которую я бы мог для себя извлечь. Ибо что такое мораль? Это извлечение пользы и приложение к собственной жизни тех раздумий, которые вызывает в нас событие. Что такое интерес? Это безотчетное чувство, с помощью которого мы приспосабливаем к себе это событие, чувство, ставящее нас на место того, кто страдает в создавшейся для него ситуации. Возьму наудачу пример из природы, чтобы прояснить свою мысль. Почему рассказ о землетрясении, поглотившем Лиму и её жителей за три тысячи лье от меня, меня трогает, тогда как рассказ об убийстве Карла 1, совершенном в Лондоне по приговору суда, только меня возмущает? Да потому, что вулкан, извергавшийся в Перу, мог прорваться и в Париже, погребя меня под руинами, и эта угроза, возможно, для меня всё ещё существует, тогда как ничего подобного невероятному несчастью, постигшему английского короля, мне опасаться не приходится…»
Без сомнения, он отдается безотчетному чувству. Он избирает содержанием драмы именно то, что тревожит его, то есть судьбу бесправного, судьбой угнетенного существа, которое может обидеть и обесчестить любой титулованный прохиндей, если такая блажь вступит в беспутную башку прохиндея. Однако он ещё не в состоянии придумать ничего истинно своего. Он берет расхожий, неоригинальный сюжет, который можно обнаружить у английского писателя Ричардсона или в побочном эпизоде «Хромого беса» французского писателя Лесажа. В самом деле, только взгляните на эту историю: молодой шалопай, племянник министра, соблазняет честную девушку из простого сословия, обманув её видимостью вступления в брак, затем бросает её, но, разумеется, с должным благоразумием раскаивается в финале, растроганный её благородством и недосягаемой нравственной высотой. Нечего сказать, оригинальный сюжет!
В этом избитом сюжете одно только выдает будущего великого комедиографа: его склонность к простым ситуациям, в которых представители противоположных сословий участвуют и как представители этих сословий и в то же время как обыкновенные люди, которые действуют так, как свойственно действовать каждому человеку, независимо от времени, от эпохи, от сословий и классов, их разделяющих. Да, аристократ и простолюдинка, а в то же время мужчина и женщина, которые любят друг друга, как любят друг друга мужчины и женщины во все времена, тоскуют, страдают, готовые умереть от предательства и измен.
Под его пока что неумелым пером эта простая история приобретает живость и убедительность только там и тогда, где и когда он вкладывает свои свежие чувства, там и тогда, где и когда звучат отголоски запутанной испанской истории или его собственных, тоже запутанных, не совсем понятных отношений с креолкой Полин де Бретон. Прочие пространства своей первой драмы он заполняет скучными рассуждениями на общие темы и привычной для того времени декламацией, которой щеголяют герои трагедий, как ни пытается он откреститься от них.
Скверней всего то, что к этому невызревшему творению привязывается плоская и оттого особенно надоедливая цензура. Цензору Марену очень не нравится то, что действие драмы происходит в Бретани, в замке французского аристократа и что в эту малопочтенную историю замешивается, хотя очень косвенно, французский министр. Правдолюбивый цензор Марен, погрязший во лжи, что ещё несколько раз продемонстрирует нам при других обстоятельствах, утверждает, будто в прекрасной Франции, где сам король, а следом за королем многие графы и герцоги открыто живут со своими любовницами, имея законных жен, такого рода история просто-напросто не может произойти.
Понятно, что цензор Марен всего лишь болван, поскольку иных цензоров не бывает на свете, если это не Иван Александрович Гончаров или Федор Иванович Тютчев, и, по счастью, такого рода препятствия для Пьера Огюстена сущий пустяк. Он моментально меняет название. Не успевает верноподданный болван глазом моргнуть, как Бретань преобразуется в Лондон, а французский аристократ оказывается английским аристократом, то есть изворотливый автор прибегает к нехитрой уловке, весьма распространенной среди литераторов, будь они драматурги или прозаики, настигнутые непостижимой цензурой.
И что же, верноподданный цензор такого рода перестановкой доволен вполне, точно он полагает, что зрители, сидящие в зале, такие же дураки и ровным счетом ничего не поймут, если место действия из прекрасной Англии перебросить на, без сомнения, неблагополучные Британские острова.
Все-таки эта хитрость слишком проста и не убеждает Пьера Огюстена в зрелости своего мастерства. По-прежнему неуверенный, страшащийся позора провала, кажется, даже больше, чем страшился провалиться в Испании, он читает многократно переработанную «Евгению» своим хорошим знакомым, ожидая полезных критических замечаний, поскольку разрушительные замечания цензора полезными не назовешь, читает даже в близких салонах, а кое-кому доверяет рукопись в руки для внимательного прочтения наедине.
Почему-то в особенности старается оказать ему посильную помощь герцог де Ниверне, занимающий должность министра, пэр Франции и к тому же член Академии, что, впрочем, мало характеризует герцога с положительной стороны, поскольку академики большей частью бесталанные люди, наделенные всего лишь редкой сноровкой зарекомендовать себя перед своими собратьями явной неспособностью их затмевать.
Герцог де Ниверне оказывается человеком по крайней мере внимательным и добросовестным и за неделю до первого представления пьесы на сцене Французской комедии вручает благодарному автору несколько листов своих замечаний. Трудно судить, насколько его замечания проницательны и полезны, однако Пьер Огюстен хватается и за них и ещё раз вносит поправки в свое многотерпеливое детище, которые, как вскоре становится ясно, незначительно улучшают его.
Наконец с множество раз перекроенной и подштопанной пьесой он приходит в театр, Театр его пьесу благосклонно берет. Начинаются репетиции, причем необходимо отметить, что в те времена актеры, как даровитые, так и посредственные, не утруждают себя количеством репетиций, более полагаясь за зыбкое счастье импровизации по ходу спектакля, для чего необходим легкий, хорошо запоминаемый текст. На репетициях же делаются прикидки, выстраиваются мизансцены, определяются удобные выходы да слегка проходятся диалоги, чтобы к премьере быть хотя бы отчасти в курсе того, что надлежит делать и говорить. Не мудрено, что с такими приемами спектакль готовится к выходу в течение нескольких дней, мудрено то, что очень часто сделанные на живую нитку спектакли имеют громадный успех.
Также немудрено, что Пьер Огюстен, новичок в профессиональном театре, приходит в ужас от такого рода приемов, которые не могут не представляться ему легкомысленными и прямо убийственными для пьесы, начиненной полезной моралью. Сам театр тоже не производит на него благоприятного впечатления, Здание Французской комедии выстроено ещё при Мольере. Дух великого, может быть, в нем и витает, однако оно до крайности неудобно. В нем три яруса лож, из которых далеко не все открывается из того, что происходит на сцене. Зрителям партера приходится стоять весь спектакль на ногах, что не позволяет им сосредоточить внимание, так что в зрительном зале всегда стоит легкий гул, заглушающий голос и самого горластого из актеров, а ведь далеко не каждый горласт. Техника сцены давно устарела и тяжело хромает на обе ноги. В общем, одни и те же злые недуги поражают в прекрасной Франции не только монархию, но и театр.
Однако хуже всего, что ведущие актеры сообща владеют театром, каждый имея свой пай, тем не менее между владельцами не примечается никакого согласия. Владельцы то и дело мелко и скверно ссорятся между собой, и отношения между ними уже доходят до лютой ненависти и подлейших интриг, которые нередко из-за кулис вываливаются на сцену. К тому же матерые совладельцы явно стареют, не все роли по преклонному возрасту способны играть и приглашают в труппу актеров и актрис помоложе, но не в качестве совладельцев, а на грошовый оклад, что чувствительные сердца приглашенных поражает благородным чувством несправедливости и лютой зависти к своим старшим коллегам. Нечего прибавлять, что следом за этими чувствами в театре учиняется кавардак. Другими словами, Пьер Огюстен попадает в обыкновенный театр, актеры которого в таком тяжелом и нелепом разладе между собой, что, кажется, не могут прилично выйти на сцену, не только прилично сыграть. Тем не менее, они выходят под огни рампы с божественным третьим звонком и недурно играют, если, разумеется, награждены дарованием, а порой играют божественно, когда случается настоящий талант.
Как всегда, Пьер Огюстен сперва поражен всей этой неразберихой и несмываемой грязью кулис. Затем он принимается действовать, со своей неуемной энергией поспевая повсюду. Кому-то он просто-напросто сует деньги в карман, справедливо предполагая, что лишние деньги не повредят, для чего-то взбирается на колосники, спускается в оркестровую яму, возится с декорациями, сам ставит свет, придумывает мизансцены и выходы, то и дело бегает в кассу, организует рекламу, даже что-то усовершенствует в давно устаревших машинах, видимо, припомнив анкерный спуск. Таким образом неожиданно выясняется, что перед нами не только политик, мастер закулисных интриг, коммерсант и делец, но также истинно театральный, то есть неизлечимо больной человек.
К тому же для первого раза ему очень везет. Роль Евгении поручается мадам Долиньи, актрисе с талантом, тогда как Кларендона играет прославленнейший Превиль, в особенности имеющий бешеный успех в ролях соблазнителей, поскольку неотразимый соблазнитель и в жизни, несмотря на свои сорок шесть лет. Не могу сказать в точности почему, но Пьер Огюстен и Превиль становятся вскоре друзьями.
И все-таки первый блин оказывается действительно комом, уж это закон. Спектакль не то что бы с треском проваливается, что в иных случаях свидетельствует о чересчур большом и новаторском даровании автора, а как-то сходит на нет. Первые действия публика принимает прохладно. Во время последних партер охватывает подозрительное движение, которое лучше всего говорит, что зрители не совсем понимают, какое им дело до страданий обманутой и несчастной Евгении. Лишь немногие реплики вызывают здоровую реакцию зала, в особенности когда беременная Евгения, сопровождая текст довольно рискованным жестом, не без яду бросает: «Ладно, ты вправе взять свое, твое прощенье у меня под сердцем», и своим громким смехом зрители отдают должное смелости автора и неожиданной фривольности мадам Долиньи, страшная редкость в довольно чопорной Французской комедии, уже позабывшей соленые фарсы Мольера.
На другой день ему приходится испить всю горечь первого поражения. Желчный Гримм, по природе злой человек, поскольку сильно обижен и талантом и ростом, разносит «Евгению» самым решительным образом, не оставляя от первенца автора камня на камне. Впрочем, он лишний раз доказывает своим неуемным неистовством, что даже самая авторитетная критика способна лишь ошибаться в оценке таланта, пусть ещё не развившегося, поскольку в галиматье, которую бесстрашно несет напрасно прославленный Гримм, встречается поражающий своей нелепостью приговор:
«Этот человек никогда ничего не создаст, даже посредственного. Во всей пьесе мне понравилась только одна реплика: когда Евгения в пятом действии, очнувшись после долгого обморока, открывает глаза и видит у своих ног Кларендона, она восклицает, отпрянув: «Мне показалось, я его вижу!» Это сказано так точно и так отличается от всего остального, что, бьюсь об заклад, придумано не автором…»
Как с достаточным основанием докажет дальнейшее, самодовольный критик садится в лужу перед потомством, причем садится самым поразительным образом, вполне без штанов, точно стремясь доказать, что всё на свете имеет свою оборотную сторону. Оказывается, что Пьера Огюстена необходимо сильно ударить, глубоко оскорбить, чтобы пробудились его дремлющие духовные силы, а его талант засверкал во всей своей красоте. Обозленный, униженный, он в течение двух дней, остающихся до второго спектакля, сильно перерабатывает последние действия, должно быть, ясно обнаружив их недостатки, когда своими глазами увидел на сцене, как обыкновенно приключается с автором, отчего и самая прекрасная пьеса не может не поправляться во время репетиций и даже после премьеры, только не режиссером, а именно автором.
Благодаря лихорадочным этим усилиям тридцать первого января пьеса проходит с успехом, что позволяет другому критику, влиятельному Фрерону, заметить, что «Евгения», сыгранная двадцать девятого в первый раз, была довольно плохо принята публикой, так что этот прием выглядел полнейшим провалом, но затем она прямо-таки воспряла благодаря поправкам и сокращениям, заняв публику и сделав честь прекрасным актерам. И в самом деле, «Евгению» дают семь раз подряд, что довольно близко к успеху.
И всё же, как водится, куда более продолжительный и громкий успех выпадает на долю «Евгении» не в родных стенах, а далеко за пределами родины. Пьесу широко переводят на европейские языки, может быть, её настроение, даже некоторая слезливость и декламация ближе сердцу иноземного зрителя, так что насильственное переселение персонажей на туманные Британские острова получает какой-то особенный, дополнительный смысл.
Некая миссис Грифитс переводит эту мещанскую драму на английский язык, вернее, перелагает её, ещё более приспосабливая на причудливые английские нравы, изменяет даже название, и «Евгения» преобразуется в «Школу развратников». В таком виде роль Кларендона с ослепительным мастерством играет прославленный Гаррик, и благодаря ему «Школа развратников» надолго остается в репертуаре, тем более что английские зрители окончательно распознают в ней пленительные мотивы своего писателя Ричардсона.
Переводят «Евгению» и на немецкий язык, и, несколько позднее, она чрезвычайно понравится Гете.
Вскоре кто-то завозит «Евгению» и в Россию, и нельзя исключить, что это похвальное действие производит семейство Бутурлиных. На русский язык пьесу переводит Николай Пушников, и этот вполне правомерный поступок вызывает страшный гнев Сумарокова, скучные пьесы которого гремят на московском театре, а с появлением «Евгении» отодвигаются на второй план, затем вытесняются из репертуара совсем, что для автора, конечно, обидно. Переводчик же утверждает, что успех «Евгении» был просто невероятный и аплодисмент русских зрителей почти не смолкал. Будучи скромным, от природы или по хорошему воспитанию, Николай Пушников все заслуги справедливо отдает автору и актерам, Дмитревскому, Померанцеву и Ожогину, тогда лучшим актерам Москвы. Свое мнение излагает он так:
«Первый, по моему мнению, ничего не проронил, что делает драму совершенной, а последние, руководствуемые славным нашим актером, г. Дмитревским, в то время в Москве бывшим, изображая естественно то, что требовал сочинитель, сами себя превзошли. Пример сей показывает ясно, что вкус к зрелищам, вкус столь похвальный и полезный, час от часу больше у нас умножается. Дай Боже, чтобы оный совершенно утвердился к чести и пользе общества, к поправлению наших сердец и нравов…»
К сожалению, этот доброжелательный отзыв Пьер Огюстен никогда не читал. То же, что ему приходится читать в бойкой французской печати, слишком мало утешает и вдохновляет его.
Неожиданно утешение приходит совсем с другой стороны. По своим коммерческим предприятиям он входит в сношения с генеральным смотрителем провиантской части дворца Меню-Плезир, и вскоре, к моему, а может быть, и к его удивлению, начинает повторяться история его первого, такого короткого и несчастного брака. Мсье Левек в возрасте, как и мсье Франке, и тоже поражен какой-то серьезной болезнью. Его жена Женевьев Мадлен, приблизительно тридцати шести лет, слывет женщиной достойной и сдержанной, весьма уважаемой в обществе, точно так же, как и Мадлен Катрин Франке. Каким-то образом Пьер Огюстен попадает в круг её близких знакомых. Поэтому поводу рассказывается довольно запутанная история. В этой истории общая знакомая мадам Бюффо, супруга директора Оперы, специально назначает свидание на Елисейских полях, единственно ради того, чтобы познакомить вдовца со своей хорошей подругой, причем для пущего блеска предлагает вдовцу явиться верхом на коне. Пьер Огюстен будто бы и в самом деле скачет верхом, и знакомство происходит в слишком уж подозрительном месте, в Аллее вдов. Нечего говорить, что верхом на коне он производит на Женевьев Мадлен неотразимое впечатление, и вскоре влюбленная женщина отдается ему, видимо, считая себя уже свободной от брака, поскольку муж её болен и стар.
Конечно, история знакомства чересчур романтична, в особенности это неожиданное предложение явиться на первую встречу верхом на коне, чтобы считать её подлинной. И все-таки невозможно выдумать такую историю целиком. Очень возможно, что Пьер Огюстен и в самом деле прогуливался верхом по Елисейским полям и что во время этой прогулки далеко не старая дама, несчастная в браке, впервые видит его, действительно, в очень выигрышный момент.
Как бы там ни было, сюжет «Евгении» неожиданно повторяется: дама беременна, едва её муж успевает покинуть многострадальные земные пределы. Нетрудно представить, как счастлив Пьер Огюстен, считающий отцовство высшим предназначением в жизни. Он моментально делает предложение своей новой избраннице, и предложение принимается, может быть, не без слез благодарности на глазах, и спустя три с половиной месяца после кончины супруга, одиннадцатого апреля 1768 года, происходит венчание, а спустя ещё восемь месяцев на свет появляется сын, Огюстен де Бомарше.
Однако какой-то злой рок тяготеет над этим странным сторонником правильной супружеской жизни. Вторая жена здоровьем оказывается так же слаба, как и первая. Едва удостоверившись в этом несчастье, Пьер Огюстен поспешно приобретает загородное поместье недалеко от Пантена, чтобы больная могла круглосуточно пользоваться свежим воздухом и целительным деревенским покоем. Сам же он каждое утро мчится из Пантена в Париж и каждый вечер неизменно возвращается в свой супружеский дом, причем близкие люди передают, что этот будто бы развращенный, распущенный человек, ещё в раннем возрасте вступивший на малопочтенную тропу Дон Жуана, каждую ночь проводит не только в одной спальне, но и в одной постели с женой. Когда же дела его призывают в Шинон и ему приходится одному проводит свои ночи, это ему представляется трудным, а без мысли о сыне он не в состоянии, кажется, жить, поскольку интересуется в каждом письме:
«А сын мой, сын мой! Как его здоровье? Душа радуется, когда думаю, что тружусь для него…»
Он становится довольно беспечен, а временами просто неосторожен, словно этот второй брак по любви дает ему такую уверенность в себе, что отныне ему всё нипочем.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































