Текст книги "Превратности судьбы, или Полная самых фантастических приключений жизнь великолепного Пьера Огюстена Карона де Бомарше"
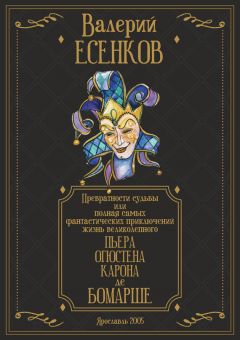
Автор книги: Валерий Есенков
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 61 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]
Правда, именно в эти печальные дни вольнолюбивой актрисе Менар монастырские стены становятся в тягость, а покаянные письма и щедрые приношения герцога несколько успокаивают и умягчают её. Актриса Менар возвращается в свой будуар и первым делом шлет приглашение Пьеру Огюстену, желая без промедления видеть его, чтобы о чем-то чрезвычайно для неё важном держать с ним совет.
Занятый по горло комедией, накануне сложного и едва ли не убийственного процесса, Пьер Огюстен проявляет особую осторожность. Никакие скандалы, никакие недоразумения, тем более кровавые стычки ему не нужны. Отлично изучив его буйный нрав, он извещает о приглашении герцога, а заодно в длиннейшем письме втолковывает ему, что никаких отношений известного свойства между ним и актрисой Менар не имеется, речь идти может только о дружбе.
Натурально, уже в то время, а затем и в позднейшие времена письмецо было объявлено хитрейшей проделкой с его стороны и все его уверения были приняты как тончайшая и ужасно ловкая ложь. При этом остается загадкой, для чего ему в таком случае понадобилось сочинять это письмо, для чего лгать, для чего изворачиваться перед каким-то бестолковым и, в сущности, не опасным аристократом? Мог ли он заранее знать, что всего через несколько дней этот феноменальный ревнивец набросится на него, как дикий зверь, и что самая жизнь его внезапно повиснет на волоске? Всей этой внезапно завертевшейся чертовщины он знать, конечно, не мог, а потому стоит только внимательно и беспристрастно прочитать это письмо, чтобы увидеть своими глазами, что оно написано искренне и что Пьер Огюстен не нуждался во лжи, поскольку между ним и актрисой Менар действительно не произошло ничего, что бы следовало скрывать. Вот это письмо:
«Мсье герцог, мадам Менар уведомила меня, что она уже дома, и пригласила, как и всех прочих друзей, посетить её, если я пожелаю. Из этого я заключил, что причины, вынудившие её скрыться, отпали; она сообщает, что свободна, с чем я от всего сердца поздравляю вас обоих. Я рассчитываю повидаться с ней завтра днем. Итак, в силу обстоятельств Вы прииняли решение, к которому не могли побудить Вас мои уговоры; Вы перестали её терзать, я горячо радуюсь за вас обоих, я сказал бы – даже за нас троих, если бы не решил вовсе устраниться от всего, что хоть в малейшей мере касается бедняжки. Мне стало известно, какие финансовые усилия Вы предприняли, чтобы поставить её вновь в зависимость от себя, и каким великодушным поступком увенчала она свое шестилетнее бескорыстие, вернув мсье Жанлису деньги, которые Вы взяли в долг, чтобы предложить ей. Какое благородное сердце не воспламенилось бы при подобном поведении! Я, чьи предложения услуг она до сих пор отвергала, сочту для себя великой честью, не в глазах всех, так, во всяком случае, в моих собственных, если она соблаговолит числить меня одним из самых преданных своих друзей. Ах, мсье герцог, сердце столь великодушное не может быть привязано ни угрозами, ни побоями, ни деньгами. /Простите, если я позволяю себе подобные рассуждения: они небесполезны для той цели, которую я ставлю перед собой, обращаясь к Вам./ Она это доказала Вам без чьей-либо подсказки. Ваши легкомысленные поступки, рассеянный образ жизни, пренебрежение к собственному здоровью могли заронить в неё мысль, будто Вы уже не питаете более любви к ней, но в ту минуту, когда она решила, что её отдаление Вас огорчает, она пожертвовала всем ради Вашего спокойствия. Вместо того чтобы быть ей благодарным за это, Вы постарались запугать её всеми возможными способами. Она страдал от своего рабства и наконец от него избавилась. Всё это в порядке вещей. Я говорю Вам о ней, оставляя в стороне оскорбления, нанесенные мне лично. Я оставляю в стороне и то, что после того как Вы сами же меня обнимали, ласкали и в своем и в моем доме, благодаря за жертвы, продиктованные исключительно моей к Вам привязанностью, после того как жалели меня, всячески её пороча, несмотря на все мои предупреждения, Вы вдруг без всяких оснований стали потом говорить и действовать совсем по-иному и наговорили ей во сто раз больше гадостей обо мне, чем говорили прежде ей обо мне. Не стану упоминать о сцене, ужасной для неё и отвратительной между двумя мужчинами, когда Вы совершенно уронили себя, попрекая меня тем, что я всего лишь сын часовщика. Я горжусь своими родителями даже перед теми, кто считает себя вправе оскорблять своих собственных. Вы сами понимаете, мсье герцог, насколько в данных обстоятельствах моя позиция ставит меня выше Вас. Не будь Вы во власти несправедливого гнева, лишившего Вас рассудка, Вы, нет сомнения, были бы только благодарны мне за ту сдержанность, с которой я отверг оскорбления со стороны того, кого до сих пор неизменно почитал и любил от всего сердца. Если же при всей моей уважительной предупредительности к Вам я не трепетал перед Вами от страха, причина здесь в том, что я не властен над собой и не могу заставить себя бояться кого бы то ни было. Разве это основание, чтобы досадовать на меня? И разве всевозможные меры предосторожности, принятые мной, не должны, напротив, приобрести в Ваших глазах ту ценность, которая сообщается им моей твердостью? Я сказал себе: он опомнится после всех содеянных им несправедливостей, и тогда моя порядочность заставит его наконец покраснеть за собственные поступки. Вот из чего я исходил. Как бы Вы ни тщились, Вам не удастся составить обо мне дурное мнение, равно как и внушить его Вашей приятельнице. Она потребовала в своих собственных интересах, чтобы я более её не видел. Мужчину не может обесчестить покорность женщине, и я два месяца не видел её, не имел с ней никакой прямой связи. Сейчас она разрешает мне пополнить круг её друзей. Если за это время Вы не вернули себе её благосклонность, утраченную из-за Вашего невнимания и невоздержанности, следует заключить, что средства, Вами употребленные, были неподходящими. Право, послушайте меня, мсье герцог, откажитесь от заблуждения, уже столько огорчений причинившего Вам: я никогда не посягал на то, чтобы ослабить нежную привязанность, питаемую к Вам этой великодушной женщиной. Она прониклась бы ко мне презрением, попытайся я сделать это. Среди мужчин, её окружающих, у Вас лишь один враг – это Вы сами. Ущерб, который Вы нанесли самому себе своими последними буйствами, указывает Вам, на какой путь следует встать, чтобы занять достойное место среди её истинных друзей… Плохое здоровье не позволяет ей приблизить к себе мужчину в ином качестве. Вместо того чтобы создавать ей адскую жизнь, объединим наши усилия и окружим её милым обществом, чтобы сделать её жизнь приятной. Вспомните всё, что я говорил Вам на этот счет, и хотя бы ради неё верните Вашу дружбу тому, у кого Вы не смогли отнять уважение к себе. Если это письмо не откроет Вам глаза, я буду считать, что полностью исполнил свой долг по отношению к другу, которого никогда не бесславил и об оскорблениях которого позабыл. Я обращаюсь к Вам в последний раз, предуведомляя, что, если и это не принесет результата, я буду отныне придерживаться холодного, сухого и твердого уважения, которым обязан вельможе, в чьем характере жестоко ошибся…»
Пьер Огюстен выражается недвусмысленно: «я никогда не посягал» и так далее. Человек чести, доведенной до щепетильности, поскольку сыну часовщика слишком легко уронить себя в среде титулованных негодяев, не склонных уважать в нем человека, он не может перед герцогом, хотя бы потому, что не желает поставить себя ниже его. Мирить свою любовницу с её возможным любовником единственно ради того, чтобы избежать неприятной сцены или скандала, это чересчур грязно и недостойно именно для сына часовщика, который возвысился собственными талантами и трудами. Напротив, он пытается помирить актрису Менар и де Шона из самых гуманных и дружеских чувств. Он говорит с герцогом не только как равный с равным. Он говорит с ним как человек, нравственно превосходящий его и по этой причине имеющий полное право его пристыдить.
Возможно, это трудное дело удается ему. Во всяком случае, в течение нескольких дней герцог де Шон ведет себя очень тихо, ничем не выдает своих расстроенных чувств, а так как это человек безудержно вспыльчивый, можно предположить, что послание действует на него благотворно. Обнаружив, что несчастный друг успокоился, Пьер Огюстен, вероятно, считает дело улаженным к взаимному удовольствию. Во всяком случае, он явным образом не ждет никаких осложнений. Он в такой степени сохраняет равновесие духа, что приводит к окончанию начатую комедию, ставит последнюю точку и на одиннадцатое февраля как ни в чем не бывало назначат первое чтение своего впоследствии прославленного «Цирюльника» в кругу своих ближайших друзей.
Глава шестнадцатая
Бешеный герцог
Утром этого злополучного дня Пьер Огюстен, опять-таки как ни в чем не бывало, отправляется в свое егермейстерство, где назначено судебное разбирательство по случаю браконьерства, потрав и покраж. Дела главным образом мелкие, хотя и обременительные. Едва ли они сколько-нибудь занимают его растревоженный творческий ум. По пути в суд он, по обыкновению, размышляет, уединившись в карете. Возможно, он размышляет о только что оконченной пьесе и в последний раз мысленно проверяет наиболее сомнительные места, перед тем как вынести её на благожелательный, но всё же строгий суд своих первых слушателей и судей.
Вдруг, когда карета преспокойно катит по улице Дофина, наперерез его лошадям с истошным воплем бросается Гюден де ла Бренельри, вскакивает на приступку кареты и чуть не вопит:
– Сейчас же поезжайте ко мне, я должен поговорить с вами о неотложном деле!
Пьер Огюстен, уже привыкший к эксцентрическим выходкам незадачливого поэта, разъясняет спокойно, куда и по какой надобности держит свой путь, и обещает непременно прибыть после окончания судебного разбирательства. В ответ следует новый вопль Гюдена де ла Бренельри:
– Будет слишком поздно!
Возможно, Пьер Огюстен даже смеется и просит изъясняться ясней. Явным образом потерявший голову Гюден де ла Бренельри возражает, что только что в спальню актрисы Менар с обнаженной шпагой в руке ворвался герцог де Шон, обшарил всю комнату, залезал под кровать и затем объявил, что ищет этого сукина сына, то есть вас, Бомарше, которого без промедления прямо-таки обязан убить.
Пьер Огюстен отвечает невозмутимо:
– Я сам его взгрею.
Пообещав дать неразумному герцогу взбучку, он толкает кучера в спину и продолжает свой путь. В Лувре он, как обычно, занимает свое судейское кресло, расшитое белыми королевскими лилиями, знак его полномочий, и принимается методически выслушивать вранье браконьеров и мелких воров и не всегда ясные и честные показания лесных сторожей. За этим весьма полезным занятием мирно протекает пятнадцать минут. Вдруг створки дверей с треском разлетаются в стороны, в зал заседаний врывается взмыленный герцог де Шон, прерывает словоговоренье сторон и без промедления требует от судьи, в данный момент представляющего самого короля:
– Мсье, вы должны немедленно выйти! Мне необходимо срочно с вами поговорить!
Разумеется, взбреди в голову любому смертному поступить таким хамским образом, гвардейцы короля без лишних слов вышвырнули бы вон негодяя, при этом, вероятно, достаточно сильно притиснув его, а возможно, и намяв смутьяну бока, что, без сомнения, наглый смутьян вполне заслужил. Однако гвардейцы короля немеют как последняя дрянь перед титулом герцога и не проявляют признаков жизни, точно их в зале и нет.
Пьер Огюстен очень вежливо и с достоинством говорит:
– Я не могу этого сделать, мсье герцог. Общественные обязанности вынуждают меня соблюсти приличия и довести до конца свое дело.
Затем следует негромкое приказание:
– Гвардеец, подайте мсье герцогу стул.
Гвардеец повинуется, герцог усаживается, однако тут же и вскакивает, совершенно не владея собой: Мсье, я не могу сидеть, я жажду…
Следует новый негромкий приказ:
– Гвардеец, принесите мсье герцогу стакан воды.
Герцог в явной истерике:
– Я жажду вашей крови! Мне необходимо сейчас же убить вас и разорвать на куски ваше сердце!
Мастер интриги не только на сцене, но и в действительной жизни, Пьер Огюстен понимает, что рано или поздно деловая обстановка судебного заседания охладит разгоряченные нервы и приведет несчастного герцога в чувство, а потому говорит хладнокровно: Только-то и всего? Простите, мсье герцог, делу время, а потехе час.
Герцог орет, поскольку прекрасной знает о своей безнаказанности:
– Я выцарапаю вам глаза перед всеми, если вы сейчас же не пойдете со мной!
Пьер Огюстен вежливо напоминает ему:
– Это вас погубит. Не забывайте, мсье герцог, где вы находитесь и кому я здесь служу.
В самом деле, этого обстоятельства даже бешеный герцог не может не понимать и садится на стул. Пьер Огюстен продолжает вести заседание, может быть, несколько медленней, чем всегда, выуживая из свидетелей всё новые и новые подробности каждого дела. Промедление действует на герцога, точно шило в заду. Герцог взвивается, мечется по гулкому залу суда, прерывает свидетелей, требует, чтобы стороны изъяснялись короче, всем своим поведением доказывая бесспорную истину, что привилегии успешно изготовляют из любого человека мерзавца. Гвардейцы короля вежливо, но силой усаживают его. Через минуту герцог кричит, на этот раз обращаясь к графу де Марковилю, судебному заседателю:
– Я удушу его!
Тут не выдерживают столь знакомые с всесилием привилегий гвардейцы и угрожают вывести шального герцога вон, что им полагалось сделать ещё в самый момент его недостойного появления, принадлежи герцог к презренному сонму простых, нетитулованных смертных. Пьер Огюстен приказывает гвардейцам не трогаться с места, чтобы не подать герцогу ни малейшего повода в чем-нибудь его обвинить. Герцогу приходится замолчать. Адвокат произносит с пафосом, довольно уместным, защитительную речь в пользу фермера, который оказался не совсем согласным с одной из статей королевского ордонанса, что-то некстати ему запрещавшей. Герцог вскакивает, вырастает медведем перед лицом изумленного адвоката, похожий на разъяренного зверя, и вопрошает:
– Долго вы там ещё?
Адвокат мужественно заканчивает свою речь, употребив на неё ещё пятнадцать минут, что свидетельствует о том, что французские адвокаты добросовестно исполняют свое многотрудное дело, не страшась схлопотать оплеуху от взбесившегося гиганта, который обладает довольно тяжелой рукой.
Пьер Огюстен поднимается, оправляет воротник своей мантии, тут же приговаривает беспутного фермера к штрафу в сто ливров, чтобы таким верным способом внушить почтение к ордонансам, и с удовлетворением произносит заключительную формулу своего приговора. Может быть, он рассчитывает на то, что сорвавшийся с цепи аристократ все-таки вспомнит, какое ответственное лицо возвышается в данный момент перед ним:
– Решено и вынесено мессиром Пьером Огюстеном Кароном де Бомарше, кавалером, советником короля, старшим судьей Луврского егермейстерства и большого охотничьего двора Франции, правившим суд в зале заседаний, дано в Луврском замке в четверг одиннадцатого февраля 1773 года.
Напрасно надеется. Сорвавшийся с цепи аристократ никого не боится, тем более какого-то смехотворного кавалера и советника короля, так что едва Пьер Огюстен, сбросивши мантию, в своем вполне штатском костюме, появляется у подъезда, чтобы занять свое место в карете, его встречает бушующий герцог с больными озлобленными глазами, уже успевший собрать возле ожидающих экипажей небольшую толпу из прохожих зевак.
Пьеру Огюстену толпа даже на руку: ему необходимы свидетели, поскольку он имеет дело с мерзавцем, защищенным нескончаемой родословной. По-прежнему сохраняя присутствие духа, ещё не утратив тона суровой речи судьи, только что огласившего довольно строгий и наставительный приговор, он вопрошает, достаточно громко, чтобы слышали все, каковы, собственно, претензии герцога и чем он, так сказать, может этому превосходному человеку служить.
Превосходный человек, защищенный титулом, как броней, взрывается у всех на глазах:
– Никаких объяснений! Сию минуту мы едем драться или я закачу скандал прямо здесь!
Ну, грандиозный скандал он уже закатил, так что хотя бы этой неприятности не имеет смысла уже опасаться, а драться в Лувре он, конечно, не станет: даже охваченный буйством герцог знает прекрасно, какими крупными неприятностями грозит ему столь беспрецедентное нарушение этикета, равносильное оскорблению достоинства короля. Мгновенно взвесив все обстоятельства, Пьер Огюстен возражает хладнокровно и крайне учтиво:
– Надеюсь, вы всё же позволите мне заехать за шпагой домой.
Герцог гремит на весь Луврский двор:
– Мы заедем к графу Тюрпену, он ссудит нас шпагой, и я попрошу его быть секундантом.
Тут герцог вваливается в карету и орет кучеру адрес графа Тюрпена. Пьер Огюстен садится с ним рядом. Герцог продолжает бесноваться в этом тесном пространстве и обвиняет своего бывшего друга черт знает в чем. Пьер Огюстен терпеливо молчит, вероятно, рассчитывая таким способом утихомирить болвана, или, ещё более вероятно, надеясь окончательно вывести его из себя, привлечь к происходящему безобразию бдительное внимание стражей порядка, так что дуэль будет предотвращена, герцог выдаст себя с головой, а сам он преспокойно выйдет сухим из воды. В самом деле, минут пять спустя герцог кипит, приставляет к его носу свой непомерный кулак и вопит: Ну, ты не вывернешься у меня на сей раз!
Все-таки необходимо признать, что Пьер Огюстен великолепный актер и знаток беспокойной души человека, недаром пишет комедии и сам иногда подвизается с немалым успехом на подмостках домашних театров. Негромко, проникновенно он говорит:
– Я не для того еду за шпагой, чтобы драться на кулаках.
Перед таким аргументом взбесившийся герцог вынужден отступить. Пьер Огюстен получает на несколько минут передышку. Вдобавок ему то и дело везет. Везет и теперь. Они подкатывают к подъезду графа Тюрпена в тот самый момент, когда граф выходит из дома. Пьер Огюстен тотчас пользуется подарком судьбы и без промедления вводит графа в курс этого во всех отношениях неприличного, непристойного дела:
– Герцог везет меня драться, хотя я и не знаю из-за чего. Он желает, чтобы я перерезал ему горло, но в этом престранном желании он оставляет мне по крайней мере надежду, что вы засвидетельствуете, как вели себя оба противника.
Граф мгновенно соображает, что у него не имеется никакого резона впутываться в это неприглядное, к тому же беспокойное дело да ещё впоследствии выступать в роли свидетеля. Граф вежливо сообщает, что его с нетерпением ждут в Люксембургском дворце и что он освободится не ранее четырех часов пополудни. С этим граф уезжает по своим не то наскоро вымышленным, не то действительно неотложным делам.
Герцог гремит:
– Мы поедем ко мне и дождемся, пока не вернется наш секундант. Кучер, ко мне!
Догадаться нетрудно, что ждет его в этом дьявольском пекле, и Пьер Огюстен возражает резонно:
– Ну, нет! Я не хотел бы встретиться с вами один на один даже в поле, поскольку имеется риск, что вы можете приписать мне намерение вас убить, если я буду вынужден защищаться от вашего нападения и раню вас. Тем более не поеду я к вам, где вы хозяин и где непременно поставите меня в ложное положение. Кучер, ко мне!
Герцог чуть не в истерике:
– Я заколю вас у дверей вашего дома!
Пьер Огюстен возражает с иронической вежливостью, поневоле разыгрывая роль своего неподражаемого героя:
– Значит, вы доставите себе это удовольствие, поскольку я нигде не намерен ждать того часа, когда мне станут ясны ваши намерения, как в собственном доме.
Карета мчится чуть не галопом, однако времени всё же достаточно, чтобы взбесившийся герцог успел изрыгнуть десяток-другой площадных оскорблений. В промежутках между ругательствами Пьер Огюстен достаточно остроумно урезонивает его:
– Послушайте, мсье герцог, когда человек хочет драться, он попусту не болтает. Зайдите в дом, отобедайте у меня, и если мне не удастся привести вас в чувство до четырех часов и вы всё ещё не откажетесь от намерения поставить меня перед выбором: либо драться, либо лишиться чести, – пусть всё решает оружие.
Поразительно, в век Просвещения доводы трезвого разума не чужды даже вышедшему из берегов представителю древнейшей фамилии. Герцог несколько утихает и принимает приглашение на обед, тем самым предоставляя ещё одно доказательство, насколько обаятелен и неотразим Пьер Огюстен Карон де Бомарше, сын часовщика, драматург.
В собственном доме Пьер Огюстен чувствует себя намного прочнее, спокойно распоряжается, дает приказание накрыть обеденный стол в своем кабинете, успокаивает выбежавшего отца, что придирки и возгласы герцога – всего лишь милая шутка старого друга.
Однако нежно любимая Франция всё ещё беспредельно далека от английского золотого закона, согласно которому мой дом представляет из себя мою крепость. Сиятельный герцог плюет на право собственности какого-то презренного сына часовщика, к тому же ещё драматурга, и возобновляет грязный скандал. Курьер доставляет хозяину дома письмо – герцог грубо вырывает пакет и раздирает в клочки, но все-таки соглашается проследовать в кабинет, расположенный во втором этаже. На лестнице Пьер Огюстен осведомляется у слуги, где его шпага. Слуга отвечает, что шпагу отправили в ремонт к оружейнику. Пьер Огюстен приказывает к концу обеда возвратить шпагу или доставить другую. Вновь впавший в безумие герцог орет:
– Не смей выходить из дома, болван, не то я тебя убью!
Пьер Огюстен обольстительно улыбается:
– Стало быть, вы переменили ваше намеренье? Слава Создателю, без шпаги драться я не могу.
После чего, не стерев улыбки с лица, войдя в кабинет, он подходит к бюро, чтобы написать деловое письмо, намеренно отвлекая де Шона от тягостных мыслей о поединке, в слабой надежде привести его в чувство и благополучно отправить домой. Де Шон вырывает перо и вышвыривает в окно. Это слишком даже для самого терпеливого человека, и Пьер Огюстен с подходящей к случаю твердостью предупреждает:
– Гость в моем доме неприкосновенен, и я не нарушу законов гостеприимства, если только не буду принужден к этому подобного рода эксцессами.
Подобного рода эксцессов не приходится ждать. Герцог хватается за оружие. Пьер Огюстен стремительно бросается на него, чтобы распоясавшийся вельможа не успел пустить оружие в ход. Герцог разрывает ему ногтями лицо. Пьер Огюстен звонит в колокольчик. Сбегаются слуги, видят окровавленного хозяина и получают приказ обезоружить безумца. Слуги бросаются на гиганта нестройной толпой. Гигант расшвыривает их, как котят. Догадливый повар хватает полено, лежавшее перед камином, и собирается ударить шального герцога по пустой голове. Истошным криком Пьер Огюстен останавливает его:
– Не причиняйте ему вреда! Он скажет потом, что в моем доме его убивали!
Поднимается кутерьма. Слуги, готовые с большим удовольствием колотить герцога чем ни попало, не смеют взять его шпагу: такого рода кощунство строго-настрого запрещает стоящий на страже аристократии королевский закон. Пользуясь защитой закона, полезного для него, герцог сбивает с головы Пьера Огюстена парик, вырывает из его темени целые пряди живых волос, превращает в клочья камзол и рубашку. Ошалевший от боли, Пьер Огюстен лупит кулаком по морде герцога со всего маху. Герцог хватает его за горло и истошно вопит:
– Несчастный! Ты ударил герцога и пэра!
Это серьезное преступление, и в ответ на эту великолепную дурость Пьер Огюстен расхохочется только много позднее, а пока вырывается из ручищ герцога и тем едва ли не спасает свою драгоценную жизнь. Слуги оттесняют герцога к лестнице. В пылу сражения позабыв, что он во втором этаже, герцог оступается и катится вниз, увлекая всех за собой. Не успевает вся кавалькада достичь последней ступеньки, как раздается звонок. Герцог сам кидается отворять. Входит бедный Гюден де ла Бренельри. Гнев с новой силой овладевает беспутным вельможей. Схваченный за шиворот могучей рукой, Гюден де ла Бренельри летит к чертовой матери, слабо попискивая. Герцог продолжает неистовствовать:
– Никто отсюда не выйдет и сюда не войдет, пока я не разорву на куски мсье де Бомарше.
К счастью для мирового театра, ему не удается привести в исполнение эту угрозу. Тогда он вновь обнажает оружие и бросается на безоружного хозяина дома, по пути калеча его добросовестных слуг, одному лакею рассекает лоб, отхватывает кучеру нос, протыкает повару руку и благодаря этой задержке не успевает нанести смертельный удар своему закадычному другу, ставшему вдруг заклятым врагом. Пьер Огюстен хватает каминные щипцы, чтобы отражать беспорядочные удары длинной герцогской шпаги. Слугам все-таки удается герцога разоружить. Герцог вихрем врывается в кухню, намереваясь вооружиться ножом. Слуги опережают его и поспешно засовывают куда попало все колющие и режущие средства. Горничная распахивает окно и вопит, что сумасшедший убивает её господина. Разъяренный герцог врывается в столовую в поисках другого ножа, внезапно усаживается за стол, выпивает два графина воды, съедает тарелку супа и чуть не десяток котлет. В дверь снова звонят. С салфеткой в руке, воспитанный человек, герцог торопится отворять. Входит комиссар префектуры Шеню, вызванный кем-то из собравшихся возле дома зевак. Обнаружив столпотворенье в доме и хозяина в клочьях одежды с залитым кровью лицом, комиссар вопрошает, что происходит, точно и без того не видать, что происходит погром. Пьер Огюстен докладывает подзапоздавшему стражу порядка, поспешно наводя в своем истерзанном костюме доступный порядок: Происходит то, что обезумевший негодяй, явившийся в мой дом, чтобы пообедать со мной, едва войдя в кабинет, накинулся на меня и хотел меня заколоть своей шпагой. Вы видите сами, что, имея столько слуг, я мог его уничтожить, но в таком случае с меня бы взыскали, изобразив его в лучшем свете, чем на самом деле он есть. Его родные, хотя они и счастливы были бы избавиться от него, тем не менее, возможно, затеяли бы тяжбу против меня. Я сдержал себя. Я запретил причинять ему зло, если не считать той сотни ударов, которые я нанес ему, защищаясь.
Эта версия происшедшего приходится герцогу не по вкусу, поскольку, благодаря ловкости пострадавшего, она порочит его. Герцог выдвигает свое, более близкое к истине объяснение:
– Мы должны были драться в четыре часа, имея свидетелем графа Тюрпена, но я был не в силах дождаться условленного часа.
Слыша столь известное имя, комиссар полиции не решается тут же принять надлежащие меры к тому, кто в чужом доме устроил настоящий разгром, и лишь в изумлении смотрит на герцога.
Хорошо понимая, в чем дело, Пьер Огюстен, должно быть, нарочно не называет слишком громкое имя своего остервенившегося обидчика и явным образом науськивает на – него комиссара:
– Как вам это нравится! Человек, учинивший чудовищный скандал в моем доме, сам признается в присутствии представителя власти в своем преступном намерении и компрометирует высокопоставленного сановника, называя его в качестве секунданта, чем уничтожает всякую возможность исполнения своего замысла. Подобное малодушие не может не показать, что он никогда всерьез не думал о поединке. Герцог в то же мгновение подтверждает истинность его слов, вновь бросаясь с кулаками на хозяина дома. Герцога оттаскивают на глазах чуть не мотни свидетелей. Комиссару полиции остается только одно: исполнить свой долг. Однако комиссар полиции все-таки медлит, не желая впутываться в такое туманное дело, в которое впутан граф де Тюрпен. Он отдает приказ хозяину дома оставаться в гостиной и намеревается побеседовать с нападающим господином в одной из комнат наедине, чтобы кое-что уточнить, причем по пути герцог угрожает перебить зеркала. К несчастью, именно в этот момент замешкавшийся слуга доставляет от оружейного мастера шпагу, тем самым изобличая хозяина дома, который пытался представителю власти несколько подзапудрить мозги. Пьер Огюстен изворачивается, предвосхищая известную сцену с прыжком из окна:
– Мсье, я не собирался с ним драться, я бы не сделал этого никогда, но, не принимая вызова этого человека, я предполагал не расставаться со шпагой, выходя из дома, и оскорби он меня, клянусь, я, если бы смог, избавил бы от него этот мир, который бесчестит он своей подлостью.
Вероятно, эта наглая изворотливость хозяина дома наконец раскрывает глаза комиссару полиции. Мсье Шеню начинается догадываться, что в лице буяна и драчуна перед ним особа такого полета, что ему не сносить головы, если он арестует её, и мямлит без всякой охоты:
– Вы приносите жалобу или нет?
Принести жалобу сыну часовщика на герцога в десятом колене приблизительно то же самое, что добровольно поселиться в Бастилии. Пьер Огюстен в мгновение ока изобретает одну из самых восхитительных отговорок, намеренно выражаясь несколько отвлеченно и по-прежнему не называя де Шона по имени:
– Я не отдал приказа арестовать его нынче утром в зале суда и не хочу, чтобы он был арестован у меня в доме. Между порядочными людьми принято поступать по-другому, и я буду действовать только так.
Комиссар полиции всё точнее угадывает, кто перед ним, и заглядывает в соседнюю комнату, едва ли соображая, что же ему предпринять. Каково же его изумление, когда он находит там герцога, который изо всех сил колотит себя по лицу и даже рвет волосы на голове, выражаясь при этом вовсе не фигурально. Комиссар полиции с почтением подступает к нему:
– Вы изволите наказывать себя слишком сурово.
Герцог без дальнейших околичностей откровенно выдает свои истинные намерения:
– Вы ничего не понимаете, мсье! Моими кулаками движет не раскаяние, а ярость, ярость, что я его не убил!
Кажется, решительно всё становится ясным. Комиссар полиции видит перед собой человека, который замышлял преступление и отчасти привел свой замысел в исполнение, учинив безобразие в доме мирного подданного его величества французского короля. Комиссару полиции следует арестовать злоумышленника, однако именно это вполне разумное и законное действие меньше всего улыбается комиссару королевской полиции, не желающему как минимум потерять свое достаточно сытное место. Мсье Шеню извиняется и с крайней почтительностью предлагает злоумышленнику возвратиться домой.
Выдохся ли к этому времени герцог де Шон, почтительность ли исполнительной власти сокрушила его, только герцог де Шон соглашается беспрекословно, призывает слугу, которому только что рассек острием шпаги лоб, повелевает причесать себя и почистить костюм, затем удаляется с гордо поднятой головой.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































