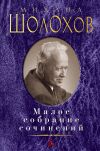Текст книги "Перед зеркалом. Двойной портрет. Наука расставаний"

Автор книги: Вениамин Каверин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 71 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
«Забыв долг, поправ честь, презрев стыд и усыпив совесть…»
Министр народного просвещения изволил благодарить профессоров университета за лихое чтение лекций и студентов за залихватское их посещение. Архиерей изволил благодарить настоятеля Н – й церкви за бравое и хватское исполнение обязанностей.
Потебня. Лекции по русской грамматике
1
Через час после отречения профессора Ложкина от жены, от квартиры, от системы кабинетного существования его видели в университетском общежитии. Один из студентов встретил его выбегающим из драгомановской комнаты. Был седьмой час утра, рассеянный свет стоял над лестницами и коридорами общежития, и в этом свете Ложкин мелькнул как отражение, в любую минуту готовое исчезнуть. Он держал в руках портфель и на ходу старался затиснуть в портфель серенький пиджачок.
И Драгоманов показался на пороге своего жилья, хромой и веселый. Он смеялся. Вслед Ложкину он кричал какие-то слова, показавшиеся очень странными студенту, проживавшему в соседстве с клозетом:
– Почему пиджак? А почему не штаны?
Молчаливый, как отражение, Ложкин мелькал уже где-то в пролете, где-то на последней площадке.
Последний человек, видевший его в пределах университета, был крошечный седой сторож у ворот.
Была гололедица, и профессор, подобно конькобежцу, скользил вдоль ректорского домика, испуганно запахивая шубу. Сторож встрепенулся, хотел помочь, но, покамест он выбирался из своей будки, отражение растаяло, профессор исчез.
2
В издательстве, которое вот уже целый год держало его книгу, не решаясь ни выпустить ее, ни рассыпать набор, он получил часть своего гонорара. Это были небольшие деньги.
Он уехал. Разумеется, не на родину, не на могилу к тетке, замерзшей в восемнадцатом году, но к старому гимназическому приятелю доктору Нейгаузу.
Тридцать лет назад после какой-то неудачи Нейгауз покинул Петербург и поселился в маленьком уездном городке, неподалеку от одной из третьестепенных станций по Октябрьской железной дороге.
Ложкин никогда не переписывался с ним, но знал, что где-то под Питером или между Питером и Москвой живет Август, доктор Август Нейгауз. Он вспоминался длинным, нескладным, корректным, слегка сумрачным гимназистом с белой каемочкой из-под воротника плотной форменной тужурки.
Однажды – это было тотчас же после сдачи магистерских экзаменов – Ложкин послал ему одну из своих первых книг, но ответа не получил. Книга была послана от гордости, не оттого, что еще дороги были старые друзья, надписана не так, как следовало ее надписать, – и Нейгауз ничего не ответил.
А потом прошло ровными шагами – шагами, много раз измерившими расстояние от библиотеки университета до библиотеки Академии наук, – то, что прошло потом. Прошла жизнь.
Именно эти слова сказал себе Ложкин, когда вместо корректного гимназиста с белой каемочкой воротничка увидел старого, слегка сгорбленного, костлявого врача с седыми, желтыми, моржовыми усами.
3
Нейгауз не узнал его при встрече – но, когда узнал, расцеловался с ним и не менее четверти часа тряс его за руки, хлопал по плечу.
Он захохотал грубым голосом, охрипшим от молчания, когда Ложкин объявил ему, что приехал отдохнуть, – захохотал так, что кухарка, навряд ли слышавшая когда-нибудь, как ее хозяин смеется, в испуге прибежала снизу, из кухни, с граблями в руках, с засученными рукавами.
Он усадил Ложкина в широкое кресло с кожаной подушечкой у изголовья – это кресло было единственной мягкой мебелью в его доме. Он завалил весь стол какими-то пышками, рыбками и маленькими прошлогодними печеньями. Он приказал своей стряпухе немедленно же ставить пироги и кричал ей что-то насчет кардамону, чтобы она не забыла, как в прошлый раз, положить кардамону, шафрану.
Растаяв, подобрев, Ложкин ходил по маленьким уездным комнатам и любовно смотрел на Нейгауза – как давно уже не смотрел ни на одного человека в мире.
За ужином они не спрашивали друг друга о личных делах. Одного за другим перебрали они своих учителей – сурового латиниста, прозванного Бородой, человека действительно бородатого, которому однажды устроен был грандиозный скандал с битьем стекол, с обстрелом педелей, и Саньку Княжнина, математика, которого все так и звали Санькой, невзирая на то что ему было никак не менее пятидесяти пяти лет. Ложкин даже изобразил его – поджав губы, заложив одну руку за спину, а другой язвительно щекоча подбородок.
– Нейгауз, что ты делаешь, мерзавец? – сказал он быстро. – Ты очень плохо кончишь, Нейгауз. Садись! Моментально на место!
Нейгауз хохотал, держась за бока, вытянув длинные сухощавые ноги.
Они вспомнили Викторина Павлова, преподавателя географии, прославившегося тем, что мама записала его в Союз русского народа. Он медленно входил в класс с зонтиком и указкой, был смешлив и, фыркая, закрывался рукой. Они перепутали: Союз русского народа тогда еще не существовал.
И Митьку Лаптева, историка, который, сидя на кафедре, вычесывал блох частым гребешком и потом старательно давил их на классном журнале.
Ложкин огорчился, услышав, что Санька тридцать пять лет тому назад был повешен собственной кухаркой, что Лаптев, доведенный преследованиями директора до душевной болезни, избил его зонтиком при попечителе округа и, будучи с позором изгнан из гимназии, умер в безумии.
А Губошлеп? А Линкс, старый дерптский студент, который, увлекаясь, на уроках немецкого языка показывал приемы фехтовального искусства и шрамы – следы старинной вражды между корпорациями Borussa и Victoria?
Что это была за бурса, боже мой! И как это было далеко, как непохоже, что все это было.
4
Ложкин проснулся под утро. В комнате было полутемно. Он лежал тихо, покрытый одеялом до самых глаз, стараясь уснуть и смутно сознавая, что уснуть уже не удастся. Потом он с усилием приподнял голову с подушки, пошарил рукой выключатель.
Никакого выключателя не было, не было и самой лампы, не было даже ночного столика, на котором она стояла. Не было пенсне, не было книги, которую он вчера не успел окончить. Или это было не вчера, но третьего дня, но…
Он слез с кровати и босыми ногами пошел по скрипучим половицам. По половицам – не по паркету: пол был другой. Он подошел к окну, отдернул занавеску. Снег лежал в низком палисаднике – хрупкий, почерневший, подтаивающий. Маленькие голые клены качались от ветра. Наступало утро. Утро было другое.
Потирая озябшие руки, он вернулся и сел на кровати, закутавшись в одеяло. Он удрал, удрал, вот в чем дело! Он бросил жену, отрекся от квартиры. Никто не знает, где он, – ни жена, ни прислуга, ни Публичная библиотека, ни Академия наук. А он у Нейгауза, в глухом городишке в трех верстах от одной из третьестепенных станций по Октябрьской железной дороге.
И чтобы снова заснуть, ему не нужно перебирать дня, оставленного в кабинетах библиотек, в аудиториях университета. Трамвай больше не гудит на поворотах, оконные переплеты не отражаются на потолке – а если и отражаются, то ничем не напоминают другую, третью, четвертую ночь, любую из тех, которыми располагает профессор Ложкин.
Он был свободен наконец. Он мог делать все, что хотел, он мог ложиться, когда вздумается, и, когда вздумается, вставать. И не нужно было разговаривать с людьми, не нужно извиняться перед ними за свое существование.
Не было книг, стены были простые, бревенчатые, свободные.
Не нужно было улыбаться.
5
Почти все свободное от занятий время Нейгауз проводил над верстаком, со стамеской, с рубанком в руках. Он любил делать вещи. За исключением мягкого кресла для важных гостей, все, что увидел Ложкин в его маленьком доме, было сделано его собственными руками.
Он был прекрасный врач, что, впрочем, нисколько не мешало ему относиться скептически к своей профессии.
– Единственный случай, когда причина идет за следствием, – сказал он Ложкину, – это когда врач идет за гробом своего пациента.
В городе его любили, крестьяне за десятки верст приезжали к нему лечиться. Прославился он после истории с печным горшком. История была такая.
Лет пятнадцать назад мужики во главе с волостным старшиной приехали за ним, чтобы отвезти его в одну из окрестных деревень.
Там под иконами лежал огромный волосатый старик, очевидец Отечественной войны, которого, по предписанию из обеих столиц, необходимо было сохранить для празднования столетней годовщины 1812 года.
Он кричал. Печной горшок стоял на его животе.
Вернувшись из городской больницы, где он был поражен лечебным свойством сухих банок, он взял печной горшок, намылил его, сжег в нем клок кудели и сам себе поставил на живот вместо банки.
Живот ушел в печной горшок без остатка.
Три растерянных фельдшера суетились вокруг старика. Они тщетно пытались под наблюдением пристава засунуть под горшок пальцы.
Старик ругал их по матери. Уверяя, что он был лично знаком с Бонапартом, что у других очевидцев в паспортах подчищены года, он требовал у фельдшеров немедленного облегчения.
Нейгауз с минуту смотрел на него – моржовые усы его чуть заметно дрожали от сдержанного смеха.
Оглядевшись, он приметил у печки кочергу. Все следили за ним с любопытством. Он взял в руки кочергу и, сказав только с легким латышским акцентом: «Ну, теперь держись, старый хрен», – ахнул по горшку кочергой. Горшок разлетелся в куски. Стодвадцатипятилетний волосатый живот вылез из-под него, обожженный, сильно потрепанный, но веселый.
С тех пор Нейгауза на сто верст кругом знал каждый ребенок. Он был прост. Ему прощали чудачества. Чудачеством считали, например, его привычку купаться в местной речке каждое утро, летом и зимой, в любую погоду.
На следующий же день после приезда Ложкина он и Ложкина потащил купаться – и тот с ужасом смотрел, как, сбросив с себя широкие штаны и легкий чесучовый пиджак, Нейгауз начал приседать на берегу, сгибая и разгибая узловатые руки. На острый ветер, который заставил Ложкина поднять воротник пальто и поплотнее завязать кашне вокруг шеи, он не обращал ни малейшего внимания.
– Очень полезно, voluntas sana in corpore sana! [10]10
Здоровая воля в здоровом теле! (лат.)
[Закрыть]– крикнул он Ложкину и, кончив гимнастические упражнения, полез в воду.
Лед еще только что прошел, вода была очень холодна – но он неторопливо окунулся несколько раз и, слегка сгорбившись, похлопывая себя по старому кряжистому телу, вылез на берег. Ложкин растерянно смотрел, как, плотно утвердившись на длинных сухих ногах, он стер с себя ладонями воду и принялся с силой растираться мохнатой простыней.
Он должен был поехать в больницу в этот день, но ради приезда старого приятеля не поехал, и они целый день бродили по городу. Нейгауз показывал город. Указав рукой на дом, он говорил кратко: «Вот дом», на аптеку – «Вот аптека», на почту – «Вот почта».
Показывать было нечего. Аптека была аптекой, дом – домом, почта – почтой. Жители не были похожи на дикарей.
Как все молчаливые люди, Нейгауз говорил мерно, не сливая слова, останавливаясь на неожиданных местах. Показав аптеку, больницу и почту, он рассказал Ложкину несколько случаев из своей практики.
Пришел к нему однажды милиционер с разинутым ртом. Он как бы пел – беспрестанно, но бесшумно. Отчаянно ворочая языком, он кое-как объяснил Нейгаузу, что раскрыл рот, чтобы хлебнуть щей в трактире, да так с разинутым ртом и остался. Трактирщик с подручным старались закрыть рот насильно, но не могли.
– Я стукнул его кулаком по челюсти, – кратко объяснил Нейгауз, – это был, конечно, простой вывих. Но в рот, покамест он дошел до меня, набилось очень много пыли и всякой дряни. Когда он закрыл рот, он чуть не задохнулся.
По дороге к дому Нейгауз припомнил, что, расставаясь по окончании гимназии, Ложкин, и он, и Крейтер, и Попов, и еще кто-то решили собираться каждое пятилетие. Крейтер был теперь профессором математики в Бостоне, Попов умер лет десять тому назад.
Зато здесь же, в городе, живет и служит в Губстатбюро не кто иной, как Женька Таубе, – «ты, должно быть, помнишь его, Степан, он был на два или три класса старше нас с тобой».
Тут же решено было позвать Женьку Таубе. Решено было в тот же вечер устроить «на лужайке детский крик» – так выразился Нейгауз.
6
«На лужайке детский крик» начался с того, что Нейгауз затеял варить глинтвейн и сам старательно толок корицу, сыпал в кастрюлю сушеную гвоздику, отмерял пивным стаканчиком сахарный песок.
– Ты увидишь, милый мой, что я не забыл еще, как это делается. Помнишь, как мы варили пунш в бабаевском доме?
Ложкин помнил. В бабаевском доме жили пансионеры. Нейгауз был пансионером и признанным тамадой на всех гимназических вечеринках.
Потом пришел Женька Таубе, дряхлый старик с тощими седыми баками, с подвижным носом. Один глаз у него был постоянно прищурен, что придавало его лицу скептическое выражение. Другой косил.
Ложкин был немного испуган его появлением. Но Женька даже не посмотрел в его сторону. Понюхав слегка воздух, он прямо отправился к тому месту, где возился с глинтвейном Нейгауз.
Он попробовал глинтвейн и объявил, что в нем маловато водки.
– Пошел ты к черту, – с сердцем сказал ему Нейгауз и, схватив за плечо, повел к Ложкину.
– Самый мнительный человек в мире, – сказал он очень серьезно, – хлеб, на который села муха, мажет йодом, прежде чем положить в рот. Из преданности к советской власти до сих пор не решается надеть галстук, так с запонкой и ходит.
Ложкин пугливо смотрел на старика. Галстука на нем действительно не было. Он был ужасен.
7
Нейгауз сидел, расставив ноги, расстегнув ворот рубахи, упрямо встряхивая седым хохлом, падавшим ему на лоб. Похожий на старого, кряжистого гусара, он пел, обняв руками бутылки:
Некому было подпевать. Collegiales, одни, разбросанные по всему миру, давно забыли и думать о том, что были когда-то его друзьями, другие и вовсе предпочли переселиться в комнаты тесные, тихие и сыроватые, далекие от всякого шума.
Только Ложкин по временам подпевал ему грустным голосом:
Pocula nulla!
Как весело было доказывать когда-то, что бессмертия не существует!
Но в конце концов разошелся и он. Глинтвейн был крепок. Женька Таубе соврал, что водки было маловато.
– А помнишь Марусю Навяжскую? – спрашивал он. – Какая девушка была, косы какие! Ты приударял за ней, Август.
Нейгауз пел, без всякой нужды размахивая руками. Он был пьян, моржовые усы его обвисли.
– А Лапина горка? А дом с чертями на Губернаторской? – спрашивал Ложкин. – А реалист Мими, которого ты чуть не утопил на выпивке после выпускных экзаменов? Я хотел тогда сказать тебе, чтобы ты его не топил, но очутился в канаве и сказал что-то совсем другое. Ты бы утопил его, если бы не городовые.
– И очень жалею, что не утопил! – стуча кулаком по столу, кричал Нейгауз. – Я очень жалею, что не утопил его. Он был белоподкладочник! Мими, собачья морда, зачем ты смотришь гордо? – внезапно вспомнил он и рассмеялся, обнял Ложкина, приподнял на воздух и снова, с нежностью, посадил на стул.
– Чего вспоминать, лучше пей, докажи, что ты еще не совсем заржавел над своей историей литературы!
И Ложкин пил. За всю свою жизнь он, кажется, не выпил столько, сколько в доме Нейгауза за один вечер. Уж и на Женьку Таубе он смотрел с любовью.
– Брось статистику, займись астрономией, Женя, – говорил он, держа статистика за рукав и сам себя слушая с удивлением, – переезжай в Ленинград, возьмись за планеты. Подсчитай их, этого еще никто не сделал. И не женись. Не слушай Августа, не женись. Еще Пушкин сказал, что жена – род теплой шапки с ушами.
Женька принюхивался к нему. Он молчал, один глаз косил, другой саркастически щурился. Он женился сорок лет назад, астрономия его не привлекала. Он был пьян по-другому.
Отняв свои руки от Ложкина, он заложил их в карманы и вдруг фертом прошелся по комнате, выбивая дробь маленькими кривыми ногами.
И тогда все перепуталось в охмелевшей голове профессора Ложкина. Пьяно мотал он головой, пьяно бродил по комнатам, натыкаясь на мебель.
– Профессор… Не ищите, друг мой, особенного значения в том, что…
В чем? В чем не должен искать он особенного значения?
Веселый усатый человек – почтальон или почтовый чиновник – вдруг появился в комнате, как во сне. Это он допил оставшийся глинтвейн, это он притащил из кухни нейгаузовскую кухарку и заставил ее танцевать с платочком вокруг Женьки Таубе, который все еще ходил фертом и все приседал, напрасно стараясь выкинуть из-под себя то правую, то левую ногу.
Это он потребовал от Ложкина профсоюзный билет, заявив, что не желает находиться в присутствии гражданина, не состоящего в профсоюзной организации.
И Нейгауз положил его под стол? И чиновник извинялся?
И Женька ли Таубе, сильно скосившись, полез кухарке за кофту, или это он, профессор Ложкин, полез кухарке за кофту и кухарка, обидевшись, показала шиш и ушла из комнаты, одернув платье?
Только одно запомнилось ему: как стоял среди комнаты кряжистый шестидесятилетний гимназист доктор Август Нейгауз и пел, вскидывая седой хохол, размахивая широкими, как тарелки, руками:
Edite, bibite,
Collegiales,
Post multa secula
Pocula nulla!
8
Бессонница смотрела из всех углов, из серого окна, задернутого рассветом. Он сидел неподвижный, серый. Он неслышно дышал, у него билось сердце. Он чувствовал отвращение к вещам, стоявшим вокруг него, к мебели, рассыпанной во время вчерашней пирушки, к остаткам пищи на столе, залитом вином.
Пикник! Это был пикник. Вот куда ушел его бунт, вот на что он променял свою жену, свои книги.
Стараясь не шуметь, он встал и, держась рукой за голову, принялся собирать свои вещи.
Преодолевая мучительную ломоту в пальцах, он написал прощальную записку Нейгаузу.
Он благодарил его за радушие, просил извинить за неожиданный отъезд, вызванный обстоятельствами непредвиденными.
На опустошенном столе он нашел кусок лимона и, очистив его ложечкой от мокрых крупинок чая, съел с жадностью.
В котором пункте его проекта стоял этот кусок лимона, и косоглазый Женька Таубе, и почтовый чиновник с кудрявыми лихими усами?
Со стесненным сердцем он уезжал от Нейгауза. Бунт не удавался.
9
Он думал о Драгоманове в поезде – быть может, поэтому, встретив его на Знаменской площади, не поверил глазам своим и прошел мимо.
И точно – легко было не узнать Драгоманова: так изменился он за эти несколько дней, отделявших нынешнюю встречу от последнего разговора в университетском общежитии.
Он стоял, прислонившись к решетке памятника, засунув руки в рукава своей драной шинели, глядя вокруг себя туманными глазами. Хлястик был оборван на шинели, она висела на его узких плечах больничным балахоном. У него лицо стало меньше. Истасканные красномордые проститутки шныряли вокруг него, мальчишки продавали ароматную бумагу.
И Ложкин вернулся и снова прошел мимо Драгоманова, схватившись было рукой за шляпу, но так и не поклонившись от растерянности. Тогда Драгоманов оборотился, все теми же туманными глазами посмотрел ему вслед и вдруг снял перед Ложкиным шапку.
– Степан Степанович, – сказал он почтительно. – Очень рад, что наконец встретился с вами. Я так и забыл вернуть вам ваше пенсне. Кроме того, я должен принести вам мои искреннейшие извинения. До сих пор понять не могу, как я мог позволить себе так неучтиво вести себя в разговоре с вами.
10
И вот началось путешествие – путешествие за потерянным пенсне, за утраченным временем, за концом разговора.
Драгоманов шел впереди – прихрамывая, подняв голову, не глядя по сторонам.
Он был похож на босяка, но шел как римлянин – со свободным достоинством человека, который считает излишним смотреть себе под ноги. И неторопливо. Но Ложкин все же бежал за ним, подняв воротник шубы, поправляя кашне, боясь простудиться.
Он был неспокоен. Он был как будто даже слегка огорчен встречей с Драгомановым. Драгомановская вежливость его пугала.
11
Проспект 25 Октября был пуст. Фонари только что погасли, и каждый дом казался тупой коробкой с тусклыми стеклами. Он был пуст и безлюден, серый арктический рассвет лежал над ним, как падающее небо. На панелях, возле потускневших окон магазинов и черных ворот, стояли закутанные в огромные шубы сторожа, продрогшие до костей, но еще сохраняющие торжественную неподвижность своего ночного одиночества.
Был ветер, крыши серели и таяли.
12
– Степан Степанович, вы любите Невский проспект? – спросил Драгоманов очень свободно и закинул ногу на ногу. Они уже сидели в трамвае. – Я его прямо терпеть не могу. Единственная часть города, которую если не люблю, так по меньшей мере уважаю, – это Васильевский остров. Я думаю, что если бы Петру удалось из него Венецию сделать, так это было бы самое забавное место на земном шаре. И, кроме того, там очень пивные хороши, на Васильевском. Я много ездил по Востоку, видел все эти портовые кабаки – они с лингвистической стороны действительно очень интересны. Я одно время портовым арго Средиземного моря очень увлекался. Но таких пивных, как на Васильевском острове, ни на Западе, ни на Востоке вы не встретите. Идешь себе где-нибудь по Двадцать седьмой ЛИНИИ, и вдруг в угловом доме, от которого один только угол и остался, стоит пивная. И все, что угодно, вы в ней можете получить! Колбаски эти, заперченные до того, что дух захватывает с непривычки. Горох к пиву. Воры сидят. И хозяин – тоже, несомненно, вор, но благообразный, почтенный, с окладистой бородой и с глазами ясными, молодыми. Очень хорошо.
Ложкин согласился с ним. На Васильевском острове он жил уже тридцать лет. С тех пор как защитил магистерскую диссертацию, ни в одной пивной не удосужился побывать. Но зато когда он был студентом…
Три пушечных выстрела бухнули один за другим с короткими промежутками. Начиналось наводнение.
Не кончив фразы, он обеспокоенно взглянул на Драгоманова.
– Три фута выше ординара, – равнодушно объяснил Драгоманов и встал: трамвай уже скатывался с Дворцового моста. – Итак, Степан Степанович, когда вы были студентом…
13
И комната драгомановская как-то изменилась с того дня, когда Ложкин, сопровождаемый странным вопросом о штанах, бежал из нее, беспомощно запахивая шубу.
Комната была уж не просто грязна, неприглядность ее уже нельзя было оправдать шутливой фразой о Робинзоне Крузо. Пол был усеян окурками и картофельной шелухой, ровный слой пыли лежал на столе, на книгах; черная, как земля, подушка валялась на неприбранной постели. И Драгоманов больше не извинялся за все это, может быть, даже и вовсе не замечал. В комнате чувствовалось падение.
Он помог Ложкину снять шубу, предложил ему стул и сам сел, скрестив и вытянув ноги. У него был усталый вид. Он молчал.
Ложкин любовно вертел в пальцах свое старенькое пенсне, дышал на него, крепко протирал платком стекла, смотрел на свет.
Потом надел и, слегка склонив голову набок, попробовал прочесть название одной из книг, лежавших на столе. Прочтя и удовлетворившись этим, он вопросительно взглянул на Драгоманова.
Драгоманов молчал. У него было уже не усталое, но скучное лицо.
Его уже не забавляло, казалось, что ординарный профессор краснел перед ним. Или не краснел. Лениво потянувшись к столу, он отыскал под грудой книг ножницы и принялся старательно вырезать из бумаги… Черт знает что он вырезал из бумаги!
Ложкин задумчиво посмотрел на него, и вдруг Вязлов, скореженный, страшный, с папиросой, зажатой в кулаке, вспомнился ему.
– Человек, о котором вы изволили упомянуть, в сущности говоря, по сложности своей человеческому уму почти не понятен.
И он его как будто преемником Шахматова называл?..
– Борис Павлович, а почему вы еще не академик? – спросил он и сам немного удивился вопросу. – Ведь у вас же очень много трудов. И солидных.
– Так ведь никто же не помирает. Вакансий нет, – равнодушно возразил Драгоманов.
Ложкин растерянно мигнул и почему-то снял пенсне. Ответ был несколько неожиданный.
– То есть как вакансий? Я говорю, членом-корреспондентом, – нерешительно сказал он. – Вы ведь все-таки молоды еще.
– А что я им корреспондировать буду? – внезапно огрызнулся Драгоманов. – Я даже, если хотите, уж и состою корреспондентом.
Ложкин тер пальцами переносицу.
– Как состоите? Не помню.
– А я корреспондентом «Сибирской живой старины», – грубо объяснил Драгоманов. – Псевдоним – «Голос с мест». Пишу, и деньги платят. А Академия наук своим корреспондентам, сколько мне известно, не платит. Впрочем, я согласен, – добавил он, успокаиваясь. – Но прежде я должен одну из моих работ закончить. Кстати, Степан Степанович, может быть, и для вас тема ее окажется небезынтересной. Работа называется «О рационализации речевого производства». Завтрашний день, если здоров буду, намерен прочитать ее в Научно-исследовательском институте.
Ложкин откинулся на спинку стула, высоко вверх подняв свой детский, раздвоенный подбородок. «Рационализация речевого производства»? Он недоумевал. Потом он испугался.
«Берегитесь его, – снова вспомнил он Вязлова, – говорят, что китайцы, среди которых он живет…»
И для чего ему нужно было приходить к Драгоманову? О чем ему говорить с этим человеком?..
Драгоманов положил на стол то, что он вырезал из бумаги. Положил, разгладил пальцами, посмотрел со стороны и не торопясь изорвал.
– Степан Степанович, а как с вашим проектом? – медленно спросил он.
И Ложкин весь сжался на своем стуле.
– С каким проектом?
– Насчет вашего пиджака, – равнодушно продолжал Драгоманов. – Вы, помнится, собирались пиджак на мосту подбросить? Или на набережной?
Ложкин покраснел. Он улыбался неотчетливо, смутно.
– Ну что вы, Борис Павлович, вздор, – пробормотал он.
– Почему же вздор? Очень любопытная идея, впрочем уже использованная в литературе. Пиджак, и в пиджаке записку. Как же, прекрасно помню. И вы знаете ли, Степан Степанович, я вот очень много думал над вашим проектом и решил, что редакцию посмертной записки нужно слегка изменить. Не «прошу в моей смерти никого не винить», но «прошу в моей смерти никого не винить. Штаны оставляю на себе в припадке отчаянья, зная, что это противоречит принципу разумной экономии». Об этом-то я и кричал вам вслед. Вы недослушали.
Ложкин нервно вертел шеей, оттягивал воротничок рубашки. На щеках у него пятнами проступил румянец.
– Я потому хотел предложить вам это, – безжалостно продолжал Драгоманов, – что один пиджак решительно никого в вашей смерти уверить не мог бы. Вот у меня, еще в харьковской гимназии, один приятель был. Так он, вознамерившись устроить точно такую же мистификацию, не только куртку с себя снял, но и штаны. Правда, он потом на собственных поминках напился и по всему городу бегал, доказывая, что давно уже мертв, погиб в волнах, но, доведи он свое предприятие до конца…
Ложкин вскочил.
– Борис Павлович, вам угодно надо мной шутить? – спросил он очень высоким голосом и распрямился. – Вы думаете, что некоторые обстоятельства, заставившие меня – о чем я жалеть не перестану – обратиться к вам, дают вам право на шутовство? Вы надо мною смеете издеваться? Я полагал найти в вас человека, заслуживающего если не уважения, так простой приязни. Вы должны извинить меня. Я ошибся.
Он был бледен от бешенства. Резко оборотившись, он подбежал к вешалке, сорвал шубу и распахнул дверь.
14
В 1821 году, когда Рунич и Магницкий обвиняли Санкт-Петербургский университет в том, что он, следуя посторонним целям, «забыл долг, попрал честь, презрел стыд и усыпил совесть»; когда профессор русской словесности Галич в ответ на обвинения написал, что, сознавая невозможность отвергнуть или опровергнуть предложенные ему вопросные пункты, он просит не помянуть грехов юности и неведения, – но на восторги и объятия Рунича ответил угрюмым молчанием, а в ответ на предложение переиздать его книгу с признанием вместо предисловия молча удалился; когда университет опустел и окончилось наконец длившееся три дня заседание конференции, назначенной для разбора дела, один из профессоров, обвиненных в государственном преступлении, выйдя на улицу, впал в забытье, пошел прямо, как солдат, и шел всю ночь, не разбирая дороги.
Он пересек весь город – и к утру матросы задержали его в Коломне, «откуда он был приведен домой, впав в чрезвычайное расслабление телесное и душевное».
Именно в таком профессорском забытьи, имевшем более чем столетнюю давность, бродил по Васильевскому острову Ложкин. Покинув Драгоманова, отказавшись наотрез даже переждать непогоду – было очень ветрено, шел дождь пополам со снегом, – он вышел из университетского общежития и, стараясь по неизвестной причине держаться поближе к парапету набережной, пошел прямо вперед, крепко сжимая в руках портфель, который становился все тяжелее.
Он с недоумением взглянул на сфинксов, преградивших ему дорогу.
От парапета он отошел с недоверием.
Памятник адмиралу Крузенштерну он не узнал.
Как по университетскому коридору, шел он по городу, с достоинством наклонив голову, свободной рукой взявшись за борт своей шубы. Как аудитория, шумела Нева. Бледная луна еще стояла над Академией художеств.
Он шел, не замечая ветра, который дул ему в спину, леденил голову, делал легкими ноги.
Хорош же он был после пьяной ночи, после глупого разговора с Драгомановым, едва ли что не окончившегося нервическим припадком! Хорош же он был в своей длинной, по земле волочащейся шубе, со своим достоинством, со своим портфелем, из которого торчали не книги, нет, – но рукав пиджака, серенького, в полоску.
Что сказала бы, встретившись с ним у Масляного буяна, его жена – Академия наук и его судьба – Мальвина Эдуардовна? Какие доказательства привел бы он в доказательство того, что без всякого тайного умысла шел он по городу, как по университету, в оправдание того, что, как аудитория, шумела Нева?
И только неподалеку от взморья усталость наконец его сломила. Он присел на деревянную тумбу, косо торчавшую из-под грязного снега, и осмотрелся. Он был не в Коломне, но в состоянии чрезвычайного расслабления – телесного и душевного. Не в Коломне – но в странном месте, о существовании которого он – всю жизнь свою проживший на Васильевском острове – никогда не подозревал.
Почернелые от времени избы, запущенные, обломанные, до самых окон ушедшие в землю, стояли среди восьмиэтажных домов, которые далеко не часто можно было увидеть и в центре города. Узкие железные трубы, обгрызенные и закоптелые, торчали на сползающих от дряхлости крышах. Стояли хлевы. Стоял на столбах навес. Ленивая свинья важно бродила между грязных льдин, выброшенных во время половодья на берег. Баба в повойнике, в тонком платье, которое ветер обдувал вокруг ее голых жилистых ног, доила козу у крылечка. Пел петух.
Это была деревня, скучная деревня, не более как в тридцать дворов, стоявшая прямо напротив города, который был в этот час больше городом, чем когда бы то ни было. Но дома, вброшенные в толпы лачуг, были одинокие, пустые. Они казались еще более одинокими потому, что через крыши лачуг смотрели на взморье – на равнину снега и льда, просеченную темными пространствами воды. Здесь был конец города, конец путешествия. Пушка была почти не слышна здесь – или звуки выстрелов относило в сторону ветром. Но она бухала не напрасно. Даже с того места, где стояла кривая тумбочка, где сломила наконец профессора Ложкина усталость, видно было, что вода стояла высоко.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?