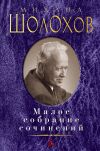Текст книги "Перед зеркалом. Двойной портрет. Наука расставаний"

Автор книги: Вениамин Каверин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 71 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
И другой взгляд представился мне: Остроградский. Я вспомнил его смуглое лицо с внезапно пробегающей свободной улыбкой, его большие, сильные руки с поблескивающей кожей пятидесятилетнего человека. Работа! Он хочет работать! К черту обиды, не было унижений! Страшно только одно – невозможность работать!
36
В Лазаревке произошло событие. К старухе Цыплятниковой, работающей в пекарне, явился гражданин из Москвы и загнал ее в подвал, угрожая револьвером. В ее домике жена этого гражданина каждую неделю встречалась с любовником. Старухе удалось выбраться из подвала, и она прибежала к Марусиному мужу, шоферу Пете. Петя пошел к Цыплятниковой, и с ним, очевидно просто из любопытства, отправился Остроградский.
Все это Черкашина узнала от бабки Гриппы, которая жалела только об одном: что неверная жена не приехала поездом 17:40.
– Теперь ему ждать и ждать, а ему разве дадут ждать? У окна сидит, а кто мимо идет – стреляет.
Черкашина только что вернулась из Москвы, усталая, сердясь на себя за то, что, выстояв длинную очередь, взяла только одно кило отличной антоновки, которая зимой встречается редко. Больше она не думала об антоновке.
– Как стреляет?
– С винтовки. Собаку убил. На него собаку спустили, а он убил.
– Зачем же Анатолий Осипович пошел?
– Кто ж его знает? Должно, в мокрую простыню завязывать.
– Не понимаю.
– Этаких в мокрую простыню завязывают и в Белы Столбы везут. Он притверженный.
Надо было идти за Оленькой, а Черкашина все говорила с бабкой. Не добившись толку, она побежала к Марусе. Девочки играли во дворе. Маруся, спокойная, добродушная, тоже сказала, что Анатолий Осипович с Петей пошли обезоруживать ревнивого мужа.
– Вообще, надо бы в милицию позвонить, – сказала она.
– А где она живет, эта Цыплятникова?
– Далеко. Аккурат у пруда.
Ольга Прохоровна вернулась, накрыла на стол и села у окна. Лепестков должен был приехать к обеду. Вспомнив об этом, она поставила еще одну тарелку и подрезала хлеба. Потом снова села.
Оленька что-то рассказывала звонко и, рассердившись, что мама не слушает, полезла к ней на колени и с силой повернула к себе ее голову:
– Мама! Да мама же!
– Сейчас, Оленька, – сказала она и, накинув пальто, вышла за калитку.
Никого не было на дороге с припорошенной колеей. Редкие овальные куски снега лежали на елях. Было тихо; дятел где-то постучал и замолк. Лес темнел успокоительно, мягко. Но она волновалась.
Лепестков приехал в восьмом часу, и Ольга Прохоровна накинулась на него, как будто он был виноват в том, что Остроградский пошел выручать какую-то старуху.
– Сам же говорил, что ему надо держаться подальше от милиции!
– Ничего не понимаю.
Ольга Прохоровна объяснила. Она была очень бледна.
– Надо пойти за ним.
Лепестков искоса посмотрел на нее и опустил глаза.
– Да?
Каждые два-три дня он привозил для Анатолия Осиповича библиотечные книги и сейчас привез много книг в большом заплечном мешке. Твердо ступая, он прошел в его комнату, вынул книги и положил их на стол.
– Куда идти?
– Никуда, – ответила она с раздражением. – Вы устали. Садитесь, будем обедать.
Лепестков молча надел полушубок, треух и вышел.
Через полчаса Ольга Прохоровна увидела их из окна.
Остроградский, похожий на старого рабочего в своих ватных брюках и распахнутой телогрейке, что-то живо рассказывал. Лепестков слушал его, опустив голову, не улыбаясь. За ними ковыляла бабка с раздувшимся от любопытства носом.
Ольга Прохоровна засмеялась. Ей и потом все время хотелось смеяться, хотя в том, что рассказал Остроградский, не было ничего смешного. Ревнивый гражданин оказался худеньким пареньком лет двадцати четырех, едва ли не студентом. Он действительно хотел застрелить жену. О предстоящем свидании ему сообщила соседка Цыплятниковой, тоже работница пекарни, но не из моральных побуждений, а потому, что завидовала Цыплятниковой, получавшей за комнату пятьдесят рублей в месяц.
– И действительно был вооружен?
– Да. Старым наганом. И откуда только у него взялся?
– Стрелял?
– Да нет! Как только увидел милиционера, бросил наган в снег и заплакал.
– А вы не подумали, что милиционер может заинтересоваться вовсе не этим студентом, а вами?
– Подумал. Я сперва было не пошел. Но потом мне очень захотелось.
Все засмеялись, и даже сумрачный Лепестков улыбнулся.
– Теперь его в Белы Столбы свезут, – сказала бабка. – Али на Канатчикову. Меня сноха задавить хотела, а у самой сына на Канатчикову свезли. Была я там, видела. Ничего, тихий.
– Бабушка, садитесь с нами, пообедайте, – ласково сказала Ольга Прохоровна.
Остроградский поднял брови. До сих пор между бабкой и Ольгой Прохоровной были несколько натянутые отношения.
Бабка села и за весь обед никому не дала сказать ни слова.
– Мне без полтора года восемь десятков, – сказала она, захмелев после первой же рюмки. – А почему? Потому что я в Бога верю. Наш Бог – староверский. Наша вера от вашей – крепкая.
37
Остроградский заметил – этого нельзя было не заметить, – что Ольга Прохоровна была необычно оживленна в этот вечер, а Лепестков, наоборот, молчалив и подавлен. Она часто смеялась, завитки белокурых волос упали на лоб, в тонком лице замелькало что-то отчаянное, беспечное.
– Пусть бы все делали, что им нравится, – сказала она, когда разговор вернулся к тайным свиданьям и ревнивому мужу. – Эх, вот бы жизнь была!
Она, смеясь, посмотрела на Лепесткова, и он покраснел, опустив глаза.
«Поссорились», – решил Остроградский. Последнее время Лепестков стал далеко не так часто приезжать в Лазаревку, как прежде. Он очень похудел, в яйцеподобном лице обнаружились проломы, а во всей плотной, крупной, неуклюже-стремительной фигуре – костлявость. По-видимому, между молодыми людьми были сложные отношения.
После обеда Остроградский пригласил было Лепесткова к себе, но Ольга Прохоровна вдруг не пустила их, заявив, что сегодня она не позволит им говорить о делах.
– Почему бы нам, например, не послушать музыку? – весело спросила она. – Миша, я знаю, не танцует. А вы, Анатолий Осипович?
Он сразу же подхватил этот тон:
– Танцую. По меньшей мере танцевал лет пятнадцать тому назад. Нет, меньше! На Красной площади, в День Победы. Миша, покрутите приемник, а я пойду и надену новый костюм.
– Не нужно, я шучу. Наверно, и сама разучилась. Лучше почитаем стихи.
– А вы любите стихи?
– Очень.
И Ольга Прохоровна рассказала, как школьницей часами бродила по лесу, читая стихи.
– А еще я любила лежать на полу с раскинутыми руками.
– Зачем?
– Не знаю. У горящей печки. Лежала и думала. Вы помните что-нибудь наизусть?
Остроградский сказал, что в лагере на вечере самодеятельности читал отрывок из «Войны и мира».
– Наизусть?
– Да. Я любимые страницы помню наизусть.
– Ну, прочтите.
– Нет, это длинно. Еще я читал Блока. Хотите?
– Да.
Он прочел «Под насыпью во рву некошеном».
– Как хорошо! – сказала Ольга Прохоровна и вздохнула.
Лепестков собрался уезжать, и она – это было впервые – стала с жаром уговаривать его остаться:
– Ну пожалуйста, Миша! Мы еще посидим, поболтаем! Я вам застелю в столовой. Анатолий Осипович, скажите ему.
– Конечно, оставайтесь, Миша. Ведь вы еще хотели рассказать мне о вашей книге.
Лепестков стоял неподвижно.
– Нет, мне нужно, – наконец глухо сказал он.
– Я вас не пущу!
Он надел полушубок и остановился, зачем-то крепко сжимая треух побелевшими пальцами. Потом стремительно, плечом вперед, двинулся к двери. В овале оттаявшего окна Остроградский увидел его мелькнувшую, пересекающую двор фигуру.
– И бог с ним! – сказала Ольга Прохоровна. У нее был расстроенный вид.
– Это звучит как «черт с ним», – сказал Остроградский.
Она расхохоталась:
– Может быть! Он прекрасный человек. Но утомительный, правда?
– Ничуть.
– Ну ладно, ничуть. Хотите еще выпить?
– Ого, – сказал Остроградский тихо. – Ого!
– Ну что «ого»? Хотите или нет?
– Конечно, да.
Она налила себе и ему задрожавшей рукой.
– Вот и все. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
Остроградский ушел к себе, но не стал ложиться, а сел у незадернутого окна, за которым были темный двор и грубые почерневшие лапы елей с белыми пятнами снега и дрожащие просветы месяца, который старался спрятаться от Остроградского за быстро бегущими облаками. «Лепестков ревнует ко мне, чудак, а она сердится, – вот откуда это волнение и стихи, и «пусть бы все делали, что им нравится», и глаза. И я бы на его месте ревновал, да еще как! Сидел бы, как тот парнишка, с наганом у окна и ждал поезда семнадцать сорок».
И он стал думать о том, как ему хотелось понравиться Ольге Прохоровне, сперва бессознательно, а потом нарочно: он давно не рассказывал о себе с таким наслаждением, давно не говорил так много о музыке, о литературе. Да, да, ему хотелось, чтобы она заслушивалась его, притихнув, сжавшись в старом ободранном кресле! Он старался внутренне приблизиться к ней и чувствовал, что это удается ему, может быть, потому, что и она понимала, что ему нужен не только ее интерес и волнение, но она сама, с заколотым и все-таки всегда рассыпающимся узлом волос, с беспечным смехом и нежными, разъезжающимися глазами. Разве она не сказала однажды, что никогда и ни с кем ей не было так интересно, как с ним.
Он посмотрел на Иринин натюрморт, который менялся, как человек, при вечернем свете – кувшин становился старше, темнее, цветы скромно сияли на сливающемся, исчезающем фоне. «Откуда я привез ей этот кувшин? Ах да! Из Сванетии. Она не поехала тогда со мной, ждала Машу».
– Ну что ты, конечно же нет! – сказал он этим цветам, кувшину, этим грубым доскам стола, которые тоже выглядели совсем иначе, чем днем.
38
С вокзала Лепестков поехал не домой, а в магазин «Грузия», где у знакомого продавца купил «Саперави». Для Баевой, которая предпочитала сладкие вина, он взял «Мускат». Она жила рядом с «Грузией»; он позвонил ей, она пришла, розовая, утонувшая в шубе, похожая на игрушечного мохнатого зверя. Они купили балыку, ветчины, икры и много других вкусных закусок, на которые у него не хватило денег, так что Людмиле Васильевне пришлось на минутку вернуться домой.
– Свадьба? – спросила она, когда, погрузившись в машину, заваленную пакетами, они поехали на Ордынку.
– Проводы, – ответил он серьезно.
– Далеко?
– В Антарктику.
Людмила Васильевна засмеялась. Но было что-то очень невеселое в том, как Лепестков, приехав с ней на Ордынку, принялся прибирать в комнате и накрывать на стол. Помедлив немного, она снова спросила:
– Что-нибудь случилось?
– Ровно ничего.
– Ой ли!
– Право же!
– И нельзя помочь?
Он слабо усмехнулся.
С Проваторовым невозможно было договориться по телефону, потому что после работы он возился со своими рыбами и оторвать его от этих рыб, важно дремлющих в огромных освещенных аквариумах, можно было только силой. Так Лепестков и сделал: приехал, надел на Проваторова шубу и посадил в такси.
Кошкин, которому он позвонил от Проваторова, согласился сразу.
– У меня гостит племянница, – сказал он. – Я привезу ее с собой, хорошо?
Юра Челпанов пришел, когда садились за стол.
Так начался этот вечер – весело, но неопределенно. Никто не понимал, по какому поводу Лепестков позвал гостей и что должно было произойти в его боковушке.
Разговаривали ни о чем, смеялись, шутили. Но в шутках чувствовался оттенок ожидания. Ничего не ждала только племянница Кошкина, которая, кажется, не сомневалась в том, что московские ученые собрались в честь ее приезда. Племянница оказалась артисткой минского драматического театра. Она быстро вертела лохматой рыжей головкой, много пила и кокетничала со всеми, даже с Людмилой Васильевной, которая покатывалась со смеху, едва та открывала рот. В большом, красивом, седом Проваторове артистка заподозрила драматический талант и сказала, что с такой внешностью он должен работать не в каком-то ВНИРО, а играть Ричарда Львиное Сердце. Эта артистка чуть не заставила Лепесткова отказаться от затеи, ради которой он позвал друзей. Но он не отказался.
Его книга была еще далеко не закончена, и он не решился бы устроить чтение так скоро, если бы не другое, важное решение, которое могло на неопределенно долгий срок изменить его жизнь.
– Вот только боюсь, не соскучилась бы… – Он забыл, как зовут племянницу Кошкина.
– Ерунда. Леночка как раз нуждается в некоторых научных представлениях, чтобы окончательно покорить любителей джаза, – возразил подвыпивший Иван Александрович. – В крайнем случае она немного поспит. Дать тебе подушку, Леночка?
Артистка с гордостью отказалась, и Лепестков, отодвинув в сторону грязную посуду, положил рукопись на стол.
Он не сразу начал читать. Волнуясь, он долго устраивал над столом чертежную лампу, вытягивая и сгибая ее длинную шею. Его румяные длинно-круглые щеки слегка побледнели, вьющиеся некрасивые волосы как-то отдельно повисли надо лбом, напоминая парик…
– Алексей Сергеевич, ведь можно не сомневаться в том, что вы принимаете участие в организации антарктической экспедиции? – спросил он, когда все разошлись, кроме Проваторова, не любившего рано уходить из гостей.
– Можно. И даже должно.
– Так вот. – Раскрасневшийся, в пиджаке, наброшенном на крепкие плечи, Лепестков, стоя на коленях, мешал угли в прогорающей печке. – Не нужен ли вам биолог, кандидат наук, тридцати семи лет, рост – сто семьдесят два, вес – семьдесят четыре?
Проваторов задумчиво посмотрел на него:
– К пингвинам захотелось?
– Да. Засиделся.
– Кажется, научный состав уже укомплектован.
– А вспомогательный?
– Не поедете же вы хлебопеком?
– Нет. Но я, например, знаю штурманское дело.
– Мало у нас своих экспедиций?
– Много. Но мне охота туда.
– Ладно, поговорю, – нехотя сказал Проваторов. – А что случилось?
– Ровно ничего.
– Правда?
– Разумеется, правда.
39
Очевидно, редколлегия явилась в полном составе, потому что кабинет Беклемишева был почти полон. Я мало знал его. Он был высокий, лет сорока, грузноватый, рыжеволосый, добродушный. Отпечаток достоинства был заметен в том, как он говорил и держался. Такой же – грузноватой, добродушно-снисходительной – была и его газета.
Горшков рассказал историю статьи.
– При всем моем глубоком уважении к автору следует признать, что разработка давала более широкие возможности. Эффектность материала не всегда приводит к эффективным результатам.
Это было отвратительно – слушать его, думая о том, что, если опровержение будет напечатано, редакция волей-неволей вынуждена будет свалить свою мнимую вину на меня. Невозможно было ненавидеть Кузина, с его добрым кривым носом, с его кадыком и язвой, но я был, кажется, готов убить его за то, что он втянул меня в эту историю.
Почему вопрос об опровержении обсуждался с такой остротой? Потому что так же, как в недавнем прошлом произошли перемены, позволившие напечатать статью, так теперь сопротивление Снегирева, энергия его покровителей и подручных произвели другой, частный, сдвиг, заставивший редакцию серьезно подумать об опровержении. Были люди, которые не хотели печатать его, прекрасно понимая, что газета попадает в неловкое положение. Но были другие, опасавшиеся за собственное положение в редакции, маленькие снегиревы, построившие свое благополучие на осторожности, оправдывавшей любую – с их точки зрения – необходимую ложь. Эти хотели, более того – требовали, думая, что в борьбу вступили люди, с которыми бесполезно бороться. Были, наконец, и третьи, скользящие, взвешивающие, пытающиеся угадать позицию главного редактора – и тайком уже набрасывающие текст опровержения в редакционных блокнотах.
Далеко не все произносилось вслух. Многое передавалось шепотом, на ухо, записочкой, из рук в руки. Кто-то сказал, что следовало «фокусировать» вопрос на других, менее «локальных» случаях, а потом «суммировать» его – и не в одной статье, а в серии больших, научно обоснованных выступлений.
Кузин иронически крякнул. Я впервые видел его в официальной обстановке. Он был совсем другой, нахохлившийся, сдержанно-мрачный. Трудно греметь заржавленными латами в присутствии начальства. Убивать его мне больше не хотелось.
– Прошу слова, – срывающимся голосом сказал он.
Беклемишев кивнул.
– В разработке, которую подготовил отдел, материал суммирован, – начал Кузин. – Фальсификация опытных данных установлена в терапии, в микробиологии, в почвоведении, в животноводстве. Я считаю необходимым послать разработку в ЦК. Теперь о статье. Все поведение Снегирева уже после опубликования статьи говорит о том, что мы были обязаны ее напечатать. Я приведу только один пример. Почти во всех отрицательных письмах по адресу автора повторяется следующее обвинение: «Знал ли он, что Черкашин был душевно болен, и если знал, то почему умолчал об этом?» Или: «Как не постеснялся он воспользоваться словами и поступком душевнобольного человека?» Но вот передо мной две справки. Одну из них Снегирев представил в партбюро в 1948 году, когда его обвиняли в том, что Черкашин из-за него покончил самоубийством. Копию с копии этой справки он прислал в нашу редакцию. Мы с Гершановичюсом поехали в диспансер и установили, что это подложная справка. Прошу сличить с нею ту, которую нам выдали по данным истории болезни.
Он положил на стол бумаги, и они пошли гулять по рукам.
– После самоубийства прошло пять лет. Врач, выдавший подложную справку, умер. Ему повезло, – сказал с отчаянием Кузин. – Потому что, если бы мы были последовательны, мы могли бы привлечь его к ответственности за тяжелое служебное преступление. В истории болезни шизофрения предположена, но не подтверждена. Диагноз – вегетативный невроз у конституционного невропата. Большинство из присутствующих – по меньшей мере я – конституционные невропаты, и у всех, без исключения, вегетативный невроз. Между тем цитирую: «Мы исключили бы его из партии, если бы он не представил справку о том, что Черкашин был душевнобольным…» Из письма бывшего члена партбюро Чернова. Цитирую: «Он доказал нам, что Черкашин выбросился из окна в припадке безумия». Из стенограммы беседы с бывшим секретарем факультетской комиссии Еремеевым.
Было ясно, почему Кузин говорил с отчаяньем. Но это было никого не удивлявшее отчаянье, которое все присутствовавшие как бы условились не замечать. Точно он совсем не говорил – так была выслушана его безнадежная, прозвучавшая из другого времени речь. Главный редактор смотрел на него снисходительно, но неподвижно.
Я попросил слова – и удивился, услышав свой взволнованный голос. Мне казалось, что я совершенно спокоен. Я сказал, что преувеличенная осторожность еще бродит среди нас, хотя она основана, в сущности, на инерции, медленно сходящей на нет. Пора очнуться от этого состояния неуверенности, шаткости, унизительного недоверия друг к другу. Пора наконец оценить всю дикость, всю неестественность этого чувства, еще недавно вторгавшегося в самые незначительные подробности жизни. Может показаться, что я нахожусь в трудном положении – под статьей стоит моя подпись. Но это мнимое впечатление: для меня было важно написать эту статью и полезно увидеть то, что произошло и происходит сейчас – перед моими глазами.
Меня выслушали молча. Бледный, на глазах заболевающий Кузин подошел в перерыве и крепко пожал мою руку.
Когда заседание возобновилось, Горшков прочел набросок опровержения – вероятно, один из многих, потому что он с трудом разбирался в перечеркнутых строках. Редакция признавалась, что была не права, называя доктора наук Снегирева невеждой. Вопрос о фальсификации науки требует более осторожного подхода и более тщательного изучения. Моя фамилия не упоминалась.
Я повез Кузина к себе, и мы напились. Он поклялся, что больше никогда не попросит у меня статью на подобную тему для его газеты или, если его прогонят, на любую другую тему для другой газеты.
– Мы смотрим глазами дня, как на часы – который час? – сказал он. – А надо смотреть глазами года. Нет, пятилетия. Вы способны?
– Сегодня едва ли.
– Нет, вы способны. Глазами десятилетия, – сказал с вдохновением Кузин. – И тогда сразу станет ясно, кто прав. Вы согласны?
Я ответил, что согласен, и тогда он, как дважды два, доказал, что опровержение напечатано не будет.
40
В этот день Остроградский рано уехал в Москву. У Ольги Прохоровны был маленький грипп, и ей выписали бюллетень на два дня – очень кстати, давно пора было заняться стиркой. Пока вода грелась на плите, они с Оленькой, оставшейся дома, чтобы помочь маме, разбирали белье. Пес залаял. Кто-то глухо топал на крыльце, потом сказал просительно: «Веничка бы!» Она выглянула и увидела милиционера. Рядом с ним понуро стояла бабка.
Ничего особенного не было в том, что единственный в Лазаревке милиционер Гриша заглянул на кошкинскую дачу. Но у Черкашиной почему-то беспокойно екнуло сердце.
– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
Гриша снял шапку:
– Хозяин дома?
– Хозяин здесь зимой не живет.
– А кто живет?
– Я.
Гриша подумал. У него было румяное, добродушное лицо с висячими, как у младенца, щеками.
– Прописаны?
Ольга Прохоровна сказала, что она прописана в Москве. Сюда ее пригласил на время академик Кошкин.
– Может быть, показать вам паспорт? – спросила она, волнуясь.
Гриша посмотрел паспорт.
– А кто еще здесь живет?
– Больше никто. Собственно, в чем дело?
– Там будет видно, в чем дело. Покажите квартиру.
Они прошли в ее комнату. Оленька, отобрав свое белье, энергично завязывала его в простынку.
– Дочка?
– Да.
– А это чья комната?.. – спросил он, пройдя через столовую и заглянув к Остроградскому. – Тоже ваша?
На полочке лежали бритвенные принадлежности, а в консервной банке на столе – окурки. Ольга Прохоровна засмеялась – кажется, естественно – и покраснела.
– Ну что ж, – сказала она кокетливо, – приезжает ко мне иногда один человек. Мне ведь еще не сто лет, правда?
Гриша смотрел на нее, подозрительно щурясь. Он посуровел:
– Да, вам не сто лет. Значит, иногда приезжает? – Он сделал ударение на «иногда».
– Да.
– Понятно.
Он ушел с этим неопределенным, угрожающим словом, а она осталась стоять в кухне, схватившись рукой за спинку стула.
Оленька спросила что-то насчет соды и засмеялась.
– Ну, мама, я спрашиваю, хватит ли соды, а ты говоришь – на кухне, в столе.
– Мы сегодня не будем стирать, доченька. Одевайся, я отведу тебя к Марусе. Мне надо в Москву.
Волнуясь, что она не застанет Лепесткова дома, она поехала к нему прямо с вокзала. Но он был дома. В майке, открывавшей сильную волосатую грудь, он что-то писал, согнувшись над столом.
– Миша, за Анатолием Осиповичем приходил милиционер, – сказала она, не здороваясь. – Надо найти его и предупредить, чтоб не возвращался.
Лепестков усадил ее и стал расспрашивать:
– Обыска не было?
– Нет.
– Кто-то накапал.
– Да. Я думаю – бабка.
Он пожал плечами:
– Зачем?
– Да просто так. Почему бы и нет? Я пойду.
– Куда.
– Не знаю. Надо позвонить Кошкину.
Лепестков посмотрел на нее исподлобья. У нее горело лицо. Меховая шапочка была надета криво. Прядь волос завилась где-то не на месте, под ухом.
– Поговорим спокойно. Не думаю, что его собираются арестовать. Это делается иначе. Кто-то донес, что он живет без прописки. Вероятнее всего – Снегирев. Могут оштрафовать. Могут, впрочем, и выслать. У вас есть дела в городе?
– Я хотела кое-что купить.
– Вы зайдете домой?
– Да.
– Вот и хорошо. Я буду у вас, – он посмотрел на часы, – ровно в два. Думаю, что Анатолий Осипович в Институте информации. Словом, я его разыщу.
Они расстались. В два часа Лепестков приехал на Кадашевскую и сказал, что в Институте информации Остроградский был утром, а в Издательство иностранной литературы не заезжал. Кошкин на заседании Академии наук и будет дома не раньше вечера. Домашняя работница говорит, что Остроградский был у него вчера.
– Это я знаю, он рассказывал.
Ольга Прохоровна только что вернулась и сидела в пальто, усталая, с авоськами на коленях.
– Вам надо поесть, – помолчав, сказал Лепестков.
– Может быть, он у племянницы?
– Вряд ли. Там муж очень пугливый. По-моему, Анатолий Осипович у них не бывает. Вам надо поесть.
– Я не хочу.
Она съела яблоко.
– А где живет его племянница?
Они поехали к Долгушиным и никого не застали дома. В Ленинской библиотеке они провели добрый час – там по кошкинскому абонементу Остроградский получал книги на дом. Любезная девушка на абонементе сказала, что сегодня для Кошкина никто книг не брал.
В восьмом часу, измученные, молчаливые, они простились на Савеловском вокзале.
41
Накапал, очевидно, Снегирев. Или просто, когда Анатолий Осипович пошел смотреть на ревнивого мужа, устроившего засаду у Цыплятниковой, на него обратили внимание как на незнакомого нездешнего человека. Это было очень неосторожно. Он вообще неосторожен – от усталости, от неустройства. Как он сказал об этой женщине, бывшей ссыльной, тоже прописавшейся под Загорском? «В подвешенном состоянии»? Ему надоело постоянно находиться в «подвешенном состоянии», ежеминутно оглядываться, всегда чувствовать себя виноватым. За что? Она думала об этом в поезде, а потом, тащась к даче со всеми авоськами, разбитая, взволнованная, усталая, боясь, что сейчас она придет домой и бабка скажет ей: «Взяли».
Она распахнула калитку. В доме был свет. Остроградский встретил ее на кухне.
– Все знаю, – сказал он. – Приходили из милиции, и надо смываться. Почему вы сегодня так поздно? Я беспокоился. Ходил за Олей, но Маруся сказала, что она ее накормит и сама приведет.
Ольга Прохоровна, не раздеваясь, села на табурет и заплакала.
– Что с вами?
– Ничего. Просто устала. Мы с Мишей искали вас целый день. Боже мой, мы объездили всю Москву. Где вы были?
Он смущенно засмеялся.
– У меня есть такой приятель, Валька Лапотников, я рассказывал вам? Он затащил меня к себе. Мы пообедали, надо сказать, недурно, а потом он показывал мне свою коллекцию старого русского фарфора. И каялся. Милая, родная моя, – сказал он и поцеловал ее руку. – Так вы из-за меня так измучились? Вы на себя не похожи.
Маруся привела Оленьку, и девочка, заметив, что мать устала, сразу же стала хлопотать – достала продукты, накрыла на стол, поставила чайник.
– Черт, как не хочется уезжать, – сказал Остроградский. У него вдруг стало измученное, старое лицо. – Ладно. Ничего не поделаешь.
Он ушел и вернулся.
– Главное, реабилитация-то продвигается. Я сегодня был в прокуратуре. Все знают, что я не виноват. Но странно: оправдать человека так же сложно, как обвинить. Или даже еще сложнее. Много работы. Говорят – скоро. Останусь сегодня, – помолчав, сказал он. – Уже поздно, ночь. Не придут.
Весь вечер он уходил к себе и возвращался. Решено было, что он уедет в шесть утра, налегке – куда? Там будет видно. Может быть, в Загорск? Или Серпухов? Если бы удалось снять комнату, я бы остался в Серпухове. А потом Лепестков привезет чемодан.
Они поужинали.
– Бог даст, не последний раз, – сказал он, наливая водку. Ольга Прохоровна отказалась, но он попросил: – Ну, маленькую. Эхма! А Валька, между прочим, хорошо живет.
Они чокнулись, выпили. Остроградский ушел к себе, но не стал ложиться, а сел у окна, как в тот вечер, когда Ольга Прохоровна развеселилась, а Лепестков приревновал ее и рано уехал. Когда это было? Совсем недавно, две недели назад. Но это было уже в другой жизни, в той, которая опять уходила, таяла, менялась, как менялась, таяла ночь раннего марта за окном. Месяц не прятался от него, как тогда. Голубовато-черный, неподвижный свет стоял между елей.
Он встал и прошел через столовую, быстро, бесшумно, с сильно бьющимся сердцем. Дверь в комнату Ольги Прохоровны была закрыта неплотно, он открыл ее и остановился на пороге, не решаясь войти.
Она не спала. Короткая соломенная штора не доходила до подоконника, полоски лунного света, как транспарант, лежали на полу. Она сидела на постели, опустив голову, придерживая рукой одеяло на груди, прислушиваясь.
– Это вы, Анатолий Осипович?
– Да.
– Идите сюда.
Он еще медлил. Она сказала:
– Идите же.
42
Остроградский слышал, как прошла последняя электричка, и удивился, когда до него донеслось далекое гуденье и нарастающий в тишине шум первого утреннего поезда, который должен был прийти через четыре часа. Может быть, он уснул?
– Я спал? – спросил он.
– Несколько минут.
– Я помню, на чем вы остановились. Вы поехали с Борисом на Тузлинскую косу.
– Да. Я поняла, что вы уснули, и замолчала.
– А вы не поспали?
– Нет, мне не хочется. Спите, мой дорогой.
– Вот еще! Это стыдно.
– Ничуть.
– Ну, рассказывайте.
– Может быть, не надо?
– Нет, надо. Вы тогда были счастливы?
– Да. Это была счастливая неделя. Он был совсем другой на родине. Веселый. Все время таскал меня на руках и пел.
– А потом?
– Потом я поняла, что уйду или стану ему изменять.
– И стала?
– Нет. Может быть, не успела?
Ночь давно переломилась, а в комнате все не становилось светлее. Остроградский закрыл глаза. У него было странное, счастливое чувство, что он вернулся в свое прошлое, украденное у него и теперь ворвавшееся с разбега. Непрожитое, с полосками луны на полу, с детской кроваткой, в которой спал, неслышно дыша, ребенок.
– А ничего, что я старый?
– Вы какой-то не старый. А если и старый?
– Пятьдесят три.
– Ну так что ж! Ведь не семьдесят три.
И она снова стала рассказывать о той памятной неделе на Тузлинской косе. Ей долго не было потом так хорошо – да что говорить, до сегодняшней ночи!
– Вы там были потом?
– Да. В запрошлом году. Ездила показывать Оленьку деду. Там хорошо. И дед хороший.
– Рыбак?
– Да. Он слепой. Там все рыбаки. И все говорят о «прорве».
– Что такое прорва?
– Прежде рыба почему-то задерживалась у Тузлинской косы, а потом стала проходить свободно. Борис все надеялся, что когда-нибудь удастся закрыть эту прорву.
Электричка пришла и ушла.
– Я знаю, куда я поеду. К Лапотникову.
– А он кто?
– Он – фигура.
– Фигура где?
– В рыбной промышленности. Он меня приглашал.
– На два-три дня. А потом?
– Не знаю. Если бы даже удалось снять комнату в Серпухове, там нельзя работать.
– Ко мне, на Кадашевскую.
– А соседи?
Электричка снова пришла и ушла.
– Пора, – сказала Ольга Прохоровна.
– Так рано не придут.
– Вам надо поспать.
– У Вальки высплюсь. Поговорим еще. Как все произошло между нами? Я ничего не знаю.
– Вот так и произошло. Мне вдруг подумалось – слава богу, нужна. Ведь нужна?
– Еще бы.
Она замолчала, ровное дыхание послышалось. Уснула? Остроградский тихо положил руку на ее грудь. Она во сне поцеловала руку.
– Пора.
– Ухожу.
Но он не ушел. Полоски на полу побледнели, свет месяца и снега стал медленно таять, маленькие, легкие тени закружились, опускаясь за молочным окном. Должно быть, пошел снег. Остроградский с закрытыми глазами увидел этот мягкий, мартовский снег, матовый, несверкающий, в скромных отблесках еще не вставшего солнца. Он радостно вздохнул.
– Полежим спокойно.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?