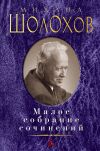Текст книги "Перед зеркалом. Двойной портрет. Наука расставаний"

Автор книги: Вениамин Каверин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 71 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Пожалуй, теперь нельзя было сказать, что он похож на нереабилитированного, не прописанного в Москве, не соблюдающего паспортный режим гражданина.
53
В парикмахерской было душно. Заняв очередь, он стал перебирать лежавшие на столе старые газеты и сразу наткнулся в «Научной жизни» на маленькую заметку «От редакции», спрятавшуюся (или спрятанную?) среди читательских писем. Это было «опровержение» – то самое, которого так боялся Миша Лепестков. Напрасно боялся! Опровержение – если можно было так назвать напечатанную нонпарелью заметку – было написано невнятно, приблизительно, глухо: Снегирев не невежда, редакция сожалеет, проблема заслуживает глубокого изучения. Пожалуй, в заметке было даже что-то неуловимо-обидное для Снегирева. Она означала… Он как бы взглянул на весь газетный лист одним отвлеченным взглядом. Она ничего не означала.
…Он чуть не пропустил свою очередь, зачитавшись статьей в «Известиях», которая не могла появиться месяц или два тому назад и за которую до марта 1953 года дали бы лет десять.
– Под полечку? – спросил парикмахер.
– Да. «Нет, не десятку, а все двадцать пять, – подумал Остроградский. – И не где-нибудь, а в каком-нибудь Джезказгане».
– Бриться будем?
– Пожалуйста.
Из парикмахерской он снова позвонил и снова не добрался до понравившегося ему прокурора. Секретарша, которая ничего не знала о деле, разговаривала грубо.
Два часа. Он знал, что, даже если он пойдет очень медленно и будет останавливаться у каждой витрины, ноги все равно принесут его раньше – не в три, а, скажем, без четверти три. Ноги всегда приносили его раньше, потому что даже ждать Ольгу, зная, что она непременно придет, было наслажденьем.
Они виделись теперь почти каждый день, но по-прежнему на улицах, потому что на Кадашевской поселился какой-то тип, уволенный из охраны, и Ольга его боялась.
…И на этот раз ноги принесли его к ней на двадцать минут раньше, хотя из парикмахерской он пошел не направо к Библиотеке иностранной литературы, а налево. Ольга ахнула и засмеялась, увидев его. Остроградский с гордостью поджал губы. Она была в синем халате, быстрая, торопившаяся кончить к его приходу работу, прелестная со своей разваливающейся прической. В комнату ежеминутно заходила ее помощница Лена, и Остроградский чинно уселся в углу, положив пакет со старым костюмом на колени.
– Можно оставить его у тебя? – спросил он, когда помощница вышла.
– Конечно.
И она спрятала пакет в шкаф, «а то Лена, пожалуй, отправит его куда-нибудь на Цейлон, вместе с нашими бандеролями».
– Мне нравится смотреть, как ты работаешь, – сказал Остроградский. – Почему ты смеешься? – спросил он, когда они вышли на улицу.
– Нет, ничего. Лена говорит, что ты интересный.
– Ну конечно, еще бы! Как костюм?
Он знал, что ей хотелось сказать, что напрасно он не купил темный костюм, – и действительно эти слова уже были у нее на языке. Но он знал и то, что она промолчит, не желая огорчать его, – и она промолчала. Но что ей не нужна дорогая театральная сумочка, он не догадался, может быть, потому, что не знал, что она театральная. Ольга поблагодарила его и сказала, что мечтала как раз о такой. К этой сумочке была нужна еще одна, взамен той, давно истрепанной, с которой она ходила и в магазин, и на работу.
– Куда мы сегодня?
У них были «хозяйственные» прогулки, когда Ольга покупала, а Остроградский, который терпеть не мог магазинов, помогал ей, занимая очередь и стараясь не перепутать чеки, – и это тоже нравилось ему, потому что Ольга его все время жалела. А были и настоящие, далекие, когда они уходили куда-нибудь в Останкино или на Ленинские горы, вдоль Москвы-реки, по которым гоняли свои остроносые лодки серьезные, сосредоточенные юноши и девушки, ритмично сгибая загорелые спины. Остроградский наслаждался. Он любил Москву.
– Сегодня мы поедем… Не скажу, куда и зачем.
– Почему?
– Нельзя. Ты голодный?
– Не очень.
– Можешь потерпеть?
– Да.
54
Ольга отказалась от комнаты в старом деревянном доме на Четвертой Мещанской и теперь хотела, чтобы Остроградский одобрил ее решение взять комнату, которую ей предложили в новом строящемся районе.
Они проехали в метро, потом автобусом, потом – с конечной остановки – пошли пешком по развороченной, неасфальтированной дороге. Рычащие грузовики ныряли по ухабам. Везде были краны, медленно, кругло поворачивающиеся, с опасной легкостью проносящие по воздуху какие-то грузы, похожие на гигантские карточные колоды.
К дому, почти законченному, но еще в лесах, было трудно подойти, но они все-таки подошли и, нырнув под доски, загородившие крест-накрест только что отделанную лестницу, поднялись на седьмой этаж.
– Задохнулся?
– Нет.
– Лифт еще не работает, – сказала Ольга Прохоровна виноватым голосом.
Комната была небольшая, двенадцатиметровая. В ту минуту, когда они вошли, солнце, уже обойдя ее, как будто нарочно задержалось, косо скользя сквозь грязные окна.
– Квадратная. Это удобно.
– Да.
– Не тесновато ли? – смеясь, спросил Остроградский.
– Ну вот еще!
– Для четверых-то.
– Ну так что ж!
Он посмотрел на Ольгу. Она была очень серьезна.
– Где что будет стоять, а?
Она кивнула. Тогда он тоже прикинул – куда поставить письменный стол?
Они стали смотреть из окна. Ольга рассказывала, и Остроградский подивился тому, что она уже знает, какие магазины откроются в этом доме, а какие – в соседнем.
– Здесь будет почта. А вон там, где роют большой котлован, – кинотеатр.
Она уже жила в этой комнате, на этой улице, которой еще не было и в помине.
– С тобой не пропадешь.
В ответ она быстро поцеловала его.
Он сказал что-то, не помня себя, со взволнованными глазами, выражение которых она уже знала.
– Не надо, мой дорогой. Когда ты теперь будешь у Лапотникова?
Давно обо всем догадавшийся Лапотников немедленно уходил, едва они появлялись.
– Не знаю. Завтра. Приедешь?
– Конечно.
55
Ольга Прохоровна уговорила Остроградского не провожать ее домой (они весело и вкусно пообедали в «Балчуге»). Она знала, что он захочет остаться, а она не в силах будет отказать, потому что ей самой хотелось, чтобы он остался. Это было невозможно: она боялась бывшего охранника, отравлявшего жизнь всей квартиры.
Однако эта причина показалась им незначительной, когда, выйдя из ресторана, Ольга и Остроградский остановились у парапета набережной и посмотрели друг другу в глаза.
– Дай я тебя хоть поцелую.
Они пошли в сквер напротив Дома правительства, пахнувший липой, с громадной клумбой только что высаженных тюльпанов, прохладный в сумерках раннего лета, и разговаривали, пока не вспыхнули фонари, прогнавшие эти сумерки и вместе с ними – иллюзию, что в сквере нет никого, кроме них.
56
Каждый раз она начинала ждать новой встречи с той минуты, когда они расставались, и сейчас, простившись с Остроградским, она сразу же стала ждать завтрашней встречи. Но это не помешало ей думать об Оленьке, за которой она собиралась поехать в середине июня, о комнате, о сумочке – она долго рассматривала ее в продовольственном магазине. Она думала – и ждала. Смотрела рекламу кино – и ждала. Все было полно этим ожиданием, странной легкостью, с которой она думала обо всем сразу, и чувством благодарности – кому? За что? Она не знала.
Кто-то обогнал ее на мосту, шагая стремительно, плечом вперед, – плотный человек с некрасивыми, слегка вьющимися волосами. Лепестков? Она не была уверена.
– Миша? – спросила она негромко.
Он обернулся:
– Ольга, я вас не узнал.
Они помолчали. По неуловимому обмену впечатлениями, естественному для людей, так долго знавших друг друга, Ольга Прохоровна поняла, что он сразу заметил происшедшую в ней перемену. Но он заметил ее не умом, а любовью, которая вся превратилась в зрение, в те два или три искоса брошенных на нее взгляда, когда они повернули на набережную с Каменного моста.
Нельзя было говорить с ним об этой перемене, но она все-таки заговорила, услышав себя с ужасом и тупым удивлением. Это было, как если бы она с размаху кинулась в пропасть ничего не значащих слов, которые должны были выразить и сожаление, и признательность, и то, что он ее лучший, самый близкий друг, и то, что он не должен, не смеет чувствовать себя несчастным без нее и что она только теперь поняла, как она перед ним виновата.
– Миша, – начала она с трудом. – Мы давно не виделись, а между тем…
Он перебил на полуслове:
– Не помню, я говорил вам, что собрался в Антарктику?
– Нет.
– Значит, в самом деле давно. Проваторов предложил, и я немедленно согласился. Я все прицеливался – не удастся ли проверить одну затею в лаборатории. Не удалось, а в Антарктике все сразу же станет ясно, потому что там у меня под боком и химики, и физики. Первоклассный комплексный институт, о котором я мечтаю всю жизнь.
Он рассказал об экспедиции, потом о Юре Челпанове, который оказался, к его удивлению, мастером спорта по плаванью, несмотря на свою невзрачную внешность.
– А чем кончилось единоборство с жилотделом? – спросил он и обрадовался, узнав, что Ольга Прохоровна получила комнату, да еще в новом доме.
– А с мебелью вам поможет Шурка Глаголь, я вас с ним познакомлю.
Он объяснил, что Шурка – это его новый приятель, длинный рыжий парень с дикими идеями, но первоклассный интерьерщик, умеющий из пары досок сделать письменный стол, который по желанию можно превратить в кровать или книжную полку.
Разговор был легкий, почти веселый. Разговор был о том, что ничего, в сущности, не случилось.
«Он все понял давным-давно, еще в тот вечер, когда я волновалась за Анатолия Осиповича и просила его остаться в Лазаревке на ночь», – думала Ольга Прохоровна, вернувшись домой и стоя подле постели, с которой надо было что-то сделать. «Боже мой, ведь я едва не назвала то, о чем он так долго, много лет не хотел говорить!»
Постель надо было застелить, а потом лечь. Нет, сперва раздеться, а потом лечь. Нет, раздеться, умыться и лечь.
Она вспомнила лицо Лепесткова с туманным взглядом, в котором всегда что-то мерцало, когда он разговаривал с ней. Теперь он говорил и смеялся, но глаза были задернуты, и все лицо задернуто, похудевшее, с упрямым подбородком.
Она разделась, умылась, легла.
«Это был разговор о кирпичной стеночке за окном, которую он разобрал, чтобы в комнате стало светлее, о соседях, которые думали, что мы муж и жена. О том, что ни я, ни Миша не отрицали этого, потому что так мне было легче жить: опора. Но каково же было ему притворяться? После смерти Бориса он только и делал, что разбирал эти стеночки. Продал даже книги, чтобы переехать поближе ко мне, пристроив боковушку к флигелю на Ордынке. А молчал он, потому что боялся, что я могу согласиться стать его женой из признательности или потому, что я одинока».
Ей захотелось сразу же рассказать об этой встрече Анатолию Осиповичу, но это было невозможно, сколько бы она ни металась по комнате в ночной рубашке, раскрасневшаяся, с рассыпавшимися волосами.
Она вспомнила, как Анатолий Осипович в первый вечер знакомства на кошкинской даче едва не отправил ее с Лепестковым в одну комнату, приняв их за супругов, и его удивление, почти недоверчивое, когда она сказала ему однажды, что между ними никогда не было других, кроме дружеских, отношений. Ей тогда и понравился и не понравился тот мужской оттенок сожаления, с которым Анатолий Осипович сказал что-то очень ласково о Лепесткове. Да что говорить, они просто забыли о нем! Они? Нет, она! Анатолий Осипович знает, что Миша едет в Антарктику, не может не знать, он сам участвует в подготовке. А ей он ничего не сказал, потому что она как бы попросила его не упоминать о Мише, и он сердился на ее равнодушие, когда упоминать все-таки приходилось. «Я, одна я виновата, – продолжала она думать. – Анатолий Осипович беспокоился, что Миша так надолго пропал, и спрашивал меня, и сердился, когда я отвечала небрежно, с досадой. Он сердился, потому что видел и понимал мою неблагодарность, мою беспощадность к другу, который сделал для меня так много! А для него? Кто же, если не Миша остался верен ему и заботился – поселил у себя, а потом устроил в Лазаревке, привозил книги и – я уверена – помогал деньгами! Что же Анатолий Осипович должен думать обо мне! И почему он ни разу не сказал, что я поступаю несправедливо, подло?»
– Боже мой, он разлюбит меня, – сказала она вслух, прижимая к горячим щекам холодные руки.
57
Это может показаться странным, но, прочитав «опровержение», напечатанное в газете «Научная жизнь», я вспомнил Ленинград осенью 1937 года. Город был охвачен каким-то воспаленным чувством неизбежности, ожидания. Одни боялись, делая вид, что они не боятся; другие – ссылаясь на то, что боятся решительно все; третьи – притворяясь, что они храбрее других; четвертые – доказывая, что бояться полезно и даже необходимо. Я зашел к старому другу, глубокому ученому, занимавшемуся историей русской жизни прошлого века. Он был озлобленно-спокоен.
– Смотри, – сказал он, подведя меня к окну, из которого открывался обыкновенный вид на стену соседнего дома. – Видишь?
Тесный, старопетербургский двор был пуст. К залатанной крыше сарая прилепился высокий деревянный домик с лесенкой и длинным шестом. Голубятня? Но и домик был безжизненно пуст.
– Ничего не вижу.
– Присмотрись.
И я увидел – не двор, а воздух двора, рассеянную, незримо-мелкую пепельную пыль, неподвижно стоявшую в каменном узком колодце.
– Что это?
Он усмехнулся.
– Память жгут, – сказал он. – Давно – и каждую ночь.
И он заговорил о гибели писем, фотографий, документов, в которых с невообразимым своеобразием отпечаталась частная жизнь, об осколках времени – драгоценных, потому что из них складывается история народа.
– Я схожу с ума, – сказал он, – когда думаю, что каждую ночь тысячи людей бросают в огонь свои дневники.
Казалось, давно забылись, померкли в памяти эти дни, пустой двор, запах гари, улетевшие голуби, легкий пепел в лучах осеннего солнца! Но, как на черно-белом экране, вспыхнула передо мной эта сцена, когда я подумал, что вслед за «опровержением» все бумаги по снегиревскому делу будут брошены в мусорный ящик.
Я позвонил Кузину:
– Вам они больше не нужны. А мне – кто знает, – может быть, пригодятся?
И он привез мне несколько толстых папок, битком набитых запросами, доносами, справками, докладными записками, – сотни страниц, полных злобы, скрытой ненависти, откровенного страха. Не надо было обладать дарованием историка, чтобы понять, с какой отчетливостью отразилась в этих бумагах шаткая, ломающаяся атмосфера начала пятидесятых годов. Мало сказать, что это было интересное чтение: я не мог оторваться от энергично, неустанно развертывающегося зрелища борьбы между кривдой и правдой. Здесь можно было найти и поражающую замкнутость душевной жизни, и ненависть к самой природе новизны – и скромную смелость людей, давно нашедших свою дорогу. За каждым письмом угадывался человек, как бы вписанный в картину десятилетия. Это был целый мир, внезапно раскрывшийся, меняющийся, необъясненный, требующий участия и разгадки.
58
Иван Александрович был недоволен тем, что Остроградский опоздал, потому что придавал его встрече с Гладышевым особенное значение. Анатолий Осипович понял это сразу – и не только потому, что у Кошкина был непривычный торжественно-взволнованный вид. Квартира на Тверском бульваре, обжитая, уютная и все же напоминавшая чем-то запущенную дачу в Лазаревке, была тщательно прибрана, полы натерты, стол накрыт не в маленькой столовой, а в ярко освещенном просторном кабинете. Старушка-домработница, в лихо сбившемся набок чепце, летала из комнаты в комнату, как будто ей было восемнадцать лет, и Кошкин, распоряжаясь, шипел на нее тоже как-то по-молодому. Разговор начался хорошо, но сразу же ушел куда-то в сторону, и вернуть его в задуманную колею оказалось не так-то просто.
Анатолий Осипович и сам не знал, почему он не рассчитывал, что эта встреча может существенно изменить его положение. Но сам Гладышев интересовал его – и глубоко. Он был деятелем, причастным к тому, что происходило на магистралях политической жизни, и это, по-видимому, не мешало ему с размахом действовать в науке. Сейчас этот человек, распоряжавшийся десятками институтов и сотнями лабораторий, с интересом слушал Юру Челпанова, которому, кажется, было почти безразлично, какое место занимает Гладышев в научной и государственной иерархии. Юра на этот раз был не в рыжем толстом свитере, а в новом черном костюме, сидевшем на нем не особенно ловко. Рассказывал он о туристском походе на байдарках вдоль какой-то порожистой реки Приполярного Урала – и Гладышев слушал его с интересом. Это и было в нем самое приятное – живой, почти детский интерес, с которым, весело щурясь, он слушал Юру. Вообще же он не очень понравился Анатолию Осиповичу – по меньшей мере в первые минуты знакомства. В нем было заметно несовпадение между тем, что он говорил, и тем, что думал, характерное для людей, не раз испытавших на других свою решительность и влияние. Он был поджарый, седой. «И, видать, не робкого десятка», – подумал Остроградский, глядя на его бледное и сильное лицо с глубоко сидящими глазами.
Вечер проходил прекрасно, тем более что и Анатолию Осиповичу было о чем рассказать – еще в тридцатых годах он был со знаменитым Абалаковым на Памире. Но Кошкин все волновался – очевидно, считал, что давно пора перейти от байдарочных походов, от мошки, замучившей Юру и его товарищей, от насмешившей всех ночевки в лесу рядом с медведем к делу, а дело было связано с организацией строившегося по поручению правительства научного центра.
Наконец сели за стол, и тут, как на грех, Юра заговорил о своей общей с Остроградским работе. Работа шла, но кое-что не получалось, и Анатолий Осипович стал доказывать, что Юра должен сделать то же самое, но не тогда и не так.
Гладышев попросил рассказать о сущности спора, и пришлось вернуться к первоначальной мысли – той, которую Остроградский привез из лагеря в Москву. Очевидно, она поразила Гладышева, потому что он стал слушать Остроградского уже не с прежним «туристским» интересом, а с каким-то совсем другим, заставившим слабо порозоветь его бледные щеки.
59
Ольга Прохоровна проснулась со странным чувством, что кто-то стоит за дверью и терпеливо ждет, когда она откроет глаза. Она прислушалась, испуганная, с медленно забившимся сердцем. В комнате было темно, чуть виднелась косая, наклоненная ниша окна. Да, кто-то негромко, но настойчиво погромыхивал ручкой.
– Кто там?
– Это я, открой, пожалуйста, – чуть слышно попросил Остроградский.
– Боже мой!
Она вскочила, накинула халатик. Он быстро вошел.
– Что случилось?
– Да просто засиделся у Кошкина и не мог вернуться к тете Лизе так поздно. А у него остаться тоже не мог. Ты дрожишь?
– Я испугалась.
– Милая моя. Ну, ложись скорее.
Она легла, и он крепко укутал ее, как ребенка.
– Тебя никто не заметил?
– Не знаю. Едва ли. Все спят. Люди и гады. Три часа ночи.
– Господи, как хорошо, что ты пришел! Ну, рассказывай.
– О чем?
– Я вижу, что тебе хочется о чем-то мне рассказать.
– Это правда.
Они говорили шепотом.
– У тебя холодные руки.
– Ночь прохладная. Я шел быстро и все-таки замерз.
Ей снова захотелось сказать, что надо было купить другой костюм, поплотнее, и она опять не сказала.
– Так что же случилось?
Он был теперь совсем другой, чем вечером, когда они расстались у сквера. Он был в том состоянии сосредоточенности, раздвоенности, когда, как бы участвуя во всем происходившем вокруг, он на деле участвовал только в непрестанной работе обдумывания, не прекращающейся ни на минуту. Она часто видела его таким в Лазаревке и всегда испытывала и нежное, как к ребенку, и немного испуганное, и благоговейное чувство.
– Хочешь чаю?
– Ну что ты! Ты уже легла.
– Подумаешь!
Она зажгла керогаз и поставила чайник.
– Я смешаю индийский с грузинским, как мы делали в Лазаревке. Это вкусно.
– Спасибо.
Он тихонько посвистывал, раскачиваясь на носках и заложив руки в карманы. Ольга Прохоровна поцеловала его.
– От тебя пахнет вином.
– Это оттого, что мы пили. Там был Гладышев.
– А кто такой Гладышев?
Он стал рассказывать, останавливаясь, вспоминая, поглядывая на нее хитрыми, счастливыми, отсутствующими глазами.
– Его тоже сажали, но ненадолго. Ивану Александровичу хотелось, чтобы я рассказал ему о моей затее. Я рассказал. Говорил три часа. Даже охрип. Я охрип?
– Нет. А Юра был?
– В том-то и дело, – виноватым голосом сказал Остроградский.
Юра пришел с новыми неожиданными возражениями, и они разговаривали до двух часов ночи, а Кошкин и руководитель будущего научного центра сидели тихо, как мышки, и слушали.
– А потом он вдруг предложил мне институт.
– Кто?
– Гладышев. Но это, конечно, вздор, хотя полномочия у него, кажется, обширные. Или даже обширнейшие.
– Он знает, что ты еще не реабилитирован?
– Именно это я у него и спросил.
– И что же?
– Засмеялся и ответил вот как я сейчас: «Вздор».
– Значит, мы переедем в Днищево?
– Милая моя, – нежно сказал Остроградский. – Это вилами по морю писано. Мы с тобой теперь стреляные воробьи, душенька ты моя. Но, вообще говоря, почему бы и нет? Ты понимаешь, наука – это вроде поэзии. Пресволочнейшая штуковина. Она все равно будет развиваться, независимо от того, существуют Снегиревы или нет. Хорошо им живется или плохо. Неприятно, что от меня пахнет вином, да?
– Напротив, приятно.
– Вино было хорошее. Между прочим, Кошкин прекрасно разбирается в винах.
Смешанный индийско-грузинский чай был выпит, и веселый, согревшийся, хотя и не переставший думать о чем-то своем, Остроградский рассказал, как бабка Гриппа на днях явилась к Ивану Александровичу с повесткой из милиции.
– Его оштрафовали на сто пятьдесят рублей.
– За что?
– За нарушение паспортного режима, – смеясь, сказал Остроградский. – Чтобы не держал на своей даче непрописанных граждан.
Он снял ботинки, повесил пиджак на спинку стула и уснул сразу, едва Ольга Прохоровна принялась за посуду. Она поставила лампу на пол, чтобы свет не бил ему в глаза. Еще не развиднелось, но темнота была уже предутренняя, не ночная. Ольга Прохоровна прибрала в комнате, умылась и села подле Остроградского, который спал, похрапывая, с успокоившимся, темным, добрым лицом. Она думала о том, что скоро поедет за Оленькой и привезет ее в новую комнату, о том, что сегодня Анатолий Осипович впервые заговорил с ней о своей семье, а это значит, что они стали ближе. Она думала о том, что было все-таки неосторожно прийти к ней на Кадашевскую, и жалела, что придется разбудить Анатолия Осиповича, когда она пойдет на работу. Еще она думала о том, что у них ничего нет и ничего не устроено и что это странно и страшно, что человек, которому только что предложили руководить научным институтом, должен бродить по Москве, прячась у друзей и знакомых. Но все устроится, все устроится! Скоро она уедет из этой комнаты, и кончится эта полутьма, одиночество. Жизнь станет другой, без мнимой беспечности, без страха. Этому почти невозможно поверить! Без страха! Легкая и трудная. Она приложила ладонь к горячим губам. Она чувствовала себя школьницей в зимнем лесу, лыжный след, поблескивая, исчезал в розовом тумане, нежно разгоравшемся среди белых стволов.
В животе толкнулось глухо и сладко, и такое же тупое и сладкое чувство, от которого ей стало смешно, разлилось по телу. Ей захотелось вытянуться, она устроилась на Оленькиной кровати, положив ноги на стул. Когда это было, что она кормила Оленьку лежа, они засыпали и просыпались, и она, смеясь, трогала губки девочки набухшим соском?
Что-то пронеслось, прошумело, она не знала где – в комнате или на Кадашевской. Дождь? Это был щедрый июньский дождь, ветер швырял его из стороны в сторону, и он, шатаясь, без дела бродил по городу, раскатывался с шумом, дыша предутренней свежестью, мешая встречам в темных скверах. «И утверди обручение их в вере и единомыслии, в истине и любви».
Дождь был сильный, набегавший порывами. «Как бы теперь, когда Миша разобрал стеночки, – подумала Ольга Прохоровна, – вода не хлынула с панели в окно?» Но она сейчас же забыла об этом, потому что снова что-то произошло, что-то неожиданное и тревожное, присоединившееся к постоянному сильному шуму дождя. Тонкий жалобный звук присоединился к нему – и она вскочила с упавшим сердцем, потому что ей показалось, что этот звук возник где-то в комнате, в том углу, где Анатолий Осипович лежал на ее кровати.
– Что с тобой?
Он не ответил. Потом сказал что-то медленно и невнятно, и когда Ольга Прохоровна, чуть не опрокинув настольную лампу, зажгла ее наконец, она увидела, что он сидит, выпрямившись, с одеялом на раздвинутых ногах, вытянув напряженные руки.
– Ради бога, – сказала она. – Ради бога!
Он взялся рукой за сердце. У него были рассеянные, страдающие глаза, родинка страшно чернела на побелевшем лице с задохнувшимся, полуоткрытым ртом.
– Ирина, – вдруг ясным, сильным голосом, глядя прямо в лицо Ольги Прохоровны, позвал он. – Ирина!
Он упал на спину и сразу же сполз с подушки, тяжело зарываясь в постель, шаря вокруг себя дергающимися руками.
– Что с тобой? Тебе дурно? Скажи!
Он попытался подняться, но снова упал, точно кто-то сильно толкнул его в грудь.
Не помня себя, Ольга Прохоровна выбежала в коридор:
– Помогите!
Она постучала в соседнюю дверь, кинулась к двери напротив. Отозвался детский голос, потом мужской – недовольный, заспанный, хриплый:
– Что случилось?
Но она уже бежала по коридору в домоуправление, к телефону, она уже ворвалась в темный двор, вбежала по ступеням, оттолкнула кого-то.
– Пустите меня! Он умирает.
А Остроградский не знал, не чувствовал, что он умирает. У него в лагере не раз бывало плохо с сердцем, и теперь, мучаясь, он ждал, что припадок скоро пройдет. Ему казалось, что он в незнакомом доме, тесном, но уютном, и все было бы хорошо, если бы он не беспокоился об Ирине. О, как все дрожит и трепещет вокруг, как быстро несется куда-то этот сухой, деревянный, потрескивающий, поскрипывающий дом! Как рвется воздух за окнами, жидкие светлые пятна бегут на насыпи, по рельсам, по телеграфным столбам. Она, не она! Она, не она! Теперь его несли куда-то, или не его, а каменную ношу, которая стала его онемевшим телом. Он рванулся, кто-то толкнул его в грудь. Что-то новое, страшное сделалось в сердце. И уже невозможно было сопротивляться этой невидимой, непреодолимой силе.
60
В этот вечер Лариса Александровна позвонила Снегиреву и попросила его приехать как можно скорее.
– А что случилось?
– С Василием нехорошо.
– Болен?
– Нет, но… Словом, я жду вас. Это необходимо.
Она встретила Снегирева, тщательно причесанная, прибранная, как всегда, но с припухшими глазами и опустившимся после бессонной ночи лицом.
– В том-то и дело, что не знаю и ничего не могу понять, – сказала она. – Вчера Василий пошел проститься с Женей и вернулся расстроенный, хотя как будто не очень. Ночью ему не спалось, ворочался, а под утро, когда я задремала, тихонько вышел и с тех пор…
Они разговаривали в столовой, дверь из кабинета была закрыта, но оттуда были слышны какие-то всхлипывания, вскрики.
– Я уговаривала, умоляла, ему вообще нельзя пить. Куда там! Кричит. Что произошло между ними? Женя спокоен, ушел в школу, как всегда, потом позвонил, что вернется поздно, у них какой-то вечер. Василий меня винит… – У нее оборвался голос.
– В чем?
– Будто я…
Дверь распахнулась, и Крупенин, обмякший, в туфлях на босу ногу, в ночной рубашке и пижамных штанах, которые он подтягивал неверной рукой, показался на пороге.
– А, братец-кролик! Здорово!
– Здравствуй, здравствуй, – холодно сказал Снегирев.
– Ну, садись! Я, правда, тебя не звал. Но коли пришел, садись. Как живешь?
– Помаленьку.
– Опровержения печатаешь?
Он долго пьяно смотрел на Снегирева.
– Силен! Сыновей-то мы с тобой проморгали?
Он сказал другое слово, покрепче. Лариса Александровна вздрогнула и вышла.
– Науку проморгали. – Он снова назвал то же слово. – Значит, так и будем жить?
Снегирев подошел и сильно встряхнул его:
– Постыдись!
– Ну! – Крупенин замахнулся, но не стал бить, а рухнул на диван и заплакал.
Снегирев молча ждал. У него еще утром раза два-три неприятно останавливалось сердце, пропуская удар-другой. И сейчас остановилось, пропустило.
– Знаешь, о чем меня Женька вчера спросил? Причем, заметь, совершенно спокойно: «Ты помнишь эту историю с Геннадием Лукичом, папа? Ну, с нашим историком? Мы его продолжаем бойкотировать. Не фактически, потому что это невозможно, а психологически. Ты, помнится, был на нашей стороне. Так вот я хочу тебя спросить: как ты относишься к Снегиреву, который, по-видимому, недалеко ушел от этого Геннадия Лукича?»
Валерий Павлович побледнел.
– Что, братец? Ноздри раздул? Ноздри будешь потом раздувать. Завтра тебя об этом Алешка спросит. Господи боже ты мой милостивый, – с тоской сказал Крупенин. – Ведь я же когда-то что-то знал! Я же много знал когда-то! Куда все делось? Вот куда!
И тяжелой пепельницей из уральского камня он запустил в зеркало полубуфета. Стекло посыпалось. Испуганная Лариса Александровна заглянула. Снегирев махнул ей. Она закрыла дверь.
– Послушай, Василий…
Крупенин отвел его сильной толстой рукой.
– Уйди. Ты у меня сына отнял.
– Здравствуйте.
– Добрый вечер. Уйди, черная душа.
Крупенин вытер платком мокрое лицо:
– Опровержение напечатал? А ему на твое опровержение…
– Кому ему?
– Не знаешь? Лепесткову, братец-кролик. Слыхал?
– А Лепестков при чем?
– А Лепестков при том, – медленно выговаривая, ответил Крупенин, – что он книгу написал. Не знаешь? Э, братец-кролик, значит, ты уже не у дел! А ведь там и о тебе. И обо мне. Короче говоря, о всей нашей славной когорте.
– Черта ли напечатают такую книгу!
– Ну да, сегодня не напечатают. И завтра. А послезавтра смотришь – вот она! Видишь, какое дело, милый. Ведь ее весь мир будет читать! Конечно, нам с тобой на весь мир… – Он опять повторил то слово. – Так ведь ее Алешка и Женька будут читать. Вот что худо, братец-кролик. Вот что худо! А Остроградский? – двинувшись на Снегирева толстой, мясистой грудью, набухшим лицом с выкатившимися глазами, спросил он.
– Что Остроградский?
– А то, что я завтра же поеду к нему.
– Зачем?
– Ах, зачем? Ты же хотел, умный человек, чтобы я к нему поехал? Затем, что я ему все расскажу! Стану на колени и лбом об пол, как перед образом Господа нашего Иисуса Христа. Все расскажу!
– А ты думаешь, он не знает?
– Знает. Все равно. Это мне надо, а ему на нас…
До поздней ночи Снегирев провозился с Крупениным. Он ругал его, пил с ним, снова ругал. Он уговорил его принять прохладную ванну – и ушел без сил, когда Василий Степаныч захрапел на полуслове, опустив всклокоченную голову на грудь и уютно сцепив руки на животе, выпирающем из пижамных штанов.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?