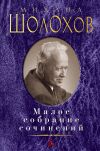Текст книги "Перед зеркалом. Двойной портрет. Наука расставаний"

Автор книги: Вениамин Каверин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 71 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
– Мы лежим спокойно.
– Это называется «спокойно»?
– Да.
– Буду знать, – серьезно сказала Ольга Прохоровна. – Буду знать.
Утром Остроградский уехал в Москву, а она отвела Оленьку к Марусе и стала бродить по дому, бледная, счастливая, в новом платье, которое ей почему-то захотелось надеть. Перед зеркалом она, впервые за много лет, намазала губы и сразу же, как будто испугавшись чего-то, стерла помаду.
Она бродила и думала. В опустевшей комнате Остроградского она долго смотрела на связанные стопочки книг, на старый чемодан, к которому были привязаны, тоже старые, солдатские, еще лагерные ботинки…
На другой день Ольга Прохоровна переехала с Оленькой в Москву.
43
От Лепесткова, который хлопотал в райсовете, она знала, что ее очередь на комнату хотя и медленно, но приближается и что есть надежда получить ее еще в этом году. Теперь, выстояв длинную очередь к добродушной, похожей на мопса старухе, она поняла, что если это произойдет, так не раньше, чем она сама превратится в старуху. Она поняла, что нельзя молча уходить, выслушав стереотипный ответ, и что нельзя даже стереотипно скандалить. Надо было не просто хлопотать, а нападать, грозить, уговаривать, и не от случая к случаю, а неустанно, ежедневно, неутомимо.
Она пошла в Моссовет и добилась того, что на Кадашевскую явилась комиссия, принявшая решение, которое должно было ускорить дело. Через воспитательницу Оленькиного детского сада она познакомилась с депутатом райсовета, и тот поддержал и лично переслал в жилотдел ее заявление. Она попросила директора Библиотеки иностранной литературы позвонить председателю райисполкома.
– Вот вы, оказывается, какая, – сказала ей эта ученейшая, почтеннейшая, известная всей Москве женщина, которой Ольга Прохоровна еще недавно смертельно боялась.
Она ответила искренне:
– А я и сама не знала, что я такая.
Старухе из жилотдела она позвонила сорок раз и сказала ей об этом в конце концов, услышав в ответ рычание. Но ей и нужно было это рычание.
В середине апреля она выяснила, что ее очередь передвинулась, или, точнее, что кто-то, получавший комнату вне очереди, вынужден был ей уступить. Теперь ее место было недальнее, и все знали, что она держится за это место зубами. Ее уже не только знали, ей сочувствовали.
За месяц она виделась с Остроградским только два раза. Однажды у Лапотникова, в богатой квартире на улице Горького, где гостеприимный, с толстым, лукавым лицом хозяин старательно подчеркивал, что они могут чувствовать себя как дома, – и вечером другого дня на углу улицы Воровского и Садовой. Она увидела его, идущего к ней через площадь, и испугалась, что он не ждет, пока встанут машины. Был вечер, косые столбы фар перекрещивались, метались, и она чуть не вскрикнула – ей показалось, что он попал под колеса. Но он снова показался, высокий, худой, в кожаном пальто и кепке, надетой по-молодому лихо.
– У тебя лицо засияло, вот я на него и пошел, – ответил он, смеясь, когда она стала выговаривать за неосторожность.
У обоих были важные новости: Остроградский хотел рассказать о том, как двигается реабилитация, Ольга Прохоровна – о своих жилищных делах.
Она сказала, что собирается отвезти Оленьку к деду, на Тузлинскую косу, и что тогда он сможет приходить к ней на Кадашевскую – разумеется, днем.
– Хоть пообедаешь по-человечески.
Они теперь были на «ты».
– А соседи?
– Ну что ж соседи! Ведь днем.
– А нельзя сегодня? Сейчас?
Она покачала головой:
– Оленька дома.
Они шли молча, улыбаясь друг другу. Он вспомнил и рассказал, как в первую ночь, когда она переехала в Лазаревку, он не спал и волновался, потому что она была рядом, и думал о том, что его и ее жизнь, в сущности, переплелись давно, еще когда они не знали друг друга.
– А потом я подумал: «Встать и пойти к ней».
– Ну да?
– Честное слово. Но я знал, что не пойду. Это было от счастья.
Она поняла:
– От возможности счастья?
– Да. И от одиночества.
– А мне все казалось, что ты то далеко, то близко.
– Так и было.
– Мне казалось, что это как станция, на которой ты ждешь поезда. Лазаревка, эта дача и то, что я приятна тебе. А главное для тебя – совсем другое. То, что связывало твою прежнюю жизнь, до лагеря, с той, которая будет потом.
– Связывала ты. Не сразу. Сперва мне просто хотелось понравиться. Хорошенькая. Кажется, одинокая. Почему бы и нет? А потом я перестал стараться.
– Жаль.
– Правда жаль?
– Я шучу. Теперь уж чего стараться!
Он обнял ее у закрытых дверей храма Всех Скорбящих Радости на Ордынке. Здесь было темно и никто не проходил, потому что сквер, окружавший церковь, был разделен в этом месте забором. Между колонн была запасная боковая дверь. Половинки ее немного разошлись, высокая узкая полоска светилась сквозь щель. В храме шла вечерняя служба, монотонное чтение, прерываемое возгласами и как бы протяжными вздохами, доносилось до них. Они целовались, потом слушали, притихнув. Свет уличного фонаря был далеко, но в сумраке зимнего снежного вечера Остроградский видел взволнованное лицо Ольги Прохоровны. Он испугался, что она так молода, сказал ей об этом, и она в ответ молча поцеловала его. Было холодно стоять у железной церковной двери так долго, может быть не меньше часа, оба были в легких пальто. Но уйти было трудно, даже невозможно, и они не уходили.
– «Обручается раб божий Анатолий рабе божией Ольге», – смеясь, сказал Остроградский. – «Ты бо из начала создал eси пол мужеский и женский, и от тебе сочетавается мужу жена в помощь и восприятие рода человеча».
– Откуда ты это знаешь?
– Из «Анны Карениной». Я заменил имена… – И он продолжал: – «Сам убо Господи Боже наш, пославый истину на наследие твое и обетование твое… Призри на раба твоего Анатолия и на рабу твою Ольгу и утверди обручение их в вере, и единомыслии, и истине, и любви…»
44
Ольга Прохоровна знала, что она не в силах передать Остроградскому и десятую долю того чувства счастья, которое она прежде никогда не испытывала и которое давным-давно перестала ждать. Это чувство было и спокойствием, как будто расставившим все в душе по местам, и возвращеньем к детству, потому что только в детстве она так наслаждалась ожиданием, неожиданностями, тишиной. Все это не имело, кажется, никакого отношения к нравственности, но никогда прежде она не чувствовала такого отвращения ко лжи, неестественности, притворству. Может быть, не она, а Анатолий Осипович чувствовал это отвращение? Она подчас путала его мысли и чувства со своими не потому, что вполне понимала его, а потому, что все принадлежавшее прежде ей стало принадлежать ему, и она инстинктивно старалась, чтобы он получил больше, чем ожидал, да и больше, чем она сама ожидала. Они точно складывали вместе свои душевные силы или менялись ими, поддерживая друг друга. Все неудавшееся, несбывшееся как бы перестало существовать для нее или с каждым днем становилось все незначительнее и бледнее.
Она не забыла своей жизни с Борисом, но та жизнь не произошла, а случилась, так же как могла случиться другая, более спокойная или счастливая, но одинаково не похожая на то, что сбывалось теперь между Остроградским и ею. Даже в первые счастливые годы с Борисом надо было что-то объяснять, что-то прощать ему, чего-то стыдиться. Сейчас ничего не надо было объяснять – все понималось с полудвижения, с полуслова. Не надо было ни прощать, ни стыдиться. Надо было только одно – стать собой, и она знала, что это происходит, и надеялась, что Анатолий Осипович думает об этом, хотя, может быть, не так часто, как она.
Но самым неожиданным было возникшее в ней и все укреплявшееся ощущение свободы, особенно острое, потому что с Борисом она была оскорбительно несвободна. Оно появилось не потому, что Анатолий Осипович ни в чем не стеснял ее, – и Борис, почти не касаясь, проходил мимо того, чем она была занята. Напротив, оно появилось потому, что Остроградский не только расспрашивал ее о каждой мелочи дня с интересом, но думал и говорил о ее будущем – не вернуться ли ей в университет? Она чувствовала себя свободно потому, что, опираясь на него, знала, что свободен и он.
Как в детстве, Ольга Прохоровна как бы прислушивалась к глубокой органной ноте, сопровождавшей все происходившее между ними, и, как в детстве, когда она прыгала с четырехметрового трамплина, ей казалось, что она решилась на опасный, рискованный шаг.
И только одно тревожило и огорчало ее: она не была уверена, что и в нем произошла такая же глубокая, ошеломляющая перемена. Что-то оставалось непрозрачным в нем, что-то не вспыхнуло, осталось в тени. Но это пройдет, это пройдет! Он никогда не говорит с ней о жене и дочери – почему? Случайно она увидела фото Ирины и замерла: что она перед этой высокой красавицей, взмахнувшей ракеткой, смеющейся, в прелестном платье, с тонким, скромным лицом!
45
Ольга Прохоровна продала свою единственную драгоценность – золотое колечко с черным жемчугом, которое отдал ей, уходя на войну, отец, – и за колечко заплатили неожиданно много, четыреста тридцать восемь рублей. Этого было достаточно не только на поездку в Керчь, но и чтобы купить Черкашиным подарки. Дед Платон Васильич жил с незамужней дочерью, работавшей на рыбкомбинате.
В Джанкое была ночная пересадка, на станции говорили, что переполненный поезд стоит недолго, попасть тяжело. Но Ольга Прохоровна почему-то не волновалась. Дежурный по станции бросил свои дела и пошел компостировать билеты вместе с ней – она нисколько не удивилась. Единственное место оказалось в купированном вагоне – и это было именно так, как должно быть. Еще никогда в жизни она не чувствовала себя такой уверенной и спокойной.
В темном ночном купе, куда она едва достучалась, спали мужчины в трусиках – и сейчас же вскочили, стали устраивать ее на нижнее место – у нее было верхнее. В купе было жарко, но из вежливости все они, когда вновь улеглись, натянули на себя одеяла.
Она проснулась с рассветом, прислушалась и засмеялась: соседи говорили о «прорве». О «прорве» говорили и в Керченском порту, где Ольга Прохоровна с дочкой ждали катера. И на катере, где моторист яростно схватился с приезжими, утверждавшими, что в крымском рыболовстве ничего не изменилось бы, даже если бы «прорву» удалось заткнуть.
Но вот остались позади торчащие из воды безобразные остовы судов, затопленных во время войны, плавучий док, самый берег, на котором строящиеся заводы угадывались по очертаниям кранов. Линия кавказского берега показалась вдали.
Покойное чувство охватило Ольгу Прохоровну, сидевшую на корме, подставив лицо весеннему, уже жаркому солнцу. Впервые в жизни она должна была расстаться с дочкой. Она знала, что это будет трудно для них обеих, – у Оленьки наполнялись слезами глаза, когда, слушая мать, она покорно кивала. Все было очень трудно: и то, что денег у нее в обрез, и что сверхурочная работа – составление библиографии для одного никому не нужного издания – отнимала у нее вечера, которые она могла бы проводить с Остроградским, и что они бродили по Москве, бездомные, целуясь в подъездах, как в семнадцать лет. Но все было так легко, что легче невозможно было себе и представить. Ничего прекраснее нельзя было себе представить, чем нежная линия Таманского полуострова, которая то затуманивалась где-то в дымке, то вырисовывалась прозрачно. Ничего необыкновеннее не было и не могло быть, чем эти два берега – крымский и кавказский, которые она видела одновременно, и сама коса, когда они причалили, – узкая полоса земли, лежащая между двумя морями. На ней стояли дома – старые и новые, высокая горка соли белела на причале рядом с бочонками, сложенными в штабели. Девки кроили парус прямо на улице, пожилой рыбак с пышными льняными усами распоряжался работой. Ничего не было и не могло быть лучше в мире, чем этот крепкий запах смолы, мокрого дерева, рыбы…
46
В доме хозяйничала старшая сестра Бориса, Варя, похожая на него, с широкими скулами и всегда крепко сжатыми зубами. В ней было что-то монашеское, но не от религиозности (хотя она была религиозна), а от беспрестанного ощущения, что она не просто живет, как другие люди, а служит – эта черта была и в Борисе. Она служила, убирая дом, который содержался в чистоте, ухаживая за слепым отцом и, уж конечно, работая на рыбкомбинате – ее портрет с неподвижно выпученными глазами висел на доске почета. Дед был совсем другой, приветливый, внутренне свободный, с добрым лицом и страшенными бровями, из-под которых смотрели ясные, ничего не видящие глаза. Потеряв в шестьдесят лет зрение, он научился читать ощупью по Брайлю. Толстые, странные книги для слепых лежали повсюду в доме, который был похож на деда – чистый, белый, с инициалами «П. Ч.» – Платон Черкашин, – крупно вылепленными на фронтоне.
Он знал все, что происходило на Тузлинской косе.
– Нам бы еще милиционера, – как-то сказал он Ольге Прохоровне. – И на тебе – республика как республика! Семейных не берем, вот что плохо! Жилья мало. Холостому что? Сорвал куш в путину, только его и видели! А семейные – солидный народ.
Он читал с утра до вечера, и когда Ольга Прохоровна сказала ему то, что еще в Москве решила непременно сказать, он тоже читал, держа книгу на коленях и подняв лицо к потолку.
– Платон Васильевич, я выхожу замуж.
Пальцы на книге вздрогнули и остановились.
– Мне трудно было сказать вам… – Ольга Прохоровна немного задохнулась. – Но скрывать еще труднее.
Дед помолчал.
– Чего же скрывать? – просто сказал он. – Дело такое. А каково будет для Оленьки? Хорошо ли?
Он заговорил о том, что, может быть, Оленька останется на Тузле, хотя бы не насовсем, а пока устроится жизнь.
– Нет, Платон Васильич. Вот пока все устроится, я и привезла ее вам.
– Эх, Борисова дочка! – горько сказал дед.
Фотография Бориса, старая, еще довоенная, стояла на комоде. Он был снят после школы, по-мальчишески суровый, в новом костюме, в рубашке с твердым чистым воротником и сам такой же твердый и чистый.
– За кого? – спросил дед. – Хороший ли человек?
Она назвала фамилию – и он заволновался:
– Остроградский?
– Да.
Статья «О совести ученого», наклеенная на картон и вставленная в некрашеную рамку, висела над кроватью.
– Тот самый?
Дед показал не на статью, куда-то в сторону. Но Ольга Прохоровна догадалась:
– Да, да.
– Ну, это судьба, – помолчав, сказал дед. – Так ведь пожилой, должно быть?
– Да. Но это ничего.
– Ясно, ничего. Хорошо даже. А что же ему? – Он говорил теперь о Снегиреве. – Так ничего и не будет?
– Не знаю, Платон Васильич.
– Борис почему не выдержал? Потому что его война сломила. Войну-то он выиграл.
– Да.
– А тут, поди-ка, еще одного врага одолей.
– Да еще какого врага!
– Ничего, найдется управа! На крови ведь только неправда держится. Правде-то зачем кровь?
Он замолчал, услышав легкие Оленькины шаги на крыльце. Ольга Прохоровна прижалась к нему. Он ласково провел рукой по ее лицу.
– А плакать не надо.
47
Ей хотелось добраться до края косы, куда они с Борисом ездили каждый день в ту запомнившуюся счастливую неделю, и она попросила секретаря тузлинской парторганизации, который хотел посмотреть, размыло ли снова косу, взять ее с собой. Они пошли втроем: она, секретарь – черноглазый порывистый украинец, приехавший после войны в Керчь к друзьям и увлекшийся тузлинскими делами, – и пожилой рыбак, поглядывавший на Ольгу Прохоровну смеющимися глазами из-под выгоревших бровей.
– Я думаю, что за девочка, а это нашего Бориса Черкашина жена, – сказал он, когда лодка уже подходила к размытому краю косы. – Ну как он? Преуспевает вообще?
Ольга Прохоровна растерянно смотрела на него и молчала.
– Вот они! – закричал секретарь. – Столбики! Я весной от этих столбиков уток стрелял! А теперь они где? Почти под водой. Видите? Метров сто размыло!
– Если не больше! – подтвердил рыбак. Так и осталось неясным, как могло случиться, что он не слышал – или забыл? – о смерти Бориса.
Узкая полоска показалась недалеко от того места, где море отделило косу от таманского берега. Это был песчаный островок, по-видимому недавно намытый. Ольге Прохоровне захотелось остаться на этом островке – и они высадили ее, а сами пошли смотреть контрольные невода.
…Она знала, зачем приехала сюда, – проститься с Борисом. Но никакого прощанья не получилось, потому что едва она осталась одна, как сразу же стала думать об Остроградском.
После той ночи в Лазаревке она, оставаясь одна, неизменно начинала жалеть, что его нет рядом с нею. Она бродила босая, подкидывая ногами песок, и думала, перебирала их встречи. Когда они были у Лапотникова и хозяин, добродушный, самодовольный, суетливый, хвастливый, вдруг вспомнил, что у него срочное дело, и ушел надолго, чуть ли не на полчаса, – они сидели молча, расстроенные, гадая, нарочно он оставил их или не нарочно. На улице они кидались друг к другу.
Она бродила и думала. Ракушки сильно и нежно блестели под солнцем, тонкие следы птичьих ножек нарисовались здесь и там на песке. Она рассматривала эти следы и думала, думала. Было одно обстоятельство, которое могло сделать в тысячу раз труднее ее, а теперь и его трудную жизнь. Она вздохнула весело и тревожно. Черт побери! Ко всем нашим делам еще и это! Ни кола ни двора! Может быть, она ошибается? Сколько прошло? Она сосчитала. Еще мало. Но похоже. Правда, с Оленькой все началось совершенно иначе. Но похоже! Что-то неуловимо изменилось – в чем? Она сама не знала. В том, как она подбрасывала песок ногами, в том, как она села, натянув юбку на колени, в том, как она думала об Остроградском и хотела близости с ним. В том, как она смотрела на затянувшийся дымкой Таманский полуостров.
Солнце уже склонялось, когда они пустились в обратный путь. От Тузлинской косы отвалил катерок, секретарь сказал, что это киномеханик отправился в Керчь за картиной. Цапля сидела на стойке контрольного невода, неподвижная, с втянутой в плечи надменной головкой. Да, похоже! Что-то он скажет? Мысль, которой Ольга Прохоровна боялась, мелькнула… Ни за что! Она не только не стремилась избежать того, что случилось – если случилось, а как будто ждала и хотела, чтобы все было именно так.
48
Просыпаясь с трудом (как всегда после снотворного, которое он принял на этот раз ночью, в неположенное время), Снегирев сквозь прищуренные веки увидел жену – и что-то непривычное мелькнуло в том, как она прошла с газетой в руках – осторожно, но быстро.
– Напечатали?
Мария Ивановна подошла и, покраснев, как девочка, поцеловала его. Опровержение было напечатано. Правда, оно было напечатано на третьей странице, мелким шрифтом, среди читательских писем. Чтобы никто не заметил. Не все ли равно? Победа!
Он сразу же решил, что прежде всего надо зайти к Сотникову – пускай подошьет к делу. Фактически это ответ на постановление бюро. Потом надо позвонить Кулябко и сделать вид, что это работа Кулябко, хотя работа как раз не его. Надо поговорить с факультетской газетой: передовая «О подлинных и мнимых фальсификаторах». И тут уже – будьте уверены – в дело пойдет другой шрифт, покрупнее!
Он принялся за гимнастику, но сразу же бросил, потому что телефон стал звонить, как в день Нового года.
Клушин, у которого выхватила трубку кокетливо заверещавшая Клушина, Персиков, Нечаева и, совсем некстати, Ксения, которую он тысячу раз просил не звонить домой. Ксения хохотала, потому что он разговаривал с ней принужденно, как с незнакомой, и была, кажется, немного пьяна. В десять утра! Все равно было приятно, что она позвонила.
Метакса, Коренев, рыжая, которая никак не может забыть о том, что как-то в Керчи, от нечего делать…
Он уже знал опровержение наизусть и все-таки еще раз прочел его не торопясь, внимательно, слово за словом. Оно было написано глухо. Автора выгородили. Неприятно подчеркивалось слово «невежда». Редакция сожалеет. Подлецы! Он обошелся бы без таких сожалений!
Наплевать! Опровержение есть опровержение, даже если оно написано со скрежетом зубовным. Текст забывается. Остается главное – факт. А уж он, Снегирев, позаботится, чтобы из этого факта были сделаны выводы. Где надо и такие, как надо!
Ему хотелось спросить жену, прочел ли опровержение Алеша. Он не спросил: было молчаливо условлено, что Алеша как бы ничего не знает об этой истории. Но, уходя, Валерий Павлович не выдержал и все-таки оставил «Научную жизнь» в комнате сына – не на столе, а на окне, среди других газет и журналов.
Он поехал на лекцию. Поднимаясь по лестнице, он вспомнил, что даже не перелистал конспект. Но сразу же забыл об этом. Сегодня он не сомневался в удаче.
49
И в молодости Снегирев почти не готовился к лекциям, но читал все-таки хорошо, стараясь передать студентам тот интерес «открытия», без которого ему самому сразу же становилось скучно. Потом осталась только умелость, подчас он начинал чувствовать, что они слушают его с напряжением. Во всяком случае, «гнать студентов на его лекции палками», как он с презрением говорил о других профессорах, не приходилось.
Он держался спокойно после появления статьи, с чуть заметным оттенком оскорбленной гордости, а однажды – это имело успех – ловко срезал студентку Волину, которая пыталась выразить ему сочувствие. Волина лезла в аспирантуру, об этом знали на курсе.
Сегодня он настолько не заботился о том, чтобы лекция удалась, что даже немного удивился, увидев скучающие лица. Движенье холодности донеслось до него. Он знал, что нужно делать в подобных случаях: переключить внимание. Он бросил шутку, другую. Никто не засмеялся. На задних скамьях разговаривали. Кто-то зевнул.
– Может быть, вопросы?
Студент Остапенко, лохматый, рыжий, с детским квадратным лицом, сказал негромко:
– Простите, профессор… Мне хотелось узнать, что вы думаете о теории Улисса Симпсона Гранта?
Неудобно было сознаться, что Снегирев впервые услышал о Гранте. К счастью, студент тут же стал излагать эту теорию, опубликованную в последнем номере… Он назвал известный американский журнал. Теория была любопытная, хотя подозрительная, судя по новым, модным терминам, значения которых Снегирев не понял.
– Сейчас скажу, – ответил он, – а пока попробуем выяснить, как относится к ней… Ну, скажем, Варварин.
Варварин относился к теории отрицательно и считал, что иначе к ней и нельзя относиться, поскольку Грант, очевидно, не признает объективно существующих закономерностей живой природы. Впрочем, и по другим его работам совершенно очевидно, что он не кто иной, как виталист, иногда притворяющийся – более или менее удачно – материалистом.
– Скажем проще: эклектик, – добавил Снегирев.
Подавленный смешок пробежал по аудитории, и Снегирев, почувствовав неладное, мягко оборвал разговор.
Волина кинулась к нему, когда, закончив лекцию, он шел по коридору.
– Валерий Павлыч, они вас разыграли.
У нее были красные пятна на щеках, хорошенькое личико вспотело.
– Как разыграли?
– Я слышала, как они сговаривались. Такого ученого нет.
– Но позвольте… Остапенко изложил его теорию.
– Это теория самого Остапенко. Они просто трепались. Они держали пари, что вы…
Она отшатнулась, увидев его бешеное лицо. Но он сдержался.
– Я сегодня же доложу об этой возмутительной истории на бюро.
– Никаких докладов и никаких бюро. – Он улыбнулся. – Я прекрасно понял, что это была шутка.
Она смотрела на него с удивлением.
– А вам, товарищ Волина, я посоветовал бы не доносить на своих товарищей. Даже из лучших побуждений.
– Да? – Она оскорбленно тряхнула головкой. – Хорошо, Валерий Павлыч. На всякий случай я хочу сказать вам, что Улисс Симпсон Грант – восемнадцатый президент Североамериканских Соединенных Штатов.
50
Это был хлопотливый день. Снегирев договорился с редактором факультетской газеты, зашел в партком, условился о заседании кафедры, на котором Клушин должен был огласить опровержение – разумеется, с соответствующими комментариями.
В министерстве он провел часа два, повидавшись с людьми, от которых как бы ничего не зависело, но на деле зависело многое и которые, в частности, могли показать опровержение министру.
Собираясь уходить, он заглянул в первую попавшуюся комнату, чтобы позвонить домой, – надо было сказать, чтобы не ждали к обеду. Группа сотрудников собралась вокруг знакомого референта, державшего в руках газету с отчеркнутым опровержением. Все оживленно разговаривали – и замолчали, едва Снегирев появился в дверях. Он подошел, улыбаясь, и инстинктивно насторожился, увидев серьезные лица. С ним поздоровались вежливо, но сухо.
Он попросил разрешения позвонить, снял трубку. Телефон был сдвоенный, в соседней комнате разговаривали. Он извинился и вышел.
Что все это значит? Это значит, что теперь, когда опровержение было напечатано, к нему стали относиться иначе, чем прежде.
Он позвонил жене из вестибюля. Прежде его боялись, но не сторонились. Теперь сторонятся, стало быть, не боятся. Почему? Потому что появилось – неизвестно где и как – то, что позволило студентам разыграть его, а референту, которого он о чем-то спросил, почти не ответить.
– Ежеминутно, – ответила торжествующая Мария Ивановна, когда он спросил, кто звонил. Она назвала фамилии. Не так уж много! Зато Данилов, который еле кивал ему с тех пор, как его выбрали членкором.
Он повесил трубку и тут же позвонил Кулябко.
– Его нет.
– А когда будет?
– Он больше здесь не работает.
– То есть как? Я просил товарища Кулябко.
– Поняла, – терпеливо ответил женский голос. – Но товарищ Кулябко больше здесь не работает. На его месте… – Она назвала незнакомую фамилию. – Что-нибудь передать?
Снегирев бросил трубку.
Ничего особенного не было в том, что сняли Кулябко, который не знал, что он скажет в следующую минуту, но неприятные, царапающие следы этого дня, который начался так счастливо, стали чувствительнее и глубже. Ладно же! Поживем – увидим! Шутка дорого встанет Остапенко и Варварину на защите диплома. А на месте Кулябко будет другой Кулябко!
51
В комнате еще темно, а ведь теперь светает рано, лето. «Да, уже лето», – подумал Остроградский. Сейчас он встанет и поедет в Русиново, не забыть бы только позвонить Васе Крупенину, который обещал купить для Ирины английскую ракетку. Ирина и Машенька встретят его на станции в одинаковых платьях – он издалека увидит их из окна вагона. Остроградский засмеялся в полусне. Ему нравилось, что они встречают его в одинаковых платьях.
Но было еще что-то очень хорошее, о чем так славно думалось ранним утром, в полусне, не открывая глаз. Что-то не очень важное, но приятное, и, во всяком случае, то, что неизбежно должно было произойти именно в этот день. Он вспомнил и засмеялся. Сегодня Ирина позавтракает наскоро, «стоя на одной ноге», как она говорит, и побежит к «пьянице» за цветами. «Пьяницей» в Русинове звали старуху-цветочницу, которая действительно пила, что ничуть не мешало ей выращивать лучшие во всей округе гладиолусы и пионы. «Боже мой, неужели мне уже сорок четыре? Я рано состарюсь. Я в мать, а Вернеры старятся рано. Вот Гриша – в отца, – подумал он о брате, – и выглядит моложе, чем я, а ведь между нами только полтора года. Впрочем, он моряк, а форма молодит, особенно морская».
Надо было вставать, а он все плыл куда-то в тишине, в тесноте набегающих мыслей. Он плыл не только потому, что не хотелось вставать, но еще и потому, что ему непременно хотелось доказать себе, что сейчас он встанет и поедет в Русиново и что на станции его встретят Ирина и Маша. Но что-то уже случилось с Русиновом, с теннисной ракеткой, с одинаковыми красными платьями, с Гришей. Что-то путалось, не доказывалось, скользило. И соскользнуло бы, если бы он отпустил от себя это утро. Он не отпустил. Он приехал в Русиново, Ирина с Машенькой встретили его и сразу стали рассказывать что-то смешное. О дачной хозяйке, которая завивается на ночь. О толстом мальчишке, который целый день катается на велосипеде. Кажется, в этот день Ирина сказала ему: «Когда все так хорошо, становится страшно». Соскользнуло. Он вернул. Кажется, в этот день… Опять соскользнуло. Он заговорил с Машенькой, чтобы снова вернуть этот день, но это была уже другая девочка, беленькая, худенькая, с косичками, которая, слушая его, делала что-то быстрыми, ловкими ручками. Все было уже не то и не так.
Он лежал на раскладушке, в маленькой комнате, со срезанным, летящим на него потолком. Он ночевал у тети Лизы, в доме на Петровке, где жил до ареста. Он проснулся и должен был незаметно уйти, положив ключ в условленное место.
52
Дел было много. Проваторов просил его принять участие в подготовке антарктической экспедиции, и два сотрудника ВНИРО уже работали по его указаниям. Людмила Васильевна Баева закончила экспериментальную часть докторской, а с выводами что-то не получалось.
Но главное дело – если не считать реабилитации – было связано с одной возможностью, вдруг открывшейся и, кажется, единственной в его положении. Еще в феврале, когда оказалось, что Юра Челпанов очень близко подошел к теории, которую Остроградский обдумывал в лагере, они решили вместе поставить работу в Юриной лаборатории – маленькой, но располагавшей редким, новейшим прибором. Это было смело и даже рискованно, потому что догадка Остроградского не имела ничего общего с планом лаборатории. Вечером он должен был встретиться с Юрой у Кошкина.
– Но возможно, – сказал загадочно Иван Александрович, – что будет и еще кое-кто.
Этот «кое-кто» был, без сомнения, Гладышев, с которым Кошкин давно собирался его познакомить.
Были и другие дела, тоже важные: позвонить прокурору, получить деньги в Институте информации, отправить деньги хозяйке комнаты под Загорском, зайти в парикмахерскую и, наконец, купить новый костюм.
Он получил и послал деньги, позвонил раз пять прокурору, не дозвонился и зашел в ЦУМ. Мужские костюмы продавались на третьем этаже. В очереди было много женщин – должно быть, покупали для сыновей и мужей. Остроградский стал вспоминать свой номер. Кажется, пятидесятый, третий рост?
– Которые не знают свой размер, должны ходить с женами. А холостые – с мамами, – поучительно сказал продавец.
Конечно, разумнее было бы купить темный двубортный на лето и зиму. Но ему захотелось купить светлый однобортный. «Не по возрасту, черт побери, – подумал он, глядя на себя в маленькой примерочной, состоявшей из легких шелковых штор. – Но ведь сказала же Ольга, что я какой-то нестарый?..» Он примерил темный. Тоже недурно. Гм, гм…
Он еще выбирал бы, пожалуй, если бы не знал заранее, что в конце концов все равно купит светлый костюм.
Он надел его и стал бродить по ЦУМу, размышляя над тем, что ему в последний раз сказал Юра Челпанов. Юра сказал, что одно из предположений проверить пока невозможно. Но это была та невозможность, с которой надо было обращаться умно. С нежностью, но умело. Это была невозможность, которую надо было понять, как женщину. И кажется, это уже произошло – быть может, когда он выбирал костюм или звонил в прокуратуру? Кстати, позвоню-ка я снова. Прокурор пошел обедать. Рано обедает прокурор – четверть второго. Остроградский ходил, посвистывая, и вдруг купил для Ольги шелковую театральную сумочку, хорошенькую, с цепочкой. Теперь денег осталось мало, но он подумал и купил еще шляпу, а кепку сунул в пакет со старым костюмом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?