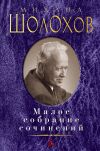Текст книги "Перед зеркалом. Двойной портрет. Наука расставаний"

Автор книги: Вениамин Каверин
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 71 страниц) [доступный отрывок для чтения: 23 страниц]
Она поехала к Крупениным – ей хотелось повидаться с Ларисой, которую она уважала. К сожалению, Лариса была не одна. Из передней Мария Ивановна услышала голоса Челноковой и Клушиной. Дамы оживленно разговаривали – и замолчали при ее появлении.
Может быть, надо было сделать вид, что статейка нисколько не интересует ее? Но Марье Ивановне показалось недостойным притворяться – перед кем? Она сейчас же сказала, что никогда в жизни не читала ничего подлее и что они с Валерием Павловичем, разумеется, не оставят эту грязную клевету без ответа.
Лариса Александровна согласилась:
– Другой реакции никто и не ждет.
Она была сдержанна, может быть из-за Остроградского, к которому у нее «слабость», как однажды выразился Валерий Павлович? Но эта сдержанность была приятней, чем, например, фальшивое негодование Клушиной, которая расквохталась и потом уже никому не дала сказать хоть слово. Клушина, так же как и ее дурак-муж, была, без сомнения, довольна, хотя не кто иной, как Валерий Павлович, вывел этого скользкого Клушина в люди. И Челнокова, которую Мария Ивановна вылечила от невралгии, была довольна, хотя и промямлила что-то насчет ответственности за клевету. «Экий мешок», – с отвращением подумала Мария Ивановна, когда огромная Челнокова встала, хотя за пять минут до прихода Снегиревой, очевидно, не собиралась уходить, а ждала ужина, чтобы нажраться.
Клушина, к сожалению, осталась. От статьи она, не закрывая рта, перелетела к какой-то домработнице, которая на седьмом месяце явилась к ней наниматься! – можете себе представить это нахальство!
Усталая, с головной болью Снегирева вернулась домой. Ей показалось, что даже старуха-лифтерша смотрит на нее иначе, чем прежде. «Заболеваю», – подумала она, заметив блеснувший откровенной ненавистью взгляд этой лифтерши, всегда лебезившей перед ней.
В содовой ванне, которую Мария Ивановна считала прекрасным средством от нервного переутомления, ей пришла в голову оригинальная мысль: она сама напишет ответ. Не жалобу, потому что жаловаться надо в правительство, и лучше, если это сделает сам Валерий. Именно ответ клеветнику, как там его фамилия?
Еще лежа в ванне, она стала сочинять этот ответ: «Гиганты науки не впервые подвергаются нападкам и поруганию. Нет ничего удивительного в том, что подобная участь…»
Она писала ответ до утра. «Как смеете вы шельмовать ученого, внесшего громадный вклад в народное хозяйство нашей страны?..» «Статья называется „О совести ученого“. Но где же совесть писателя?»
Перед рассветом она задремала и очнулась разбитая, с тяжелой мигренью. Как всегда при мигренях, она видела хуже, чем обычно, и должна была почти вплотную приблизиться к зеркалу, чтобы разглядеть лиловое лицо с длинными мешочками под глазами. «Хороша», – подумала она с отвращением.
Валерия Павловича уже не было дома. Сильно щурясь, она выпила кофе и отослала домработницу в магазин.
Аспирантка, не та рыжая, фамилию которой Марья Ивановна никак не могла запомнить, а другая, Шахлина, позвонила, чтобы рассказать, что вчера студенты покупали газету со статьей по рублю за номер.
Шахлина возмущалась, но странно – даже в ее восклицаниях чувствовалось тайное злорадство, хотя, как все аспирантки, она была, конечно, без памяти влюблена в ее мужа.
К обеду письмо было закончено. Может быть, немного длинно? Мария Ивановна без сил прилегла на диван. Фрося, домработница, заглянула за какими-то распоряжениями – она отослала ее. Алеша вернулся из школы, по-видимому с Женей Крупениным, из коридора донеслись их негромкие голоса. «А не прочитать ли мое письмо мальчикам? – подумалось ей. – Будет хуже, если они услышат о статье со стороны. Возможно даже, что нашлись негодяи, которые уже успели подсунуть газету Алеше?»
То, что она услышала, подойдя к Алешиной двери, заставило ее простоять полчаса, почти не дыша.
– Сперва я хотел, как Долохов, – сказал Женя. – Помнишь, из «Войны и мира»? А потом решил пройти из отцовского кабинета в столовую по кромке.
– По какой кромке?
– Там есть кромка. Короткая, несколько шагов, а потом можно ухватиться за решетку балкона.
Мария Ивановна выпрямилась. Она помнила эту кромку и с ужасом вообразила на ней своего рассеянного, близорукого Алешу. Крупенины жили на восьмом этаже.
– Прошел?
– Да.
– И ничего не доказал.
– Почему?
– Потому что можно физически не быть трусом, а морально дрожать как осиновый лист.
Они помолчали.
– Я слышал, как мать сердилась на него за Остроградского, – сказал Женя. – Но почему отец так испугался его? Почему?
– Это интересно, но только теоретически.
– То есть?
– Потому что он не испугался бы, если бы не было причины, – слабо, но отчетливо сказал Алеша.
– Что ты хочешь сказать?
– Ничего. Вообще, спроси его сам, если на то пошло. Небось слабо? Это тебе не кромка.
Снова помолчали.
– Слушай, а ведь я спрошу, – зазвеневшим голосом сказал Женя. – У нас с ним условие, давнишнее, еще когда мне было десять лет. Я должен за день приготовить вопросы, а он по вечерам отвечает, иногда, между прочим, занятно.
– Не ответит.
– Ответит.
– Может соврать.
Они заговорили шепотом.
– А я так не могу, – сказал Алеша. У него был взволнованный голос.
– Трусишь?
– Да.
– Еще ладно, что признаешься, – с презрением сказал Женя. – А если он спросит почему?
– Мало ли почему? Мои марки. Захотел и роздал.
Они заговорили о другом. Но Мария Ивановна еще долго стояла у двери с болезненной пустотой в голове, с внезапно онемевшими руками и ногами.
31
Перемены были даже в том, как вертелся Клушин, на которого в конце концов пришлось накричать. Клушин должен был послать от сотрудников кафедры строго объективное письмо: факты подтасованы, ложно использованы, искажены. Копия – в «Правду».
Перемены были и в том, как держался Данилов, на которого нельзя было накричать, как на Клушина, потому что он стал теперь заметной фигурой. Данилов полуобещал написать в редакцию, а потом посоветовал отсидеться. Персиков, Метакса, Коренев лебезили так же, как прежде, и все-таки немного не так.
Все это были перемены, хотя и не очень заметные, но характерные, приводящие в бешенство, от которых темнело в глазах, а сердце начинало стучать где-то в горле. Некогда было размышлять над ними, и он ломал их, шагал через них. Он знал и другое: как бы эти люди ни юлили, им придется его защищать, потому что они так же боятся этих перемен, как и он.
Они боятся, потому что сегодня он полетит вверх тормашками, а завтра может прийти их черед. Когда-то старый сухарь Данилов сказал, смеясь: «А здорово мы с тобой, Валерий Павлыч, разгромили советскую ихтиологию». «Мы с тобой». Он это сказал не случайно.
Но самая непостижимая, угрожающая перемена заключалась, разумеется, в том, что Кулябко позвонил в редакцию, а статью взяли да и напечатали как ни в чем не бывало. Значит ли это, что редакция опирается на кого-то другого? Плохо, если так, потому что этим другим мог оказаться Спицын.
…Жена пришла в халате, с лиловым лицом, ступая осторожно, как цапля, и принесла «Ответ клеветнику» на пятнадцати страницах. Это было под вечер, он только что приехал от заместителя министра, который держался туманно и в конце концов дал понять, что, хотя он лично возмущен «бестактной статьей», ему кажется сомнительным, что газета напечатает опровержение.
– Прочти, Валерий. Я сделала все, что могла.
Он начал читать.
– Ох, матушка, хоть ты не дури мне голову, – сказал он, горько вздохнув.
– Ты должен поговорить с Алешей. Мальчика нельзя узнать.
– То есть?
– Очевидно, какие-то негодяи подсунули ему газету.
Снегирев болезненно сморщился:
– Марья, хотя Алешу взяла бы ты на себя. Ну объясни ему… Вот ты же написала!
– Я ему говорю: «Алеша, тише, папа не спит». А он отвечает: «Если не спит, почему же тише?»
– Ну и что же?
– Он роздал марки.
– Как роздал? Я только что подарил ему ценный альбом.
– Мальчикам.
Мария Ивановна заплакала – что было вовсе на нее не похоже – и ушла, оставив «Ответ клеветнику» на столе.
Снегирев прилег в сумерках, не зажигая огня. Что надо сделать не откладывая и что он сегодня так и не сделал? Нечаева! Он не договорился с Нечаевой, чтобы она написала в газету. Как-никак она профессор, письмо может произвести впечатление. Кроме того, ее нужно пустить по разговорной линии. Вообще, разговорную линию нельзя упускать.
«Это-то все получится, – подумал он устало. – А вот что действительно трудно…»
Действительно трудно было повторить то, что он уже сделал однажды, – добыть подходящую справку о Черкашине в психоневрологическом диспансере. Тогда, в 1948-м, удалось. Но тогда он отбивался от факультетской комиссии, которая хотя и могла его утопить, но не хотела. Теперь дело другое. Времена другие, и люди не те.
«Мальчика нельзя узнать», – вдруг вспомнилось ему, и он подумал, что из-за этой статьи он за всю зиму не больше чем два-три раза разговаривал с сыном. Когда это было, что он вошел к Алеше и тот как-то неловко пошевелился в кресле, точно ему сразу же захотелось убежать? Он отвечал односложно, не поднимая глаз от книги, бледный, худенький, сжавшийся, с острыми коленями, с острыми плечами.
– О, будьте вы все трижды прокляты, – громко сказал Снегирев. Он сердито вытер ладонью мокрые щеки.
32
Ольга Прохоровна не сразу заметила, что она торопится в Лазаревку не потому, что беспокоится за дочку – Остроградский подружился с Оленькой, они отлично хозяйничали вдвоем, – а потому, что каждый вечер он рассказывал что-нибудь интересное, и Ольга Прохоровна с утра начинала думать об этих вечерних часах за столом.
Он прожил не одну, а несколько жизней – так ему казалось. Он как бы открыл в себе возможность переключения – в конце концов она поняла эту мысль, хотя многое из того, о чем он говорил, скорее чувствовала, чем понимала.
Вероятно, для того, чтобы начать вторую жизнь, надо прожить прежнюю до конца. Вот это – к сожалению или счастью? – не удавалось. Наука была всегда – и в лагере, где было не до науки.
– Способность переключения, вообще говоря, свойственна физисам, – объяснил он однажды. – Вы, конечно, заметили, что я физис?
У него была шуточная теория, согласно которой человечество делится на физисов и психисов. Первые неудержимо стремятся к цели, в особенности когда дело касается любви, вторые действуют медленно, но верно. Физисы любят поесть, вспыльчивы, доверчивы. Психисы сдержанны, подозрительны и, в общем, равнодушны к еде. И те и другие мнительны, но физисы лечатся с наслаждением, а психисы – нервно, скептически, не доверяя врачам. И те и другие любят футбол, но физисы – беззаботно, легко меняя привязанности, а психисы – с предчувствиями, с дурными снами, предсказывая – из суеверия – поражения любимых команд.
Юлий Цезарь предпочитал солдат, которые в гневе краснеют. Это были физисы. Психисы бледнеют. Рубенс был физисом, не говоря уже о Дюма-отце, а из русских, разумеется, Лев Толстой, вопреки его философии.
– А вот я, например, не люблю футбол, – сказала Ольга Прохоровна, – значит я не психис и не физис.
Он посмотрел на нее смеющимися глазами:
– О нет, вы физис! Мне еще надо научить вас любить музыку, и тогда вы станете типичным физисом. Вроде меня.
Иногда они слушали музыку по радио, и Ольга Прохоровна жаловалась, что не может заставить себя только слушать, не думая ни о чем.
Ольга Прохоровна рассказывала о себе, хотя еще недавно уверяла Остроградского, что рассказывать не о чем, потому что в ее жизни не было ничего интересного. Но оказалось, что ему интересно даже то, что осенними вечерами она с отцом коптила в печке, на угольях, селедку, заворачивая ее в газетную бумагу. Он хохотал, как ребенок, когда она рассказала, как в десятом классе влюбилась в пожилого лысого учителя литературы и мучилась не тем, что он пожилой и лысый, а тем, что он маленького роста.
– И ведь все это было значительно, важно. Потом мне приходилось напоминать себе, какой я была тогда, чтобы понять, почему мне казалось, что это так значительно и важно!
Из лесничества Ольга бегала в школу на лыжах и опаздывала, потому что надо было посмотреть, что происходит в березовой роще. Ничего не происходило в роще, она просто стояла на солнце, нарядная, убравшаяся инеем, покачивая длинными, простоволосыми космами ветвей. Но посмотреть все-таки надо было, и даже не посмотреть, а заглянуть, как в знакомый дом, где тебя ждут и любят. Отец не велел оклеивать обоями ее комнату, бревна начинали горьковато пахнуть сосной, когда топилась печка, – и это тоже был лес, который она любила.
У нее было чувство, что когда-то она уже вспоминала все это, потом забыла, а теперь снова вспоминает с трудом, с удивлением. Неужели это она держала с мальчишками пари, что прыгнет на лыжах с высокого четырехметрового трамплина, – и прыгнула, и сломала лыжи, которые только что подарил ей отец?
И Анатолий Осипович вспоминал свое детство. Каждую осень перед началом учебного года на двор въезжала крытая повозка, набитая старыми журналами. Бумага шла на переплеты для учебников, но, прежде чем отец, покашливая в редкие монгольские усы, неторопливый, молчаливый, принимался за работу, мальчики (у Анатолия Осиповича был младший брат Гриша) уже с головой ныряли в журналы. Грише нравилось «Пробуждение». На каждой странице были виньетки, силуэты, медальоны. Женщины с распущенными волосами, в хитонах, улыбались загадочно и томно. Поэты подписывались странно: Черный Бор, Лидия Лесная.
– А я читал все подряд. В «Вестнике знания» – о первых воздухоплавателях. Монгольфье, Лилиенталь! В самых именах было что-то летящее, легкое!
Случались вечера, когда Остроградский не то что чувствовал себя плохо, но «существовал с усилием», как он сам говорил. Он серел, в черных глазах появлялось выражение тоски. Ольга Прохоровна уговорила его поехать к врачу – и он вернулся веселый.
– Да это мудрец Соломон, – сказал он. – Он спросил меня, слышал ли я такое выражение – «память сердца»? «У вашего сердца хорошая память. Когда-то вы перенесли микроинфаркт на ногах и забыли. А оно не забыло».
Ольга Прохоровна заказала микстуру, но он не стал ее принимать.
– Я сторонник более радикальных мер, – сказал он, смеясь. – Реабилитация, прописка. Вообще, счастье. А фармакопея, Ольга Прохоровна, помогала человечеству в девятнадцатом веке.
Реабилитация двигалась далеко не так быстро, как хотелось, с каждым днем отставая от других дел, связанных с восстанавливающимся положением. Кошкин был назначен главным редактором «Зоологического журнала» – если бы Остроградский был прописан в Москве, он получил бы штатную работу. В Издательстве иностранной литературы ему предложили должность старшего редактора и вежливо уклонились от оформления, узнав, что он еще не реабилитирован.
33
Плохо было, что Кузин лежал в больнице со своей язвой и, следовательно, не мог присутствовать при разговоре. Но еще хуже было то, что разговаривать предстояло с Горшковым, который не понравился Остроградскому на совещании.
Он знал таких людей, потому что встречался с ними повсюду – в экспедициях, в научных учреждениях, в лагерях, где их было много среди начальников и среди заключенных. Это были люди, ежеминутно (внутренне) оглядывающиеся, к чему-то прислушивающиеся и давно разучившиеся думать о чем-либо, кроме собственной безопасности. Со своими круглыми фразами Горшков производил жалкое впечатление, может быть, еще и потому, что у него была мужественная внешность. Он встретил Остроградского вежливо, но неопределенно.
– Да, благодарю вас, конечно, – перебил он, едва Остроградский начал рассказывать ему о практическом значении своей продуманной еще в лагере работы. (Неудобно было сразу заговорить о реабилитации.) – Я позвоню М. – Он назвал знаменитое имя. – И мы обратимся к вам, в случае необходимости, непременно.
Было ясно, что он и не подумает звонить М. и что Остроградский совершенно не нужен ему, даже если его концепция способна совершить переворот в науке. Ему хотелось, чтобы статья «Совесть ученого» не появлялась в печати и чтобы вообще ничего не было, но одновременно все-таки как-то и было.
По-видимому, было бессмысленно говорить с ним о том, чтобы редакция обратилась в Верховный суд с просьбой ускорить реабилитацию. Но Остроградский все-таки заговорил, вспомнив чувство напряжения, которое невольно испытывал всякий раз, проходя мимо милиционера. Как-никак он был прописан в одном месте, а жил в другом. Гонорары в Издательстве иностранной литературы, в Институте информации приходилось выписывать на Баеву или Лепесткова.
– Мне хотелось узнать… – начал он.
Горшков выслушал его.
– Разумеется, мы охотно поддержали бы вас, – сказал он, – хотя санкцию на это должен дать главный редактор. Но, Анатолий Осипович, тут едва ли поможет вам наша газета! Тут надо что-нибудь более влиятельное, солидное… «Известия», «Правда».
Остроградский помолчал.
– Понятно, – почти грубо сказал он. – Тогда вот что: вы можете дать мне два-три номера газеты с этой статьей?
– О, разумеется.
Он взял газету, поблагодарил и ушел.
Он недавно был в прокуратуре, и сегодня не пошел бы снова, если бы не этот разозливший его разговор. Там, в прокуратуре, сидел свой Горшков, только менее вежливый, разговаривающий сквозь зубы. В прошлый раз он почему-то злобно вскинулся, узнав, что у Остроградского на руках осталась копия приговора. «Откуда у вас это? Вы не должны это иметь».
Просидев два часа в битком набитой приемной, среди таких же, как он, бывших лагерников, Остроградский вошел в кабинет – и удивился. На месте прежней окостеневшей скотины сидел молодой человек, румяный, сероглазый, лет тридцати, с хорошим лицом.
– Конечно, ему легко было дать такой совет, – заметил он (Остроградский рассказал, что жаловался заместителю прокурора, что ему не дают жить в Москве, и тот сказал: «Живите»), – но милиции еще легче оштрафовать вас за нарушение паспортного режима.
– Вот именно. Послушайте, я хотел вас попросить. Вы не можете ускорить это дело?
– По чести говоря, нет, – сказал прокурор. – Вы не представляете себе, что творится. Сейчас мы реабилитируем быстро, и хотя я не знаком с вашим делом… Я здесь человек новый.
– Вижу.
– И занимался до сих пор, между прочим, Катоном Старшим.
– Да?
– Но вот мобилизовали, или, вернее, сам мобилизовался – и не жалею.
Они помолчали.
– Послушайте, я хочу оставить вам этот номер газеты, – сказал Остроградский. – Здесь напечатана одна статья.
– О вас?
– Да. И еще об одном человеке, который, может быть, упоминается в деле. Прочтите.
– Непременно.
– И еще одно. Что, если бы за меня кто-нибудь поручился?
– Не помешает. Кто?
– Например, академик Кошкин.
– Отлично, – сказал прокурор одобрительно, но как-то так, что сразу стало ясно, что об академике Кошкине он слышит впервые.
– Или, может быть… У меня есть один знакомый артист.
Остроградский назвал фамилию.
– Да ну? Вы с ним знакомы? Давно?
– Лет сорок. Мы учились в одной школе, в одном классе.
– Что вы говорите! А он уже и тогда…
– Нет, тогда он был самый обыкновенный парень. Здорово свистал.
– Интересно, – сказал прокурор. Его серые глаза оживились. – Вы слышали, как он читает «Старосветских помещиков»?
– Нет.
– Гениально. Все перед глазами, и жалко, ну просто до слез. Словом, это будет очень хорошо, если он пришлет поручительство, очень.
Остроградский ушел из Верховного суда в прекрасном настроении, хотя прокурор почти ничего не обещал. Но в том восторге, с которым он говорил о «Старосветских помещиках», было что-то обнадеживающее. Если уж старосветских помещиков ему жалко до слез…
34
Ему захотелось сразу же рассказать Ольге Прохоровне об этом разговоре, но был разгар рабочего дня, и он решил сперва побродить по Москве, а потом зайти к ней в библиотеку.
День был солнечный после морозной ночи, парок завивался и таял на потемневшем, чуть влажном тротуаре. Дома стояли в матовой изморози, и в воздухе была эта изморозь, разноцветно вспыхивающая на солнце. Однообразный уличный утомительный шум вдруг обрывался, точно громадный оркестр настраивал инструменты, взмах палочкой – и все умолкало.
Он шел – и Москва его молодости проступала, четкая, как гравюра в старых книгах под матовой, прозрачной бумагой. Москва с садиком на Кудринской площади, с другими садиками и палисадниками, с никого не удивлявшей перекличкой петухов по утрам. С бульварами, которые сегодня скрипели бы от блеска и снега и были бы белыми и синими от косых теней на снегу.
С Большой Никитской он свернул на Тверской бульвар, где теперь не было ни Камерного театра, ни кино «Великий немой», ни деревянного балагана, в котором продавались медовые маковки, твердые, как железо. Вот здесь, рядом с кино, жил в 1919 году Иван Александрович Кошкин. В большой пустой квартире потрескивали от мороза и отваливались большими кусками заиндевевшие обои. Иван Александрович, такой же желто-седой, с медвежьими глазками, отжимал мерзлую картошку, а потом жарил оладьи на сковородке, которую вместо масла быстро смазывал стеариновой свечкой, а Толя Остроградский, в оборванном романовском полушубке, голодный и нахальный, ходил из угла в угол и доказывал, что одной из главных задач мировой революции является погружение батисферы в морские глубины вблизи Марианских островов.
А вот здесь жили сестры Раздольские, Нина и Вера, хорошенькая и нехорошенькая, и он нарочно стал ухаживать за нехорошенькой, а потом уже и не нарочно.
Все это была Москва до Ирины, Москва двадцатых, студенческих лет. Но вот он перешел Пушкинскую площадь, спустился к Петровке, и началась Москва Ирины, с тревогой отцовства, с сонными вздохами розовой, нежной, веселой жены, которую он никак не мог разбудить по утрам.
На пятачке, где теперь стоянка такси, была церковь, которую снесли в тридцатых годах. Цветочный магазин (бывший Ноева) напротив Столешникова еще сохранился в маленьком, одноэтажном здании, казавшемся странным в центре Москвы. Против Петровского пассажа, на месте садика, появившегося уже после войны, стояли двухэтажные дома, а на углу Кузнецкого и Петровки ампирный дом с колоннами. Продавец воздушных шаров всегда стоял вот здесь, у пассажа, и, когда у него покупали шары, отвязывал их ловко, небрежно, точно они не могли улететь.
…Он не зашел за Ольгой Прохоровной и поехал в Лазаревку один.
35
Зима с яркими, солнечными утрами, с колющим ветром, с крепким, вкусным, скрипящим снегом, который каждый день с ночи начинали увозить и никак не могли увезти из Москвы, наконец переломилась, обмякла. В матовом воздухе с бродящей полосой тумана уже брезжил март, когда Кузин позвонил и попросил разрешения прийти ко мне с Лепестковым.
– Вообще-то, еще не зарубцевалась, – ответил он. (Я спросил, как его язва.) – Но, вот видите, пришлось выписаться. Словом, поговорим.
Он пришел посвежевший, слегка округлившийся, – пожалуй, теперь хватило бы четырех углов, чтобы нарисовать его голенастую фигуру. И Лепестков изменился. Этот, напротив, похудел – и заметно. Прежде в его лице, длинно-круглом, розовом, с туманным взглядом, были и твердость и мягкость. Теперь осталась только твердость, особенно заметная в поджатых губах.
– Что ж, плохо дело, – бодро начал Кузин. Он приехал с толстым портфелем. – Шеф извлек меня из Второй градской и приказал проверить все заявления Снегирева и иже с ним. Это значит, что я должен опрокинуть груду клеветы, доносов и просто вздора, а потом доказать, что мы поступили правильно, напечатав вашу статью. Редакция должна оправдаться. Перед кем? Не знаю. Горшков ушел в кусты.
– В самом деле?
– Притворился, что вообще почти не существовал, когда печаталась ваша статья. Болел, уезжал, разводился с женой, собирался в творческий отпуск. Фантом страха, – со вздохом сказал Кузин. – Распространяется мгновенно, со скоростью света. На меня уже посматривают с сожалением: попал в историю! Черт с ними! Я сказал шефу, что мне одному не справиться, и он выдал мне помощника по фамилии Гершановичюс. Дельный малый! Так вот коротко: Снегирев добивается, чтобы газета напечатала опровержение, – и добьется, если мы этому не помешаем. Мы – это, в частности, вы.
– Я?
– Да.
Кузин вынул из портфеля две папки, толстую и тонкую. На толстой было написано крупно: «Письма отрицательные», а на тонкой: «Письма положительные».
– Вы, оказывается, человек-невидимка.
– В самом деле?
– Да. Вы умеете бесследно исчезать под маской уважаемого писателя. Вы просто делец, которого давно пора поставить на место.
Кузин развязал папку и стал читать отчеркнутые места:
– «Вы дали нашим врагам за границей богатый материал для издевательства над советской наукой… Ваша грязная статейка – это не поиски честности в науке, а бесчестная месть… Над ней смеются даже юннаты… Она представляет собою возмутительный пример тенденциозности и подтасовки фактов». Некоторые выражения повторяются дословно, – заметил в скобках Кузин, – хотя авторы находятся в разных городах и, очевидно, не имеют понятия друг о друге. С юридической точки зрения это улика. – Он положил письма на стол. – Так-с. Считайте, что я сообщил о том, что происходит в мире малом – то есть в нашей газете. Теперь попросим Михаила Леонтьевича рассказать о том, что происходит в мире науки.
Молча слушавший, а может быть, и не слушавший (он с неодобрением водил глазами по стенам, на которых висели недурные, с моей точки зрения, картины) Лепестков встрепенулся и заговорил:
– Я, между прочим, тоже написал вам письмо, но оно, очевидно, находится в «положительной» папке. Мне кажется, что ваша статья в известном смысле – событие.
– Спасибо.
– Нет, спасибо вам. К сожалению, она далеко не полна.
– В каком смысле?
– Некоторых поразительных фактов в ней не хватает.
– А именно?
– Ну вот хотя бы проверка, о которой говорил Проваторов. Возражения Снегирева обошлись ВНИРО – следовательно, государству – в полтора миллиона рублей.
Лепестков говорил мягким голосом, как будто сожалея о том, что вынужден упрекнуть меня в полуправде.
– Это все?
– Нет. Вам удалось рассказать о Снегиреве. Но Остроградский… Мне кажется, вы написали бы лучше, если бы немного больше узнали о нем.
– Например?
– Он был арестован по вздорному обвинению, но в тюрьме от него добивались – известно, как это делалось, – признания в том, что акклиматизация кольчатого червя – вредительство. Он отказался и объявил голодовку.
– Ну, знаете, – добродушно сказал Кузин, – об этом уж вы сами пишите.
– А я и напишу. Теперь о другом. Конечно, невозможно перечислить все оттенки отношения к вашей статье. Сейчас многие начинают догадываться, что можно работать, так сказать, «мимо» снегиревых, и дорожат этой возможностью, считая, что победа подлинной науки все равно неизбежна. Так стоит ли вмешиваться?
Он помолчал.
– Другие отнюдь не рассчитывают, что победа придет сама собой, и убеждены, что для этого надо многое, в том числе и такие статьи, как ваша. Кстати сказать, во ВНИРО состоялось обсуждение статьи. В целом – за, хотя были и возражения. Так вот, решается вопрос: заступиться или отступиться? И кажется, что подумывают заступиться. Этого следовало ожидать: отделаться от Снегирева хотя и заманчиво, но не так-то просто. Теперь насчет опровержения. Если ему удастся добиться опровержения, это будет очень плохо – и прежде всего для Остроградского. Сейчас его дело пересматривается в Верховном суде. Статья может ускорить реабилитацию. В сущности, она сама по себе является реабилитацией – если не в юридическом, так в общественном смысле.
– А вы думаете, что в Верховном суде читают газету «Научная жизнь»?
– Может быть, и нет. Но этот номер прочли. Остроградский сам отвез его прокурору.
– Понимаю. Важно, чтобы опровержение не появилось. Но что же я-то могу для этого сделать?
Лепестков посмотрел на Кузина, который сидел с таким видом, как будто самого главного он еще не сказал. Потом на меня. Мы помолчали.
– Прежде всего, – сказал наконец Лепестков, – надо доказать, что вы и Остроградский не родственники.
Я засмеялся.
– Слушайте, слушайте, – сказал Кузин.
– Видите ли, по поводу вашей статьи большое волнение. Сейчас оно, впрочем, начинает уже утихать. Студенты, в частности комитет комсомола, требовали широкого обсуждения. Партком тянул, обещал, снова тянул – собственно, не партком, а Сотников. Одновременно работала комиссия. На днях ее доклад обсуждался на парткоме, и вот тут-то и было сказано, что вы и Остроградский – родственники. Его дочь замужем за вашим сыном, заявил Сотников, а за ним еще кое-кто. – Он вопросительно посмотрел на Кузина. – Кажется, это нашло отражение в письмах?
– Да.
– Кстати, многие выступали против Снегирева, так что постановление прошло с трудом. Но прошло. Кое-кто утверждал, что Остроградский тут вообще ни при чем. И что вся эта затея понадобилась вам для книги «Преобразователи природы». Так вы не родственники?
Я засмеялся:
– Впервые увидел его в редакции.
– Один парень, между прочим честный, задал мне этот вопрос, и я ответил, что если вы родственники, значит вы оба гениальные актеры, потому что даже по системе Станиславского нельзя было естественнее разыграть первое знакомство. Надо написать, что вы не родственники.
– Куда?
– В партком.
– Копия – в ЦК, в нашу редакцию и в «Правду», – прибавил Кузин.
– Но тогда надо, чтобы написал и Остроградский.
– Уже.
Это была краткая автобиография: «Я родился в 1904 году в Екатеринбурге. Мой отец Осип Александрович родом из Нижнего Новгорода. Девичья фамилия матери – Вернер, она родом из Саранска. Наша семья жила в Москве с марта 1917 года. У меня есть племянница – Анна Георгиевна Долгушина. Моя жена Стеллецкая Ирина Павловна и дочь Мария, 6 лет, скончались в Москве летом 1951 года. Мой брат Григорий Осипович служил на Балтийском флоте и был убит во время Отечественной войны…»
В конце Остроградский упоминал, что увидел меня впервые на заседании в газете «Научная жизнь». Никто из его родственников и друзей лично со мной знаком не был.
Я вернул заявление Кузину. Должно быть, у меня было расстроенное лицо, потому что он сочувственно сморщился.
– Так-то, дорогой мой, – сказал он. – Это вам не романы писать.
Они ушли, а я задумался над дикой необходимостью доказывать, что мы с Остроградским не родственники, хотя, если бы мы были родственниками, вполне естественно с моей стороны было бы за него заступиться. Меня подозревали в том, что я написал о нем, потому что его дочь, которая умерла, когда ей было шесть лет, вышла замуж за моего сына, которому минуло двадцать.
Но и другие мысли пришли мне в голову, когда я принялся за свое письмо, состоявшее главным образом из отрицаний. Сопротивление Снегирева представилось мне в сценах, которые я вдруг увидел его глазами, а не своими. Это бешенство, этот опыт деятеля, умело опирающегося на подозрительность, недоверие, на смутное чувство вины, скользящее за тобой по пятам.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?