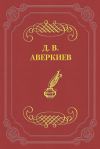Читать книгу "Асмодей нашего времени"

Автор книги: Виктор Аскоченский
Жанр: Литература 19 века, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Больно и обидно было Онисиму Сергеевичу такое оскорбленіе его нѣжной, хоть и не совсѣмъ разумной, любви къ дѣтямъ. Сама Соломонида Егоровна на первыхъ порахъ не осмѣливалась соваться съ своими убѣжденіями и утѣшеніями, когда Онисимъ Сергеевичъ жаловался на неблагодарность и безчувственность дѣтей. Лишь изрѣдка позволяла она себѣ сказать какую нибудь великолѣпную сентенцію о жестокости судьбы, всегда преслѣдующей людей достойныхъ, или о твердомъ перенесеніи несчастій. Черезъ нѣсколько однакожь времени, когда первое непріятное впечатлѣніе ослабѣло, Соломонида Егоровна заговорила уже смѣлѣе, и даже сказала однажды, что должность Становаго отнюдь не унижаетъ Виталія и всей ихъ фамиліи, потому-что вонъ-дескать и король французскій Филпппъ былъ какъ то деревенскимъ учителемъ.
Но ни Онисимъ Сергеевичъ, ни Соломонида Егоровна не взяли въ толкъ того, что въ этомъ дѣлѣ они виноваты больше, чѣмъ кто либо другой. Ужь такъ устроена природа человѣческая. Себя обвинить – Боже сохрани! Ужь если не на кого, то мы на судьбу свалимъ.
Примѣръ старшаго сына плохо однакожь вразумилъ Онисима Сергеевича. Жоржъ готовилъ ему еще большія непріятности. Назойливость и нахальство развивались въ немъ не по лѣтамъ; а добрая маменька увѣряла слабаго папеньку, что Жоржъ ихъ понимаетъ себя очень хорошо, что онъ чрезвычайно почтителенъ и слушается каждаго ея слова. Послѣднее, дѣйствительно, было справедливо, потому что Жоржъ превосходно понималъ, что маменька его послѣ нравоучительной тирадки всегда становится необыкновенно добра и безотказно наполняетъ щегольской его портъ-моне. Самъ Онисимъ Сергеевичъ, по какому-то странному ослѣпленію, вѣрилъ, что Жоржъ малой съ добрымъ сердцемъ, хоть и шалопай немножко. "Ну, да это, говорилъ онъ, только подъ крыломъ матушки, а вотъ какъ поступишь, братъ, въ училище, да потянешь лямку на службѣ,такъ узнаешь Кузькину мать, въ чемъ она ходитъ. "
Глава пятая
Въ городъ В. пріѣхалъ какой-то заграничный артистъ удивлять своимъ талантомъ непросвѣщенную и добрую Русь. Извѣстно, что эти господа считаютъ наше любезное Отечество чѣмъ-то въ родѣ Калифорніи, и съ благодарностью принимая за границей скромные франки и горемычные цванцигеры, отъ насъ непремѣнно требуютъ полновѣсныхъ рублей. А мы сдуру-то и платимъ имъ, да еще принуждены бываемъ выслушивать ихъ громкія жалобы на то, что ихъ тутъ цѣнить не умѣютъ, что за границей хоть и мало имъ платятъ, за то вишь они добываютъ тамъ славу и извѣстность.
– Славу и извѣстность, говорилъ однажды при мнѣ старый полковникъ, взявшій для падчерицы своей, да кстати ужь и для себя, билетъ въ какой-то концертъ, что стоило ему пяти серебрянныхъ рублей:– славу и извѣстность-вишь оно какъ! Ну и жили бы тамъ съ своей славой и извѣстностью! Такъ нѣтъ же, лезутъ къ намъ за безславными рублями и безъизвѣстными червонцами. То-то и есть-то; видно, и соловьи отъ своихъ пѣсенъ сыты не бываютъ!
Онисимъ Сергеевичъ, встрѣтивъ у губернатора заѣзжаго гостя, долгомъ почелъ познакомиться съ нимъ, и почитая свою Елену тоже не послѣдней артисткой, запросилъ его къ себѣ. Отказа не было, потому что голодный артистъ разсчиталъ между прочимъ на сбытъ нѣсколькихъ билетовъ черезъ руки гостей и хозяина. Слѣдствіемъ этого было то, что Онисимъ Сергеевичъ открылъ у себя музыкальный вечеръ, на который, между многими другими, приглашенъ и Софьинъ, уже успѣвшій пріобрѣсть ближайшее знакомство съ Небѣдой и даже благоволеніе самой Соломониды Егоровны.
Въ назначенный день совсѣмъ неожиданно пріѣхалъ къ Владиміру Петровичу передъ самымъ вечеромъ Племянничковъ, разфранченный на пропалую.
– Нѣтъ ли у васъ, дяденька, воротничковъ получше? сказалъ онъ, вынимая изъ кармана свѣжія, еще ненадѣванныя перчатки.
– Я не ношу ихъ, а что такое?
– Стало быть съ моими помятыми я не произведу желаемаго эффекта.
– Гдѣжь это?
– У Небѣдовъ-съ.
– А вы тамъ будете?
– Какъ же-съ.
– Приглашены?
– Нѣтъ-съ, мы дѣйствуемъ по аглецки; явимся и безъ приглашенія. А что такое, развѣ у нихъ балъ какой?
– Балъ не балъ, но что-то въ родѣ вечера.
– Тѣмъ лучше! значитъ, я не даромъ израсходовался на бѣлыя перчатки.
– Какой-то проѣзжій артистъ будетъ играть тамъ.
– И превосходно! Значитъ, не будемъ затрудняться въ выборѣ предмета для пріятнаго conversation. Фу, канальство! Вотъ разойдусь! говорилъ Племянничковъ, потирая отъ удовольствія руки. То есть, вы ахнете, дяденька, отъ удивленія моимъ музыкальнымъ свѣдѣніямъ! А то въ самомъ дѣлѣ съ этой барыней трудно попасть въ линію.
– Ахъ, да; я давно хотѣлъ спросить, вѣдь вы были у нихъ съ визитомъ?
– Былъ-съ, какъ-же.
– Чтожь вы мнѣ не разскажете, какъ васъ тамъ приняли?
– Да нечего разсказывать. А не вспоминали тамъ ни разу обо мнѣ?
– Нѣтъ, что-то ни помнится.
– Дурно! Стало быть не произвелъ должнаго впечатлѣнія.
– Напротивъ, это хорошо; а то я знаю ваши впечатлѣнія-то.
– Знаете? Ну, такъ знайтежь; я нагородилъ тамъ ужаснѣйшихъ глупостей.
– Такъ и есть!
– Нельзяже-съ, дяденька. Можете вообразить, прихожу это, раскланиваюсь, какъ слѣдуетъ, рекомендуюсь, что – молъ такъ и такъ, "проливалъ въ нѣкоторомъ отношеніи кровь на пользу отечества," прошу удостоить… словомъ, отрекомендовался, какъ долгъ велитъ, и сѣлъ. Только что хотѣлъ я затянуть пѣсню о погодѣ,– мадамъ Небѣда, не давъ мнѣ промолвить слова, понесла такую аристократическую дичь…
– Эхъ, крякнулъ Софьинъ, нетерпѣливо повернувшись въ креслѣ.
– Пожалуйте жь, дяденька, чѣмъ это кончилось. Не желая ударить лицомъ въ грязь, я и себѣ пустился въ аристократическіе разсказы. Мы съ ней объѣздили весь Петербургъ, всѣхъ вельможъ и бюрократовъ, и чуть, чуть не застряли во Дворцѣ.
– Эхъ, какой же вы, право! сказалъ Софьинъ, качая головой.
– Позвольте же, позвольте. Барыня, чувствуя, что отъ меня такъ и пышетъ аристократизмомъ, сдѣлала умильную рожицу, и пожелала узнать, что я за птица. – Такъ себѣ, чиновникъ, сказалъ я. – Не родня ли вы почтъ-директору Платону Александровичу Племянничкову? – никакъ нѣтъ-съ. – Какихъ же вы? – Очень незначительныхъ: мой дѣдушка былъ приходскимъ дьячкомъ, а батюшка штатнымъ смотрителемъ.
– Охота же вамъ плести такія глупости!
– А чтожь мнѣ было дѣлать? Надобножь поддерживать разговоръ.
– Славно вы его поддерживаете!
– По всѣмъ правиламъ искусства. Отъ маленькихъ противорѣчій, дяденька, зависитъ интересъ разговора.
– А если она узнаетъ, что вы солгали?
– Скажу, пошутилъ.
– Съ дамой-то?
– Нѣтъ, съ барыней.
– Дурно, Ѳедоръ Степанычъ, не хорошо!
– За тожь, какъ опѣшила моя барыня! Вдругъ опустила голосъ нѣсколькими нотами ниже. Она принялась убѣждать меня въ самыхъ краснорѣчивыхъ выраженіяхъ, что незнатность происхожденія совершенно ничего не значитъ, что это не должно меня безпокоить, что у нихъ есть въ Петербургѣ знакомый генералъ, который тоже изъ поповичей, и что порядочные люди бываютъ во всякомъ сословіи. Я, разумѣется, совершенно согласился съ этимъ и усерднѣйше сталъ просить, тоже въ краснорѣчивыхъ оборотахъ, призрѣть мое ничтожество и бросить взглядъ благосклоннаго вниманія….
– Что вы мнѣ толкуете? Какъ же таки можно, чтобъ она не догадалась изъ словъ, изъ тону вашего, что вы такъ дерзко шутите?
– Куда ей дурѣ! Напротивъ, моя всеуниженнѣйшая просьба произвела самое лучшее впечатлѣніе! Съ важностію театральной герцогини госпожа Соломонида представила меня своей дочери старшей, не преминувъ однакожь тонко замѣтить, что я не изъ тѣхъ Племянничковыхъ, которыхъ, видите ли, они знали въ Петербургѣ, а изъ другихъ какихъ-то.
– Какихъ-то?
– Да, какихъ-то; такъ и сказала.
– Видите? Ктожь васъ виноватъ? Не болтайте пустаго!
– Мамзель однакожь ничего. Мы съ ней сошлись во взглядахъ. Она, изволите видѣть, дилетантка, – ну, это и мой конекъ. Мы перебрали съ нею всѣхъ артистовъ и всякому изъ нихъ дали надлежащую оцѣнку. Кстати, дяденька, что это за штука такая генералъ-басъ?
– А что такое?
– Да она замѣтила мнѣ, что я должно быть хорошо разумѣю генералъ-басъ. Натурально, я сказалъ, что очень хорошо. А между тѣмъ, позвольте узнать, дяденька, что это птица какая, опера или книга чтоль?
– За чѣмъ же вы берете на себя знаніе того, о чемъ и понятія не имѣете?
– Дѣйствительно, чортъ знаетъ за чѣмъ. Такъ вотъ съ языка сорвалось. Да спасибо Жоржу, подоспѣлъ на выручку.
– Ну, что же, какъ вы его нашли?
– Прекрасный молодой человѣкъ! Послѣ двухъ-трехъ словъ мы сошлись съ нимъ на короткую ногу.
– Стоило!
– И очень стоило. Такихъ папиросокъ и у васъ, дяденька, никогда не приводилось мнѣ курить. А главное, не стань я съ Жоржемъ въ дружескія отношенія, то врядъ ли бы госпожа Содомонида пригласила меня бывать у нихъ запросто.
– По дѣломъ вамъ! не болтайте пустяковъ!
– Разсказывайте! Пустяками-то, дяденька, и свѣтъ держится.
– А меньшой вы не видали? какъ-то отрывисто спросилъ Софьинъ, закуривая сигару.
– Кого, это меньшой, дяденька? сказалъ Племянничковъ, плутовски прищурясь.
– Кого меньшой! Marie.
– Marie… протяжно произнесъ Племянничковъ. Нѣтъ-съ, не видалъ-съ.
– Почемужь?
– Нездорова.
– Нездорова? сказалъ Софьинъ съ значительнымъ повышеніемъ голоса.
– Ухъ!
– Ѳедоръ Степановичъ! серьезно сказалъ Софьинъ, вставая съ кресла и начиная ходить по комнатѣ: я не люблю такихъ шутокъ.
– Виноватъ, дяденька, ей-богу, не буду. Видѣлъ, видѣлъ!
– Говорите о чемъ нибудь другомъ.
– Нѣтъ-съ, надо это кончить.
– Оставьте, пожалуста!
– Не могу, дяденька, порядокъ требуетъ.
Владиміръ Петровичъ быстро пошелъ и хлопнувъ дверью, заперся въ кабинетѣ.
– Вотъ оно и вышло-дышло! сказалъ Племянничковъ, оставшись одинъ. Однакожь, какъ это странно! Вѣдь вотъ и умный человѣкъ дяденька-то, а не съумѣлъ схитрить, попался. Мудренаго впрочемъ въ этомъ я ничего не вижу. Marie, нечего сказать, милая добрая и прехорошенькая дѣвушка, не чета этой… хоть и та ничего себѣ…. еслибъ не этотъ проклятый генералъ-басъ, который совсѣмъ сбилъ меня съ толку, мы успѣли бы очаровать другъ друга. Marie, кажется, замѣтила, какъ я сконфузился; за то какъ ловко лавировала она между аристократическимъ хвастовствомъ своей мамаши и дилетантизмомъ сестрицы! Главное то хорошо, что не хитрила и подъ часъ проговаривалась, какъ настоящая институтка. Я это люблю. Сколько я могъ замѣтитъ, дяденька-то у ней на счету. Жаль, что я не успѣлъ сказать ему этого. Дяденька! дяденька! заговорилъ онъ вслухъ, приложивъ ухо къ дверямъ кабинета.
Не дождавшись отвѣта, Племянничковъ запѣлъ жалобно: "Отворите мнѣ темницу".
Какъ ужь они тамъ поладили, Богъ ихъ знаетъ, только на вечеръ къ Онисиму Сергеевичу оба явились вмѣстѣ. Зала, въ которую они вошли, была освѣщена съ собственномъ смыслѣ блистательно, если принять въ соображеніе огромную люстру, горѣвшую, словно большой костеръ, и нѣсколько свѣчей на столѣ, заваленномъ нотами. Въ залѣ кочевало нѣсколько фрачниковъ и губернаторскій адъютантъ съ подержаннымъ и вѣчно-улыбающимся лицомъ. Въ гостиной сидѣло нѣсколько дамъ и мужчинъ солиднаго свойства. Откланявшись Соломонидѣ Егоровнѣ, разряженной въ пухъ и въ прахъ, Софьинъ сѣлъ въ незанятое кресло; Племянничковъ помѣстился близъ него, и на минуту прерванный разговоръ продолжался.
– Только чтожь бы вы думали? говорила Соломонида Егоровна. Подъѣзжаю я къ театру, гляжу: Тютюевъ генералъ. Я была совершенно изумлена, полагая его въ Тифлисѣ. Онъ провелъ насъ въ ложу и разсказалъ намъ объ этомъ происшествіи.
– А мнѣ говорили, сказалъ господинъ съ владиміромъ въ петлицѣ, что напротивъ, Лермонтовъ вызвалъ.
– Совсѣмъ нѣтъ! Комужь лучше знать, какъ не генералу? Тютюевъ говорилъ, что Лермонтовъ бывало у него по цѣлымъ часамъ дожидается пріема.
– Ахъ, maman! подхватила Елена, такой великій поэтъ – и въ пріемной! Это ужасно!
– Да, это дѣйствительно, подтвердила Соломонида Егоровна, Селифанъ Никифоровичъ престранный человѣкъ; никакого не обращаетъ вниманія на высшее вдохновеніе.
– Онъ смотритъ только на пуговицы да на пригонку мундировъ; я знаю его! замѣтилъ какой-то отставной военный въ преогромными усами.
– Это рѣшительно проза! подтвердила Елена. Imaginezvous, maman, онъ даже не знааетъ "Демона."
– Демона? сказалъ господинъ съ владиміромъ въ петлицѣ: какого это демона?
– Какъ, Порфирій Карповичъ, и вы не знаете Демона Лермонтова? съ изумленіемъ спросила Елена.
– И не дай Богъ знать его.
– Что вы говорите!
– Говорю то, что еслибъ и Лермоитовъ-то поменьше знакомился съ демонами, такъ его бы не уколотили. А то всѣ эти поэты да стихотворцы съ демонами за панибрата, а Господа Бога знать не знаютъ. Отъ того и бьютъ ихъ, какъ собакъ.
Софьинъ, къ сожалѣнію, мало обращалъ вниманія на такой разговоръ, предметомъ котораго была такая занимательная страница нашей литературы и притомъ объясняемая такъ мѣтко господиномъ съ владиміромъ въ петлицѣ. Онъ поглядывалъ въ уголъ, гдѣ на канапе сидѣла Marie, атакованная, какъ видно, любезностями господина съ лохматой головой и съ угловатыми чертами лица. Господинъ тотъ, положивъ ногу на ногу, почти лежалъ на канапе и разсказывалъ что-то въ полголоса, бросая насмѣшливые взгляды то на того, то на другаго гостя. При входѣ Софьина, онъ нахально вымѣрялъ его глазами и сказалъ Marie какое-то слово; вѣроятно, это слово не понравилось ей, потому что она съ замѣтнымъ неудовольствіемъ отодвинулась отъ своего собесѣдника и стала глядѣть въ противную отъ него сторону.
– Извините, громко сказалъ Онисимъ Сергеевичъ, входя въ гостиную. Здравствуйте, Владиміръ Петровичъ! А, и вы здѣсь? Хорошо сдѣлали, что пріѣхали сами.
Взоры всѣхъ обратились на Племянничкова, который, нисколько не растерявшись, первый подалъ руку Небѣдѣ.
– Что же? спросила Соломонида Егоровна.
– А чтожь, ничего, сказалъ Небѣда, не будетъ.
– Кто не будетъ, папаша? спросила Мари, оставляя свое мѣсто, съ явнымъ намѣреніемъ отдѣлаться отъ господина съ лохматой головой.
– Кто не будетъ, – Губернаторъ не будетъ.
– А Капачени?
– Капачини будетъ. Я самъ заѣзжалъ къ нему.
– А Жоржъ гдѣ? спросила Соломонида Егоровна.
– Остался у губернатора.
– Какъ это такъ?
– Да также, заартачился, останусь, говоритъ, вотъ и все. Ну я оставайся; тамъ, видишь, дѣти пріѣхали къ губернатору-то, сыновья, оба уланы, да лихіе такіе… А не угодно ли, господа, въ залу?
Гостя потянулись за Онисимомъ Сергеевичемъ.
– Bon soir, monsieur Софьинъ, сказалъ господинъ съ лохматой головой.
– Bon soir, monsieur Пустовцевъ.
– Что это за господинъ съ вами?
– Мой давній пріятель.
– Оригиналъ, какъ видно.
– Почемужь мои пріятеля должны быть оригиналами?
– Такъ мнѣ показалось.
– Если такъ, то вы, вѣрно, не захотите быть въ числѣ моихъ пріятелей.
– Га, да вы острякъ! сказалъ Пустовцевъ насмѣшливо, отступивъ на полшага и вымѣривая его глазами.
– Словцомъ перекидываетесь! сказалъ Онисимъ Сергеевичъ, подходя къ нимъ. Нѣтъ, батюшка Валеріанъ Ильичъ, тутъ вамъ взятки гладки. Не на того напали.
И взявъ подъ руку Софьина, Небѣда пошелъ въ залу. Владиміръ Петровичъ искренно благодарилъ про себя Небѣду, что онъ такъ кстати перебилъ разговоръ, который легко могъ кончиться какою нибудь непріятностью.
Изъ франтовъ, остававшихся въ залѣ, нѣкоторые оказались артистами. За пюльпитрами хлопотала віолончель съ физіономіей, будто бы сшитой изъ однихъ складокъ, точь въ точь старинныя фрески; двѣ скрипки и флейта съ красно-багровымъ носомъ. По всему замѣтно было, что они затѣвали положить начало этому вечеру какимъ нибудь квартетомъ.
Владиміръ Петровичъ, пущенный Небѣдою, подошелъ къ Marie, которая съ дѣтскимъ любопытствомъ! разсматривала щегольскую флейту, повертывая ее въ рукахъ и толкуя что-то господину флейтисту, улыбавшемуся весьма нѣжно и обязательно.
– А вы умѣете? сказала она Софьину.
– Не мастеръ.
– И хорошо дѣлаете.
– Какъ хорошо? спросилъ нѣсколько задѣтый этимъ флейтистъ.
– Инструментъ этотъ, отвѣчала Marie, страхъ какъ уродуетъ человѣка. Нашъ учитель Исторіи….
– Котораго, перебилъ Софьинъ, усмѣхаясь, – вы, конечно, "обожали"…
– Fi, онъ былъ такой гадкій, горбатый и съ преогромной головой.
– Извините, я перебилъ васъ.
– Нашъ учитель, продолжала Marie, говорилъ, что Алкивіадъ потому именно и бросилъ играть на флейтѣ….
– Кто такой-съ? спросилъ флейтистъ.
– Алкивіадъ, простодушно отвѣчала Marie.
– Лицо, мало извѣстное въ музыкальномъ мірѣ, замѣтилъ флейтистъ.
– Ктожь говоритъ вамъ, что онъ былъ музыкантъ? Это былъ… полководецъ такой, это… словомъ, это былъ "прелесть, очарованіе". Аѳиняне всѣ волочились за нимъ.
– Аѳиняне, подхватилъ флейтистъ, а не Аѳиняики? Ну, такъ онъ былъ артистъ на другомъ какомъ нибудь инструментѣ?
– Вовсе нѣтъ.
– Что это съ вами, Марья Онисимовна? смѣясь сказалъ Софьинъ. Ужь не хотите ли вы профессорствовать?
– И въ самомъ дѣлѣ! отвѣчала Marie, слегка покраснѣвъ. Какая же я школьница!
– Извольте-съ! провозгласилъ віолончелистъ, раскладывая на пюльпитрѣ какія-то ноты.
Віолончелистъ этотъ, какъ видно, заправлялъ цѣлымъ квартетомъ.
Софьинъ и Marie отошли и сѣли на одномъ изъ дивановъ. Минутъ черезъ пять квартетъ былъ въ полномъ разгарѣ. Всѣ присутствовавшіе оказывали приличное вниманіе, исключая Пустовцева, который, принявъ обычную свою позу, подпѣвалъ въ полголоса, отчаянно фальшивя на каждой нотѣ.
Квартетъ кончился. Онисимъ Сергеевичъ одинъ за всѣхъ поблагодарилъ артистовъ, подвизавшихся "изъ чести лишь одной."
– И что это тамъ черти задавили этого нѣмца проклятаго! Яковъ! нѣту нѣмца?
– Никакъ нѣту-съ, отвѣчалъ лакей, проходившій съ подносомъ.
– Коли нѣту, такъ и не надо.
Софьинъ и Marie ходили по залѣ. Онъ разсказывалъ что-то серьёзное хорошенькой собесѣдницѣ своей, которая, поворотивъ головку, смотрѣла на него глазами, полными участія и любопытства.
– Какъ же вамъ понравился квартетъ? сказалъ Пустовцевъ, подходя къ Marie съ другой стороны; на сжатыхъ губахъ его бродила злая усмѣшка.
– Квинтетъ развѣ, отвѣчала Marie съ улыбкой.
– Какъ квинтетъ?
– Вы же держали пятую партію.
– Ни ужь-то?
– Да, если только слухъ меня не обманываетъ.
– Такъ какъ же вы находите, пожалуй, хоть квинтетъ нашъ?
– Кромѣ пятой партіи, шелъ хорошо.
– А пятая?
– Очень плохо. Вѣрно не приготовлена, какъ надо.
– Вы злы сегодня.
– Немножко.
– Отъ чего это?
– Вѣрно отъ того, что съ вами долго сидѣла; научилась отъ васъ.
Софьинъ, проходя мимо столика съ нотами, остановился и взялъ въ руки первопопавшуюся тетрадь.
– Нельзя ли узнать другой причины? сказалъ Пустовцевъ.
– Можно, только я не совѣтовала бы вамъ.
– Вы этимъ больше возбуждаете мое любопытство.
– И вы не разсердитесь?
– Могу ли подумать?
– Вы невоздержны на языкъ, сказала Marie, и быстро повернувшись, пошла въ гостиную.
– Какъ дурно она воспитана! проговорилъ Пустовцевъ, презрительно пожавъ плечами и заложивъ руки въ карманы.
– Что, батенька Валеріанъ Ильичъ, видно щелкнула да и полетѣла! сказалъ Онисимъ Сергеевичъ, который вѣчно ужь слѣдилъ глазами за какою нибудь изъ своихъ дочерей; это не былъ ревнивый, подозрительный надзоръ, а простодушное любованье тѣмъ, что утѣшало и радовало преклоняющійся вѣкъ его, что еще ни разу не обмануло его надеждъ и ожиданій. – Вѣдь вотъ что значитъ на людяхъ-то! Развернулась себѣ, какъ ласточка, и вьется и щебечетъ. А кротость, ангельская кротость! Вонъ поглядите, она опять ужь съ Владиміромъ Петровичемъ.
Въ залу вошелъ Каначини. Онисимъ Сергеевичъ отправился къ нему навстрѣчу. Всѣ присутствовавшіе, и особенно музыканты, обратили на заѣзжаго гостя любопытствующіе взоры. Это былъ человѣкъ съ огромными претензіями на оригинальность; длинные волосы его, какъ видно, никогда не знали ножницъ и мотались космами до самыхъ плечей; маленькій галстучекъ едва охватывалъ длинную его шею; послѣдней моды фракъ застегнутъ былъ на среднюю пуговицу, которая не безъ умысла вдѣта была не въ соотвѣтствующую ей петлю, и отъ того одна половина фрака казалась короче другой. Самъ Пустовцевъ, не обратившій сначала на Капачини никакого вниманія и небрежно игравшій часовой цѣпочкой, посмотрѣлъ на него пристально, и потомъ отвернувшись съ насмѣшливой улыбкой, запѣлъ что-то подъ носъ себѣ.
– А мы безъ васъ ужь и на квартетикъ осмѣлились, сказалъ Онисимъ Сергеевичъ, представивъ гостя Соломонидѣ Егоровнѣ, которая на глубокій поклонъ его отвѣтила одва замѣтнымъ движеніемъ головы.
– Ja, quartetto.
– Ну да, свои, батюшка! Не взыщите, какъ умѣемъ.
– Умѣимъ-ja. Das ist ouverture?
– За границей не бывали.
– Са граница? Nein, ich hab' ihm nichgt gehört ca граница.
– Вы ужь намъ одни сыграете что нибудь.
– Нибуть-ja.
Онисимъ Сергеевичъ чувствовалъ себя въ крайне затруднительномъ положеніи. Онъ оглядывался по сторонамъ, какбы выбирая мѣсто, куда бы улепетнуть. Пустовцевъ видѣлъ это и хохоталъ безъ церемоній. Владиміръ Петровичъ подошелъ къ артисту и заговорилъ по нѣмецки. Бѣдный чужеземецъ обрадовался такой находкѣ и крѣпко пожималъ руку Софьина.
– Фу, чортъ побери! говорилъ Онисимъ Сергеевичъ:– ажно потъ прошибъ. Да гдѣ это Маша? Нѣтъ, чтобъ отца выручить!
– Чтожь тебѣ все Маша да Маша? сказала Соломонида Егоровна: Елена же тутъ.
– Елена, – ей говорить по нѣмецки только съ тобой да со мной, рѣзко отвѣчалъ Онисимъ Сергѣичъ. Гдѣ ты пропадала? продолжалъ онъ, останавливая Marie, которая несла какія-то поты.
– Я, папа, ходила къ себѣ въ комнату.
– Ходила, за чѣмъ?
– Взять ноты.
– Какія?
– Для пѣнья.
– Чтожь ты пѣть чтоль хочешь?
– Нѣтъ; Владиміръ Петровичъ хочетъ посмотрѣть…
– То-то посмотрѣть! А тутъ отцу-то по нѣмецкому пришлось было ломаться.
Капачиви сдѣлалъ громкій ритурнель. Всѣ усѣлись по мѣстамъ.
Заѣзжій артистъ, окинувъ торжествующимъ взоромъ всю честную компанію, пріударилъ всей десятерней по несчастной клавитурѣ, и шумный концертъ Тальберга разлился бурнымъ, стремительнымъ потокомъ. Исполнитель не жалѣлъ себя нисколько; онъ почти дрался съ клавишами, которыя кричали не своимъ голосомъ, точно стадо поросятъ, въ которое ворвался сердитый волкъ. Капачини приподнимался, перегибался то на право, то налѣво, взбрасывалъ длинныя космы свои, переходилъ въ самое несооствѣтственное прежнему шуму и гаму piano и опять вырывался съ раздирательными тушами, словно укушенный тарантуломъ. Все общество было очаровано, потому что эти господа иностранные артисты удивительно какъ ловко умѣютъ декорировать свое искусство, и какъ говорится, товаръ лицомъ показать. Можно держать сто противъ одного, что лучшій изъ нашихъ доморощенныхъ виртуозовъ спасуетъ передъ дюжиннымъ даже джентльменомъ, явившимся къ намъ изъ за-моря. Русскій человѣкъ робокъ, недовѣрчивъ къ самому себѣ и шарлатанить не мастеръ; все, что онъ умѣетъ, показываетъ натурой и тревожно ждетъ суда труду и искусству своему, усовершенствованіе котораго уже выше силъ его. Иностранецъ смѣлъ и самонадѣянъ до дерзости; онъ не боится строгаго приговора судей взыскательныхъ, ибо гордо считаетъ ихъ всегда ниже себя, ибо приговоръ этотъ скользитъ лишь по налощенной поверхности его искусства, не задѣвая души, которой иногда тамъ и вовсе не бываетъ. Усовершая то, что неизбѣжно требуетъ усовершенія, онъ снова убираетъ свое издѣліе въ нарядную мишуру, "на иншій только манеръ," и опять пускаетъ его въ ходъ, не боясь строгаго приговора взыскательныхъ судей.
– Браво, мусью, браво! Ихъ-данке, ихъ-данке! восклицалъ Онисимъ Сергеевичъ, пожимая руку Капачини. Славно отвалялъ, разбойникъ, чудесно, говорилъ онъ, обращаясь ко всѣмъ вообще.
– А дѣйствительно, артистически, подтвердилъ какой-то лысый и беззубый господинъ съ заискивающею расположенность усмѣшкою.
– На томъ ужь стоятъ эти нѣмцы! А какъ это у него тамъ выходитъ… и Онисимъ Сергеевичъ не объяснилъ ужь, что тамъ такое у него выходитъ, а изъ повертыванья пальцами нельзя было ничего угадать. – Славно, ей-богу, славно! Какъ разъ видно, что нѣмецкая штука, проклятый!
– Да, точно-съ, сказалъ тотъ же господинъ, фуроръ производитъ-съ,
– А вотъ, мусью, послушайте-ка, продолжалъ Онисимъ Сергеевичъ, взявъ за руку артиста, который собрался было утереть вспотѣвшій лобъ, – и Елена моя сыграетъ вамъ.
– Елена? Nein, ich spiel nicht.
– Чего тамъ нихтъ? я вамъ говорю, что сыграетъ Елена моя.
– Моя, ja.
– Моя, батюшка, моя! Дочь, дочь моя!
– Тошь, тошь, ja, ja.
– Толкуй тутъ больной съ подлекаремъ! сказалъ Онисимъ Сергеевичъ съ досадой.,
– Ахъ, папа, какъ же я стану играть? отозвалась Елена.
– Такъ, просто, садись да и играй. Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады. Ты только въ контрастъ ему, понимаешь, въ контрастъ. Онъ барабанилъ на пропалую, а ты что нибудь эдакъ мелодическое, по тихонечку. Пойдемъ-ка, мусью.
Онисимъ Сергеевичъ взялъ за руку Елену и Капачини и подвелъ ихъ къ фортепьяну.
– Сыграю сонату, сказала Елена, обращаясь къ отцу.
– Какую?
– Cis-mol.
– А чортъ ихъ знаетъ эти ваши цисмоли да цедуры! Ты мнѣ скажи: чья она?
– Бетховена.
– Cis-mol, Beethoven? отозвался Капачини. O, das ist gut, das ist sehr gut!
– Именно гутъ! Это музыка, батюшка, такая, что пальчики оближешь, ноготочки обгрызешь. Вуй, мусью?
– Ja, ja!
Елена усѣлась. Въ залѣ опять все притихло. Дивное созданіе Бетховена мало однакожь выиграло отъ игры доморощеной артистки. У насъ, къ несчастію, не достаетъ нѣмецкаго терпѣнія, чтобъ заняться чѣмъ нибудь серьезно. Мы любимъ такъ, чтобъ тяпъ да ляпъ, и вышелъ корабль. Елена играла недурно: но Моцартъ и Бетховенъ торопливо схватили бы съ пюльпитра безсмертныя творенія свои и крѣпко поссорились бы съ артисткой. Самъ Капачини поминутно стукалъ ногой, выбивая тактъ, который, вѣроятно, теряла Елена. Почтительное безмолвіе благосклонной публики нарушалось иногда нетерпѣливыми возгласами Капачини: forte, piano! Піэса однакожь дошла до конца благополучно. Капачини вѣжливо поклонился раскраснѣвшейся артисткѣ, а вся честная компанія осыпала ее привѣтствіями и благодарностями, въ которыхъ, разумѣется, искренности не было ни на волосъ. Племянничковъ особенно отличился при семъ случаѣ: диктаторскій тонъ и техническіе термины, съ намѣреніемъ пущенные имъ въ дѣло, обратили на него вниманіе самаго Капачини, который минуты съ двѣ не спускалъ глазъ съ Племянничкова, но потомъ улыбнувшись, отошелъ къ незанятому креслу. А Племянничковъ обратился съ панегирикомъ къ Соломонидѣ Егоровнѣ, и, какъ видно, попалъ здѣсь въ тактъ, потому что Соломонида Егоровна улыбалась ему весьма обязательно и чаще обыкновеннаго щурила узенькіе свои глазки, что, къ слову сказать, было, у ней выраженіемъ особеннаго удовольствія.
Въ продолженіи игры Елены, Софьинъ и Marie сидѣли отдѣльно отъ прочихъ, въ менѣе людномъ углу залы. Въ каждомъ движеніи молодой дѣвушки просвѣчивало нетерпѣливое любопытство. Она какъ будто торопила взорами игравшую сестру, и тотчасъ же, по окончаніи піэсы, обратилась къ Софьину.
– Какая досада! Вотъ уже въ другой разъ перебиваютъ разсказъ вашъ. То этотъ Пустовцевъ, то этотъ Капачини, то этотъ противный Бетховенъ!
– Такъ разсказъ мой занимаетъ васъ? сказалъ Софьинъ.
– Еще бы! Да еслибъ можно было, я увела бы васъ въ кабинетъ маменькинъ, чтобъ никто не мѣшалъ намъ.
– Благодарю, искренно благодарю васъ, Марья Онисимовна! Я вѣрю вашему непритворному участію, вѣрю душой моей; иначе она не раскрывалась бы предъ вами такъ беззавѣтно.
– Продолжайтежь, на чемъ бишь вы остановились?
– Я дошелъ до той минуты, когда, наслаждаясь всей полнотой счастья, не чаялъ я конца ему. Ахъ, Марья Онисимовна, если приведетъ васъ Богъ когда нибудь найти себѣ друга по сердцу, – большаго счастія я вамъ не желаю. Боюсь даже желать и столько, потому, что его слишкомъ много. Переполненный сосудъ всегда въ опасности пролиться, – а у васъ съ моей незабвенной подругой всего было такъ полно, такъ много, что израсходовать этотъ запасъ мало было двухъ человѣческихъ жизней. А между тѣмъ одна изъ этихъ двухъ жизней – та или другая – непремѣнно должна была остаться грустной свидѣтельницей прожитаго счастья… и осталась.
Владиміръ Петровичъ замолчалъ. Marie на минуту отвернулась въ сторону, и украдкой, какъ будто поправляя волосы, отерла глаза.
– Все таки, тихо сказала она, вы видѣли на землѣ счастье.
– Право, не знаю, что вамъ сказать на это. Я противорѣчу себѣ въ этомъ случаѣ; вырывается у меня слово о минувшемъ счастьи: но въ ту же минуту холодное размышленіе говоритъ мнѣ, что можетъ быть и я видѣлъ бы счастье, еслибъ оно было на землѣ.
– А развѣ его нѣтъ вовсе?
– Нѣтъ, и быть не можетъ! Васъ удивитъ это, но оно такъ есть. Не стану говорить вамъ о претендентахъ на счастье, условливающихъ его тѣми или другими благами; возмите вы самаго счастливѣйшаго въ мірѣ человѣка, который видитъ осуществленіе всѣхъ прекраснѣйшихъ надеждъ и желаній благородной души своей. Снаружи вы назовете его счастливымъ: но я не соглашусь съ вами и скажу, что онъ несчастливъ болѣе другихъ, если пользуется счастьемъ своимъ небезсознательно. Всякую минуту неизбѣжно тревожитъ его опасеніе потерять свое счастье; будущность, оставляя ему внѣшнія блага, пугаетъ отнятіемъ тѣхъ благъ, безъ которыхъ мертва душа его. Марья Онисимовна, счастье ли это?… И вотъ на какихъ счастливцевъ я былъ похожъ въ то время, когда жилъ съ моей незабвенной подругой! Я былъ точь въ точь узникъ, который, имѣя всего по горло, съ минуты на минуту ждетъ сѣкиры палача.
– Вы, однакожь, забыли разсказъ вашъ.
– Продолжаю. Но только позвольте мнѣ, Марья Онисимовна, пропустить грустныя страницы постигшаго меня несчастія. Я не въ состояніи описать вамъ мою потерю; иначе она была бы слишкомъ мелка и ограниченна, еслибъ могла поддаться моему или чьему-бы то ни было описанію. Довольно того, что я чувствовалъ ее всѣмъ существомъ своимъ, – а это много, слишкомъ много для земнаго горя; я чувствовалъ все это одинъ, – а это опять много, слишкомъ много для одного человѣка!.. Малютка сирота требовалъ моихъ попеченій: но гдѣжь мнѣ было управиться съ нуждами созданія, котораго я еще не научился понимать, если я плохо управлялся съ горемъ и тоской того, кого изучалъ съ самаго рожденія, если я потерялъ умѣнье ходить самъ за собой?..
– Гдѣжь теперь сынъ вашъ?
– У дѣдушки своего.
– Бѣдняжечка! Какъ бы мнѣ хотѣлось видѣть его!
Въ этихъ простыхъ словахъ была такая нѣжность, какою природа одарила только женщину.
Софьинъ тревожно взглянулъ на нее. Marie невольно покраснѣла.
– И вамъ нескучно безъ него? сказала она, отвернувшись немного.
– Спросите тѣло, разлучаемое съ душою, – тебѣ не скучно безъ нея? Спросите дикаря, насильно отторгнутаго отъ его вѣчно-зеленѣющейся родины, – тебѣ не скучно безъ нея? Спросите рыбу, вынутую изъ рѣки и брошенную на пылающій отъ зноя берегъ, – тебѣ не скучно безъ нея?.. Ахъ, Марья Онисимовна! Лучшая часть моего существа отлетѣла отъ меня навсегда; радость и утѣшеніе скорбной души моей не при мнѣ! Съ чѣмъ же остался я теперь, какъ не съ тоской, не съ грустью-давнишней спутницей моей жизни?… Вы задумались, Марья Онисимовна?
– Да, задумалась, а знаете ли о чемъ? О томъ, какъ должно быть любила васъ ваша Надина!